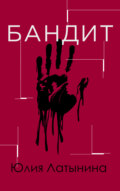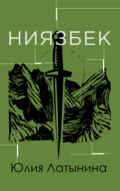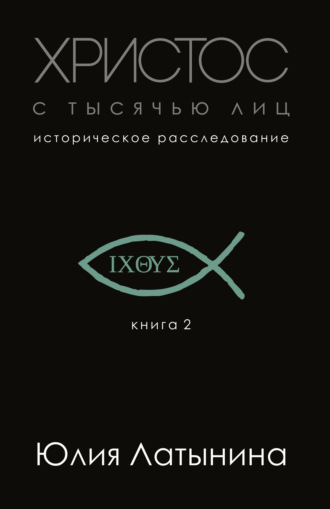
Юлия Латынина
Христос с тысячью лиц
Теология многоцветной одежды
Оставим ненадолго город Эдессу и вернемся к «Деяниям Фомы».
Мы уже отметили, что община «Деяний Фомы» кардинально отличается от протоортодоксов ритуалами. Но еще больше она отличается теологией.
Несмотря на то, что известные нам рукописи «Деяний» бесчисленное количество раз подвергались цензуре, несмотря на то, что их жгли, правили и снова жгли, – это отличие буквально бросается в глаза.
Иисус в «Деяниях Фомы» не умирал. Он пришел на землю не для того, чтобы смертью своей искупить первородный грех. Он пришел для того, чтобы дать людям знание.
Это знание о том, как познать Бога и стать Богом.
Это знание «О мире, который свыше, о Боге и ангелах, о стражах и святых, которые вкушают пищу бессмертных и пьют истинное вино, о одеянии, которое вечно и не старится, о вещах, которых не видело око, и о которых не слышало ухо, и которые не вошли в сердца грешников, о вещах, которые Бог приготовил тем, кто любят его»{140}.
Иисус «Деяний Фомы» – это «скрытая тайна, которая была открыта нам, тот, кто показал нам многие тайны»{141}. Он – тот, «кто незрим для очей нашего дела, но никогда не спрятан от духовных очей»{142}.
Мир для Иуды Фомы – это тюрьма, в которой бодрствуют только те, кто верят в Иисуса. Настоящая жизнь начинается после смерти на небесах, но святой, который не ест мяса, не пьет вина и воздерживается от секса, еще при жизни может сделать свое тело физическим вместилищем и храмом Христа.
Кроме этого Иуда Фома утверждает, что члены секты возносятся на небеса и становятся там ангелами. Они сбрасывают свою смертную одежду и обращаются в одежды славы, то есть в тела ангелов. Это учение об «одеянии, которое вечно и не старится», то есть об эфирном теле ангела, которое ждет праведника на небе, – есть центральная часть учения Фомы.
«Деяния Фомы» содержат в себе поразительный «Гимн Жемчужины» – изумительной красоты вставной текст. Очень вероятно, что текст этот был написан уже не раз упомянутым нами здесь Бардесаном – аристократом, великолепным стрелком из лука, товарищем детских игр, фаворитом царя Абгара VIII и магом.
«Гимн Жемчужины» – это возвышенный гностический текст о той самой душе, которая имеет небесного двойника, брата Христа, и которая забывает себя, упав с небес в плотскую грязь{143}.
Когда я был ребенком во дворце моего Отца, говорит «Гимн Жемчужины», и воспитывался в роскоши и богатстве, из Востока, из моей родной земли мои родители послали меня. Они совлекли с меня платье, расшитое драгоценными камнями и украшенное золотом, платье, которое они сотворили для меня, ибо любили меня, и они заключили Завет со мной, чтобы я не забыл своей родины, и послали меня в Египет за жемчужиной, которая покоится в море, обвитая ужасным драконом. И они сказали: когда ты добудешь жемчужину и возвратишься, ты опять «облечешься в свое драгоценное платье, и в тунику на нем, и вместе с братом твоим, второй нашей властью, станешь наследник нашего царства»{144}.
Но когда я пришел в Египет, – продолжает автор гимна, – я облачился в одежды египтян, чтобы не выглядеть чужаком, – и я попробовал их пищи, и я потерял память, «и забыл, что я царский сын, и я стал рабом их царю»{145}.
И я забыл о жемчужине, за которой отцы мои послали меня, и я ел их пищу, и пребывал в глубоком сне. И тогда родители мои написали мне:
«От отца твоего, Царя Царей, и матери, Царицы Востока, и брата твоего, второй нашей власти, нашему сыну в Египте – мир. Поднимись и проснись ото сна, и послушайся слов письма и вспомни, что ты сын царей, и вот, – ты под рабским ярмом. Вспомни о жемчужине, за которой ты послан в Египет. Вспомни роскошное твое одеяние и сверкающую тунику, которую ты наденешь и которой украсишься, когда имя твое будет написано в книге Жизни, и с братом твоим, нашим вторым царем, ты будешь в Нашем Царстве»{146}.
И сын Царя Царей прочитал письмо; и вспомнил свободу, и жемчужину, за которой он был послан в Египет, чтобы отобрать ее у дракона, и отобрал жемчужину, и вернулся домой, и совлек с себя грязное одеяние, и облачился в чудесную одежду, которую для него сшили родители.
«Но я не помнил формы ее. Ибо я был еще дитя, когда покинул дворец моего Отца, но вдруг, когда я увидел одеяние, – словно зеркало, оно казалось как я. И я увидел его все, целиком, и я видел в нем себя во всей полноте, ибо мы были разлучены, но одновременно мы были едины»{147}.
И – наконец – происходит кульминация всей песни. Ее герой находит жемчужину, поднимается во дворец своего отца и надевает свое многоцветное одеяние.
«Я надел его и вознесся в ворота мира и прославления, я склонил главу и прославил Славу моего Отца, который послал меня в мир, ибо я выполнил его волю и что он мне обещал, то он сделал»{148}.
В этом гимне, который поет Иуда Фома, он сам – а не только Иисус – является Христом. Это он – Сын Царя Царей и Царицы Востока, посланный в материальный мир, чтобы добыть жемчужину-спасение. Герой гимна Фомы не верит в то, что спасение заключается в физическом воскресении плоти. Наоборот, спасение заключается в том, что душа, освобождаясь от плоти, воссоединяется с Богом и надевает «многоцветное одеяние» – плоть ангела.
Такое же превращение происходит во 2 Еноха, где с Еноха, узревшего Бога, снимают его земные одежды и облачают его в ризы Славы Господней.
Такое же превращение происходит в «Вознесении Исайи», в котором вознесенный на небо пророк видит праведников, «избавленных от одежд плоти. И я видел их в их вышних одеждах, и они были как ангелы, стоящие в великой славе»{149}.
Это же превращение постоянно встречается в «Одах Соломона»: «И Господь обновил меня Своим одеянием, и Он овладел мной своим Светом» (11, 11–12). «Облачись в благо Господне, и войди в Его Рай, и свей себе венок с Его дерева» (20, 7). «Те, кто облачились в Меня… будут нетленными в новом мире» (33, 12).
Именно в таких же сверкающих эфирных одеждах стоят у престола Бога в Кумранских текстах «боги, подобные пылающим углям» (Q403 I, ii, 6), они же власти, стоящие у престола «царства святых Царя святости» (4Q405 23 ii).
И именно метафора «тело – это одежда, которую мы снимаем, чтобы стать ангелами» позволяет нам правильно истолковать одно из загадочных на первый взгляд изречений Евангелия от Фомы.
«Ученики его сказали: “В какой день ты явишься нам и в какой день мы увидим тебя?” Иисус сказал: “Когда вы обнажитесь и не застыдитесь и возьмете ваши одежды, положите их у ваших ног, подобно малым детям, растопчете их, тогда вы увидите Сына Живаго, и вы не будете бояться”» (Фм. 37).
Иисус в этом тексте отнюдь не рекомендует ученикам заделаться нудистами. Одежда, которую надо снять, – это плоть.
Именно неверие в спасение плоти, как главную ересь, ставит в упрек Бардесану, сплетателю лжи и вору заблудших овец, подобному прелюбодейке, грешащей в тайном покое, ненавидевший его и полемизировавший с ним в IV в. н. э. ортодокс Ефрем Сирин: этот сын Сатаны не верит в физическое воскресение!
«Ну и что с того?» – скажете вы. В конце II в. еретик Бардесан не верил в воскресение плоти, так же, как в него не верил автор 2 Еноха и «Вознесения Исайи», но нам-то что с того?
Как мы можем утверждать, что в воскресение плоти не верил сам Иуда Фома? Как мы можем утверждать, что это еще он рекомендовал «снять одежды», положить их у ног и растоптать?
Этого мы, разумеется, утверждать не можем. Но зато мы можем наверняка показать, что комплекс гностических идей, связанных с лицезрением Бога, преображением верующего в бога, и избавлением от плоти, и связанных с именем Иуды Фомы, начал развиваться среди верующих в Иисуса очень рано.
Наше главное доказательство тут – это не что иное, как «Евангелие от Иоанна».
А точнее, его знаменитая хрестоматийная сцена, в которой апостол по имени Фома отказывается верить в телесное воскресение Иисуса до того момента, когда он не сможет убедиться в этом опытным путем. Не поверю, – говорит Фома, – пока «не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его» (Ин. 20:25). Как известно, в «Евангелии от Иоанна» Фома оказывается посрамлен. Он-таки вкладывает свои персты в раны и руку в ребра и становится «не неверующим, но верующим» (Ин. 20:27).
Нетрудно заметить, что апостол Фома, который не верит в физическое воскресение Иисуса, стал героем этой истории не случайно. Автор «Евангелия от Иоанна» в этой истории спорит именно с теологией «многоцветной одежды». Он утверждает, что воскресение Иисуса было физическим. Он был не призрак, не бесплотный дух, не носитель высших эонов. Он не сложил одежды плоти у своих ног. Он воистину, физически воскрес. Глупый Фома, который отрицал это воскресение, был не прав.
Но это значит, что теология, с которой спорит автор «Евангелия от Иоанна», написанного в конце I в. н. э., уже существует.
Но, конечно, самое главное, самое неотменимое и самое бросающееся в глаза доказательство раннего характера гностических идей связано – как мы уже упоминали – с самим именем Иуды Фомы. Апостол по имени Иуда называл себя духовным близнецом Иисуса и делал это, очевидно, еще при своей жизни.
Иначе говоря, с его точки зрения, Христос был надмирный дух, который надел на себя, как одежду, тело человека Иисуса, а вот теперь он надел тело человека Иуды, и тот стал Фомой.
Именно поэтому Фому и продолжателей его традиции совершенно не интересовала форма канонического Евангелия, содержащая в себе историю земной жизни человека Иисуса. С самого начала их интересовали лишь высказывания духа Христа, – вне зависимости от того, какой из Христов их высказал. Сама форма «Евангелия от Близнеца», так же как и само прозвище Близнец являются зримыми доказательствами чрезвычайно ранней гностической составляющей веры в Иисуса.
Реальная биография Иуды Фомы
Итак, на основании «Деяний Фомы» мы можем предположить довольно много о ритуалах и теологии почитавшей его общины. Но что мы можем сказать о реальном, живом, из плоти и крови, апостоле Иуде Близнеце, проповедовавшем и жившем в первой половине I века?
С одной стороны – вроде бы ничего. Мы можем быть уверены, что апостол Иуда Близнец никогда не строил дворец царю Гундафору, и если он и был пронзен четырьмя солдатскими копьями, то не из-за того, что отговорил супругу царя Миздая от телесной близости с мужем.
С другой стороны – немало.
Мы видим перед собой сурового, фанатичного аскета, который не ел мяса и не пил вина. Он запечатывал своих последователей дважды: один раз – водой и другой – священным елеем. Эта печать даровала им неуязвимость, которую там впечатляюще продемонстрировал сам апостол Фома, когда раскаленное железо не причинило его ногам никакого вреда. Он познал Христа и стал Христом. Его последователи называли его богом. Его лицо сияло при жизни, как лицо Моисея и Еноха.
Он проповедовал чрезвычайный аскетизм и, возможно, способность души освободиться от уз плоти. Для него, как и для Елеазара бен Яира, вождя сикариев, душа была «родственница Бога».
После беспорядков, произошедших прямо на ступенях Храма и кончившихся появлением Сенатусконсульта против «христиан», Иуда Фома бежал за границу империи, в земли, где жило огромное количество евреев. Он действительно проповедовал их царям. Эти земли говорили на арамейском языке, эти земли вслед за Иудеей были следующим объектом римской экспансии, и поддержка иудейских милленаристов была для правителей этих земель естественной стратегией выживания.
Многие жители этих земель были такие же семиты, как те, которые населяли Галилею и Идумею и которые были необыкновенно легко обращены в иудаизм. Эти семиты исповедовали религию, мало отличающуюся от домонотеистического яхвизма.
Нет ничего удивительного в том, что проповеди милленаристов в этих землях имели успех, и проще всего предположить, что лидером нацрайе Эдессы и был Иуда Фома, как это гласила местная эдесская традиция. «Нет никакого сомнения, что эта традиция имела свое первоначальное происхождение в реальной исторической миссионерской деятельности этих апостолов в тех регионах, в которых сохранились их имена»{150}.
Гибель апостола Иуды Фомы
Итак, у нас есть две легенды. Одна – это христианская легенда об обращении в 30-х годах в христианство Абгара, царя Эдессы. Другая – это иудейская легенда об обращении в иудаизм в то же время царя Адиабены Изата и его матери Елены.
Мы склонны предполагать, что обе эти истории описывали одну и ту же ситуацию, а именно, покровительство, которое набатеи, эдессцы, адиабенцы и парфяне оказывали религиозным врагам Ирода и римлян. Эдесса и Адиабена были расположены на одном и том же торговом пути, тесно кооперировались друг с другом (например, в 194 г. н. э. при нападении на римский Нисибис), и обе династии были связаны родственными узами. Мы знаем, например, что однажды в Эдессе шестнадцать лет правил «Ману, сын Изата», прервавший своим царствованием бесконечную череду различающихся только номерами Абгаров, – он был, видимо, сыном царя Адиабены{151}.
У нас есть также две разных легенды о рассеянии апостолов. Согласно каноническим «Деяниям апостолов» верующие после гонения, «бывшего после Стефана», отправились по городам и весям Римской империи и «прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме иудеев» (Деян. 11:19).
Согласно другой версии, которая неохотно и без большого энтузиазма упоминается Евсевием Кесарийским, святые апостолы рассеялись по всей земле, и при этом Фоме по жребию «выпала Парфия»{152}.
Классическая библеистика XIX в., библеистика «маленького ручейка», именно первую версию признавала правильной, а вторую относила на счет неизбежного христианского преувеличения и хвастовства, – но, если подумать, вторая версия намного логичней.
Совершенно непонятно, зачем беглецам из подконтрольного римлянам Иерусалима, говорящим на арамейском и проповедующим только иудеям, бежать за семьсот с лишним километров в грекоговорящую и римлянам же подвластную Антиохию. Арамейская Эдесса, находившаяся почти на том же расстоянии, но за пределами империи, выглядела для многих из беглецов куда более логичным пунктом назначения.
Милленаристы бежали за Евфрат и еще по одной простой причине: они надеялись вернуться.
Любая секта, потерпевшая временное поражение, имеет два шанса восстановить свое влияние. Один – это поднять новое восстание. Другой – увеличивать численность, вербуя во время мира новых сторонников. Вербовка происходит прежде всего за счет того, что секта забирает имущество у своих богатых покровителей и раздает их бедным – ровно так, как это делал апостол Фома, строя царю Гундафору дворец.
Особенно тут способствуют всякие природные бедствия – землетрясения, голод и пр. Их, во-первых, всегда можно объяснить гневом Бога (причина для гнева найдется всегда), а во-вторых, раздача продовольствия голодающим является непревзойденным способом вербовки.
Именно такой голод разразился в Палестине в царствование императора Клавдия, то есть после 44 г. н. э. Христианская община не замедлила им воспользоваться и, согласно «Деяниям апостолов», собрала «пособие братьям, живущим в Иудее» (Деян. 11:29).
Что еще интереснее, именно этот голод и вызвал приезд царицы Елены в Иерусалим. Согласно Иосифу Флавию новообращенная назорейка, узнав о голоде, отрядила людей для покупки хлеба в Египте и фиников на Кипре, а сын ее дополнительно послал в Иерусалим много денег. «Распределенные среди нуждающихся, эти суммы спасли многих от жестоких мучений голода»{153}.
Раздачи продовольствия привели к росту популярности секты, и в 46 г. н. э. в Иудее вспыхнуло новое восстание.
Во главе его стоял некий пророк, обещавший своим приверженцам раздвинуть воды Иордана, так же как в древности это сделал Иисус Навин. Иосиф Флавий именует его «гоисом» (γόηс), то есть колдуном, волшебником.
Гоис – это стандартный термин, которым Иосиф называет пророков «четвертой секты». Это также тот самый термин – колдун, обманщик, волшебник, – которым апостола Иуду Фому в «Деяниях Фомы» постоянно именуют его враги.
«Он выдавал себя за пророка и уверял, что прикажет реке расступиться и без труда пропустить их», – пишет Иосиф{154}. Вместо расступившихся вод бунтовщиков встретила римская кавалерия, и голова гоиса была выставлена в Иерусалиме в назидание другим бунтовщикам.
Как звали нашего гоиса?
Согласно единственному упоминанию, сохранившемуся о нем в «Иудейских древностях», его звали Феуда. Роберт Эйзенман считает, что Феуда – это и есть Иуда Фома.
В таком случае биография апостола Иуды Фомы получает логическое завершение.
После казни Иисуса и разгрома возглавленного им восстания часть его сторонников сбежала в арамейскоговорящие земли, лежавшие за Евфратом. Это были люди влиятельные (см. историю о «иудейском вельможе Товии»), вооруженные и, несомненно, фанатики. Их предводитель называл себя новым Христом.
Цари этих земель покровительствовали секте. Благотворительная деятельность адиабенской династии в Иудее, как мы знаем, не ограничивалась раздачей продовольствия. Спустя двадцать лет эта благотворительность кончилась участием Монобаза и Кенедая, а также множества неназванных «родственников и детей» царя Изата в Иудейской войне.
Возможно, первая попытка развязать такую войну имела место в 46 г. н. э., сразу после того, как умер последний формально независимый царь Иудеи, Ирод Агриппа, и территория снова перешла под прямой контроль римлян. Для милленаристов это было страшное оскорбление, а для правителей Эдессы и Адиабены – признак того, что они следующие в очереди.
Мощные продовольственные вливания из-за Евфрата способствовали росту популярности секты, и в первую очередь того ее предводителя, который имел базу в тех краях, то есть Иуды Фомы. В 46 г. н. э., набрав достаточно сторонников, он поднял восстание, был разбит войсками Куспия Фада, захвачен в плен и казнен.
Статус «духовного близнеца», на который претендовал Иуда, ставит перед нами еще одну огромную проблему.
Мы очень плохо знаем подлинную историю эволюции веры в Иисуса за Евфратом. Но мы зато очень хорошо знаем, кто был тот человек, который – несмотря на всю цензуру, которой он подвергнут в Новом Завете – руководил Иерусалимской церковью в течение тридцати лет, до 62 г. н. э., пока его не сбросили по приговору Синедриона со стены Храма.
Это был физический брат Иисуса, Иаков, по прозвищу Цадок, фанатик, не евший мяса и не пивший вина, – ее Папа, ее Первосвященник, ее абсолютный владыка, тот человек, о конфликте с которым глухо говорят письма апостола Павла, тот, чьи эмиссары, видимо, и били Павла по всем городам империи от Листры до Фессалоник за неправильную интерпретацию идей вождя.
Каковы были в таком случае отношения физического брата и духовного близнеца?
Как мы уже отмечали, «Евангелие от Фомы» хорошо помнит о первенстве Иакова и считает, что после того, как Иисус оставит паству, ее лидером будет «Иаков Праведник, ради которого были созданы Небо и Земля» (Фм. 12).
Однако несложно также заметить, что титул Иуды представлял собой плохо скрытую полемику с притязаниями Иакова. Иаков был физический брат Иисуса. Иуда Фома – поднимай выше – был его духовный близнец.
Теология духовного близнеца представляла для Иакова как минимум потенциальную проблему. Если каждый Лжец начнет заявлять, что он стал Христом, – что будет с организацией и иерархией?
Роберт Эйзенман, представивший публике нетривиальную и резко расходящуюся с обычной трактовку кумранских текстов, полагает, что Кумран контролировался именно партией Иакова Праведника. И что когда «Дамасский документ» – один из главных текстов Кумрана – говорит о некоем Лжеце, который увел с собой часть общины, то «Дамасский документ» имеет в виду Павла.
Однако Лжец – понятие безразмерное. Лжец, он же Диавол, он же Псевдомартус, он же Еретик, – это любой, кто отклонился от генеральной линии партии. Точно так же, как ригидное доктринерство марксистов сопровождалось постоянными расколами, – точно так же и сверхжесткая иерархия зилотов постоянно сопровождалась появлением все новых и новых Лжецов. Иуда Фома, пользовавшийся поддержкой арамейскоговорящей общины за Евфратом, был в начале 40-х гг. куда более весомым кандидатом на роль Лжеца, чем отщепенец Павел.
Возвышенная теология Иуды Фомы могла иметь в своей основе обыкновенное политическое соперничество. В основе мистического тезиса о том, что Христом может стать каждый, лежала война за влияние. И если это так, то гибель Иуды Фомы имела одно важное следствие: она способствовала концентрации власти в руках Иакова Праведника.
Мы не претендуем на то, что реконструкция наша полностью достоверна, – в ней слишком много дыр, белых пятен, лихих отождествлений и неоправданно спрямленных углов.
Мы едва-едва коснулись истории арамейскоговорящих последователей Иисуса за Евфратом – вернемся к этой истории в рассказе о манихеях и эльхасаитах. Мы преследовали в этой главе цель показать две важных вещи.
Первое: география распространения раннего христианства несовместима с теорией «маленького ручейка», а разногласия между сектантами не ограничивались спором между Иаковом Праведником и апостолом Павлом.
Второе: «Евангелие от Фомы» сохранило для нас некоторые очень ранние изречения, не вошедшие в канонические грекоязычные Евангелия. Оно было «прямым и почти неразрывным продолжением учения самого Иисуса, не имеющим параллелей в канонической традиции»{155}.
Учитывая тот факт, что эти изречения имели протогностический характер, утверждение римской церкви о том, что гностицизм был «поздней ересью», вряд ли могло быть правдой.
Апостол Иуда Фома, современник и ученик Иисуса, считавший себя новым воплощением Мессии, был, с точки зрения не существовавших еще ортодоксов, еретиком и гностиком.
Но был ли он единственным гностиком в своем поколении?
Продолжим рассказ.