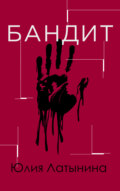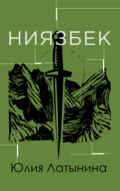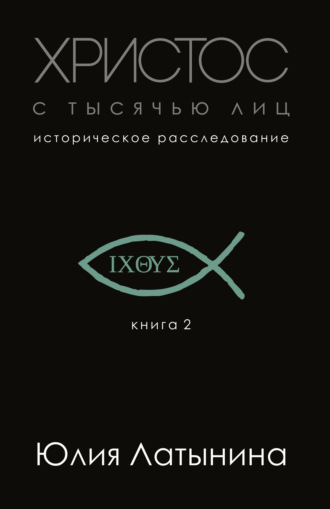
Юлия Латынина
Христос с тысячью лиц
Эдесса
Эдесса, как мы уже сказали, представляла собой практически город-государство, плодородный оазис в верховьях Евфрата. Человеческие поселения существовали в этих местах очень давно, но как стратегически важный объект, Эдесса де-факто была основана Селевкидами. Однако уже в 130-х гг. до н. э. она отпала от греческого царства, обарамеилась и обзавелась династией собственных арабских царей, самой примечательной чертой которой было их имя: этих царей почти неизменно звали Абгар.
Если мы посмотрим на карту Римской империи в I в. н. э., то мы увидим, что вся Эдесса, а также прилегающие к ней Адиабена и Армения, и город Нисибис, и вся Месопотамия являются либо частями Парфянского царства, либо его вассальными государствами.
А если мы посмотрим на карту Рима спустя три века, то в ней все эти земли окажутся либо частями империи, либо, в случае Армении, глубоко вассальным царством.
Иначе говоря, в I в. н.э все эти земли были фронтиром. Это был широкий фронт, по которому наступала Римская империя, и все упомянутые нами царства – и Эдесса, и Адиабена, и Армения – были местом прокси-войн между двумя сверхдержавами тогдашнего мира, Римом и Парфией.
Обычно мы смотрим на этот регион глазами наступающих римлян, потому что мы все-таки, как ни крути, культурные наследники римлян, а не парфян. Давайте, однако, изменим ракурс и посмотрим на происходящее глазами местных владык – царя Адиабены Изата, который принял воинствующий иудаизм, и царя Эдессы Абгара, который якобы принял христианство.
Они жили на границе огромного монстра, который все время расширялся. Их прежним сувереном было рыхлое парфянское царство, царь которого назывался Царем Царей. Это величавое на первый взгляд прозвище проистекало именно от чрезвычайно слабого контроля парфян за подведомственной территорией. Оно значило, что на территориях, формально подвластных парфянам, существовали и другие цари, подчиненные парфянскому Царю Царей ровно в той степени, в которой он мог их к этому принудить.
Царские династии Эдессы и Адиабены были арабского происхождения. Их подданные говорили на арамейском, абсолютное большинство населения составляли семиты, среди них жило множество евреев.
Римская империя – монстр, наползавший на эти земли, который грозил поглотить этих царей, лишить их земли, царства, статуса и даже жизни.
Однако у римского монстра имелась огромная проблема. Совсем недавно он поглотил другую населенную семитами землю – Иудею, и она у него плохо сварилась. Она бурчала в желудке. Каждые 20 лет там происходило по восстанию, то против Ирода, то против самих римлян. Эти восстания устраивала некая могущественная секта, которой руководил (или которая ждала) Мессию из рода Давидова. И эмиссары этой секты после разбитых восстаний наводняли Эдессу и Адиабену.
Что бы вы делали на месте царей Эдессы и Адиабены?
Ответ: конечно, вы бы маневрировали между двумя сверхдержавами, пытаясь изо всех сил сохранить независимость, и при определенных условиях вы бы, несомненно, поддерживали еврейских милленаристов.
Именно это и происходило в I в. н. э. в Верхней Месопотамии.
Помпей создал римскую провинцию Сирия в 64 г. до н. э. Эдесса после этого стала соседом Рима, и очередной эдесский Абгар поспешил заверить римлянина в дружбе.
Через десять лет он принял на себя почетную обязанность проводника войск Красса, жаждавшего стяжать славу в войне с парфянами. Римские легионы, однако, были плохо приспособлены для войны в пустыне, в которой легкие парфянские лучники имели серьезное преимущество перед пешими, тяжело передвигающимися по жаре легионерами.
Трезво оценив возможности легионеров, Абгар переметнулся на сторону парфян, и «прежде чем его предательство обнаружилось, ускакал, не таясь от Красса, а уверив его в том, что хочет подготовить ему успех и спутать все расчеты неприятеля»{85}. Скакать Абгару было недалеко: Карры, где Красс и римское войско сложили головы, находились в 40 км от гостеприимной Эдессы.
Спустя сотню лет история повторилась. В 49 г. н. э. другой Абгар с восточной роскошью принял у себя римские войска, везшие в своем обозе некоего Мегердата – кандидата на трон Армении{86}. Пропировав всю зиму, Абгар с Мегердатом отправились в Адиабену к нашему старому знакомцу – царю Изату, и наконец, переправились через Тигр, где и столкнулись с парфянским войском. Перед решающим сражением оба царя, и Абгар, и Изат, сбежали. Парфяне разбили римские войска, а Мегердат, бывший родственником парфянского царя, отделался отрезанными ушами{87}.
Надежду овладеть Арменией римляне не оставили, и спустя девять лет они все-таки посадили на ее трон своего царя, предварительно произведя ее зачистку войсками Корбулона. Царя звали Тигран, и примечательно, что он был внуком Ирода Великого.
«Тиграну дали охрану из тысячи легионеров, двух союзнических когорт и двух отрядов вспомогательной конницы, и, чтобы ему было легче удерживать за собою новый престол, определенным частям Армении, смотря по тому, к чьим землям они примыкали, было велено повиноваться Фарасману, Полемону, Аристобулу и Антиоху»{88}.
Следующей мишенью римлян стала Адиабена. Тигран – со своей тысячью легионеров и двумя союзническими когортами – немедленно вторгся в нее, вероятно, желая присоединить к своим владениям{89}.
Фактически это была прокси-война: Рим и Парфия выясняли отношения в Адиабене. Рим начал собирать на сирийской границе войска, которые, вероятно, и прибрали бы к рукам владения Изата, не разразись в это время Иудейская война. Войска были переброшены из Сирии в Иудею, и в результате родственники царя Изата, Монобаз и Кенедай, встретились с римлянами не под Арбелами, а под Бейт-Хороном.
История о вторжении римских легионов в Адиабену в начале 60-х гг. заставляют нас совершенно по-новому отнестись к рассказам о том, что царь Адиабены принял иудаизм и что царь Эдессы покровительствовал апостолу Иуде Фоме. Мы вдруг понимаем, что у них были серьезные геополитические резоны. Поддерживать иудейских милленаристов было для государств, находящихся по другую сторону римской границы, лучшей стратегией для собственной безопасности.
Благодаря этой поддержке прокси-война между Римом и Парфией, которую Рим надеялся вести на территории Адиабены, разразилась на территории Иудеи, и мы можем быть уверены, что адиабенским царям это было куда приятней. Тем более что в случае победы они вполне могли рассчитывать на венец Иудеи.
Иудейская война закончилась для евреев чудовищным поражением, но для парфян она была несомненным плюсом. Именно она остановила неуклонное расширение Рима на восток.
Это положение дел сохранялось до самого 115 г. – когда император Траян начал стремительную и победоносную кампанию против Парфии.
Кампания Траяна не имела параллелей в римской истории; она, казалось, была реваншем за унизительные поражения Красса и Марка Антония. Впервые римские легионы били парфянских всадников; впервые войска Рима захватили Ктесифон и вышли на берег Красного моря.
Траян продвинулся на восток дальше, нежели Александр Македонский, и сенаторы в Риме не были в состоянии ни поспеть за перечнем покоренных им народов, ни даже правильно их поименовать{90}. От Красного моря Траян поплыл к океану. Это был первый – и последний – момент в истории Рима, когда империя простиралась от Северного моря до Индийского океана.
Войска Траяна захватили Нисибис, разграбили Эдессу, Селевкию и Арбелы. Парфянское царство – вторая сверхдержава Ближнего Востока, доставлявшая римлянам столько хлопот, уже была практически уничтожена, когда в этих, уже покоренных, городах вспыхнуло восстание.
Однако это не было восстание парфян. Это было восстание иудеев.
Главными его центрами стали Нисибис, Эдесса, Селевкия и Арбелы – города с большим количеством иудейского населения. Мы можем легко предположить, что значительной частью этого иудейского населения были те самые милленаристы, которые сбежали от римлян, презрительно называемых ими киттим, за границу империи и были не очень счастливы, когда киттим настигли их снова. Во всех этих городах иудеи вырезали римские гарнизоны и захватили власть, а вслед за этим иудейские восстания вспыхнули в Киренаике, в Египте и на Кипре.
Восстания, разразившиеся в далеком тылу, были для римской армии стратегической катастрофой. Траян был вынужден срочно отвлечь на их подавление значительную часть своих войск.
Мы не знаем, что случилось с династией Монобаза после Иудейской войны, но есть основания полагать, что она была свергнута в 117 г. генералами Траяна после подавления восстания в Арбелах и бежала в Армению, где, возможно, она упоминается Мовсесом как род Аматуни, происходящий из иудеев{91}.
В 194 г. Адиабена и Осроена объединились и атаковали римский гарнизон, стоявший в Нисибисе с 160 г.{92}. Время они выбрали неудачное. На римский престол в это время взошел профессиональный солдат Септимий Север, немедлено отправившийся «из-за жажды славы в поход против варваров – осроенов, адиабенов и арабов»{93}.
Север откусил от владений царя Эдессы (его снова, как легко догадаться, звали Абгар) огромный кусок, а сам царь начал чеканить монеты с самим собой на одной стороне и с Септимием Севером на другой{94}.
Это был тот самый царь Абгар VIII, придворным, фаворитом и товарищем детских игр которого был знаменитый эдесский гностик Бардесан.
Окончательно инкорпорировал Эдессу в империю сын Септимия Севера, капризный и недалекий император Каракалла. Не обладая военными талантами отца, он справился с очередным Абгаром (за номером девять) куда более простым образом.
«Антонин обманул царя Осроены Абгара, ибо пригласил его к себе как друга, а затем взял под стражу и заточил в темницу и таким образом овладел Осроеной, оставшейся без царя»{95}.
Это окончательное преобразование Эдесского царства в провинцию Осроену обернулось трагедией для Бардесана. Он бежал из Эдессы в Армению и, укрывшись в горной крепости Ани, написал, между прочим, историю Армении{96}. С этого момента и до VII в. Эдесса надолго стала частью Римской империи и стратегическим римским центром в Месопотамии.
Церковь в Эдессе
Представитель той христианской церкви, которая впоследствии стала господствующей в Римской империи и которая сама себя называла «кафолической», то есть всеобщей, и «ортодоксальной», то есть правоверной, появился в Эдессе около 200 г. н. э. почти одновременно с войсками Севера. Это был некто Палут, рукоположенный антиохийским епископом Серапионом.
К своему удивлению – и, вероятно, огорчению, – Палут застал в городе великое множество верующих в Иисуса Христа сект. Все они говорили на арамейском языке, то есть на том же самом, что и сам Иисус. Последователи Палута долго находились среди этих страшных еретиков в меньшинстве и получили от них презрительную кличку «палутиане».
Ситуация начала исправляться только в IV в. н. э., когда ортодоксальное христианство стало сначала господствующей, а потом, с 380 г., – единственной разрешенной религией империи. В 411 г. епископом Эдессы стал некто Раббула. Методы, употребленные Раббулой для расправы с еретиками, мало отличались от тех, которыми впоследствии инквизиция расправлялась с альбигойцами и катарами. Он конфисковывал их имущество, сжигал книги и не брезговал натравливать на «еретиков» воинствующих фанатиков.
«Силою Бога этот славный соратник Иисуса Христа смог тихо уничтожить дома их собраний и взять и принести все их сокровища в свои церкви, пока даже и камни их он не взял для своего пользования… Тысячи евреев и мириады еретиков он обратил в веру Мессии за время своего священничества», – с нескрываемым восхищением сообщает «Жизнь Раббулы»{97}.
Рвение Раббулы было тем более сильным, что императорская власть к этому времени сильно ослабела, и епископы были де-факто теократическими правителями городов. Чем меньше в этих городах было еретиков и язычников, тем абсолютней была их власть.
Помимо прямого истребления еретиков, Раббула вел с ними нешуточную идейную полемику. Важнейшим инструментом этой полемики стал сочиненный при Раббуле текст под названием «Доктрина Аддая»{98}.
Это был очень трогательный текст, включавший в себя ни более ни менее как переписку Иисуса с царем Эдессы Абгаром. Абгар в этой переписке предлагал Иисусу защитить его от кровавых евреев, которые вот-вот должны были его распять. В «Доктрине Аддая» также говорилось, что после смерти Иисуса апостол Фома прислал в Эдессу своего ученика Аддая, учеником которого и был Палут. (Тот самый ортодокс Палут, который, напомним, появился в Эдессе около 200 г. и ученики которого долго назывались «палутиане».) А человек, в доме которого остановился Аддай, был некто Товия, иудей.
Поздний этот текст, как фальшивка, драгоценен для нас следующим: дело в том, что его мишенью являются почти все крупные группы «еретиков», жившие в то время в Эдессе.
Кто же были те «еретики», которыми кишела Эдесса?
Кому принадлежал храм, уничтоженный наводнением в 201 году?
Один из них, как легко может догадаться читатель, был уже неоднократно упомянутый нами Бардесан – аристократ, товарищ детских игр и фаворит царя Абгара VIII.
Учение Бардесана было не просто популярно в Эдессе. «Жизнь Раббулы» сетует на то, что Бардесан «прельстил сладостью своих гимнов всю знать города»{99}. А один из немногих текстов школы Бардесана, которые до нас дошли под названием «Книга законов стран», даже утверждает, что Бардесан обратил в свою веру царя Абгара. Таким образом, он был не только его фаворитом, но и духовным наставником.
На первый взгляд это сообщение может показаться странным. Каким образом царь языческой Эдессы, в которой стояли храмы Небо и Белу, в которой в священных прудах, посвященных Атаргатис, плодились неприкосновенные карпы с плавниками, украшенными драгоценностями, в которой веровали в арабских богов-близнецов Азиза и Монима, в Утреннюю и Вечернюю Звезду, мог уверовать в Иисуса?
Однако мы должны учитывать тут две вещи.
Во-первых, вера Бардесана кардинально отличалась от той, которую исповедовала римская церковь. Для римской церкви, преследуемой государством, все достижения Рима и Греции, все их статуи, боги, портики, колоннады, философия и искусство было делом рук Сатаны. Они должны были быть истреблены и разбиты, а приверженцы их – обращены в истинную веру. Не то Бардесан: его вера была, по существу, набором эзотерических духовных практик, обещающих слияние человека с Богом, и Бел с Атаргатис были ей не помеха, тем более что Бардесан не отрицал существования всяких малых богов – он просто считал, что человек стоит выше их в порядке творения.
Кроме этого боги Эдессы довольно сильно отличались от римских. Дело в том, что это были прежде всего семитские боги. Для семитских религий, при всем их многобожии, было характерно почитание божественной Триады – Бога-Отца, Богини-Матери и Бога-сына. Например, в Хатре это были Марен (Господь), Мартен (Госпожа) и бар-Марен – их Сын{100}. В Эдессе это были Бел, космократор, главный бог вавилонского пантеона, творец неба и земли, супруга Бела Атаргатис и их сын Небо – посредник между Белом и человечеством{101}.
Именно такие отношения, вероятно, связывали в домонотеистическом яхвизме верховного Бога Эля, его супругу Ашеру и их сына Яхве, и именно так и представлял себе Бардесан происхождение Иисуса Христа.
«Нечто излилось из Отца Жизни,
И Мать забеременела таинством рыбы и родила его,
И он был назван Сыном Жизни»{102}.
Мы не можем приписать «Евангелие от Фомы» Бардесану, родившемуся в 154 г. Оно было написано незадолго до его рождения. Вероятно, оно было одной из книг, на которых он воспитывался, и, вероятно, именно община, к которой принадлежал Бардесан, почитала Фому как одного из своих основателей. Но мы с большой вероятностью можем приписать Бардесану «Оды Соломона» – написанные в Эдессе великолепные гностические тексты, повествующие о вознесении на небо и слиянии с богом. Так же, как и «Евангелие от Фомы», «Оды Соломона» характеризуются полным отсутствием интереса к земной жизни Христа и столь же полной терпимостью.
Как можно заметить, ортодоксальная фальшивка под названием «Доктрина Аддая» была направлена, в том числе, против бардесанитов и их апостола Иуды Фомы. Она утверждала, что Иуда Фома никогда не был в Эдессе – и мало ли, что Эгерия видела там его гробницу! Она утверждала, что человек, который принес христианство в Эдессу, был некий Аддай.
Кроме этого «доктрина Аддая» была направлена против манихеев, которых в Эдессе было также превеликое множество. Об основателе манихейства, пророке Мани, который родился в 216 г., мы поговорим в этой книге позже, а сейчас заметим, что человек по имени Аддай был одним из знаменитых сподвижников Мани. Церковь, по-видимому, экспроприировала его себе, да еще и объявила его наставником Палута{103}.
Еще одним знаменитым сирийским «еретиком» был Татиан (120–180 гг.). В отличие от Бардесана, Татиан был тесно связан с Римом – он долгое время жил в столице империи и даже был учеником главного идеолога (если не основателя) ортодоксии – Юстина Мученика. Именно Татиан, вернувшись в Сирию, принес туда римские Евангелия. До этого арамейскоговорящие последователи Иисуса, судя по всему, не особенно интересовались его земной жизнью, предпочитая сборники изречений вроде «Евангелия от Фомы». Из четырех (или трех) Евангелий Татиан сделал одно – так называемый «Диатессарон». «Диатессарон» и был главным сирийским Евангелием до самого V в. н. э. Раббула и его подчиненные уничтожали «Диатессарон» с тем же рвением, с которым средневековые христиане жгли Талмуд. Теодорет Кирский с гордостью повествовал, что только в его маленьком диоцезе было обнаружено и изничтожено 200 копий еретического творения{104}.
Главное, что ставила церковь в вину Татиану, был энкратизм, или, проще говоря, чрезмерная аскеза. Татиан (как и апостол Фома) учил плотскому воздержанию. Аскеза и безбрачие были стандартной составляющей сирийского христианства, и в нем с самого начала существовал институт «сынов Завета» и «дочерей Завета», будущих монахов и монахинь{105}. «Деяния Фомы» объясняют нам причину этого аскетизма. С точки зрения сирийских последователей Иисуса, именно умерщвление плоти позволяло сделать свое тело Храмом Божиим, достойным сосудом, в который мог сойти Христос. Абы в какой храм – неубранный, загаженный, погрязший в еде и сексе – Христос не сходил.
Кажется очень странным, что во II в. н. э. римская церковь считала аскетов – еретиками. Но дело в том, что во II в. н. э. в Риме церковь часто проповедовала богатым матронам и придворным вольноотпущенникам, и эта часть населения была не совсем склонна к аскезе. Ситуация изменилась в IV в. н. э., когда церковь пришла к власти, и оказалось, что старые девы, умирающие без потомства, охотно завещают свое имущество церкви. С этого момента ортодоксы стали горячими поклонниками аскезы, но Татиан так и остался еретиком.
Кроме манихеев и бардесанитов, в Эдессе, если верить «Житию Раббулы», свирепствовали греховные учения маркионитов, борборитов, аудиан (эти гнусные еретики праздновали Пасху 14 нисана, как и сам Иисус, в то время как церковь в IV в. н. э. по указу Константина стала праздновать ее в соответствии с солярным календарем) и загадочных мессалиан, которые учили мистическому единению с богом и имели священниками как мужчин, так и женщин.
И бардесаниты, и мессалиане, и аудиане – все они были представителями чисто сирийского, местного, арамейскоговорящего христианства, не имевшего аналогов в других частях империи. Однако несложно заметить, что все они не были и не могли быть первоначальной формой христианства в Эдессе. Они могли развиваться параллельно римской церкви, но никак не были ее предшественниками.
Однако «доктрина Аддая» полемизирует не только с ними. Одной из ее главных мишеней являются проклятые евреи – убийцы Христа.
«Также слышал я еще и то, что иудеи ропщут на тебя, и преследуют тебя, и хотят тебя распять, и смотрят, (как бы) навредить тебе. У меня есть один маленький и прекрасный город, достаточный для двоих, чтобы жить в нем в мире», – пишет в этом тексте царь Абгар Иисусу{106}.
При этом, несмотря на ее звериный антисемитизм, «доктрина Аддая» сообщает, что главой церкви после смерти Иисуса стал некто Иаков, а апостол Аддай по приезде в Эдессу остановился у некоего иудея Товии. Мовсес Хоренаци в своем изложении этой легенды называет этого Товию «иудейским вельможей, который в свое время скрылся от Аршама и не отступился от иудейства, а остался верен его законам, пока не уверовал в Христа»{107}.
Это заставляет многих исследователей предполагать, что «иудей Товия», местный союзник апостола Иуды Фомы, способствовавший развитию в Эдессе веры в Иисуса, принадлежит к довольно ранним и аутеничным пластам легенды о царе Абгаре. Легенда эта была отредактирована ортодоксами Раббулы и приспособлена для своих нужд, но не ими она была изобретена.
Как же назывались те иудеи, которые веровали, как Товия, и следы которых сохранились в древнейших слоях «Евангелия от Фомы»? Как назывались те последователи Иисуса, которые считали, что нельзя увидеть Отца, не соблюдая субботы?
У них было много названий, но самое известное и популярное было назореи. Или, точнее, если мы позаимствуем это слово прямо из арамейского, не пропустив его предварительно через сито греческих букв, – нацореи.