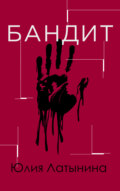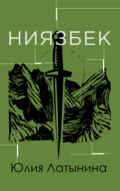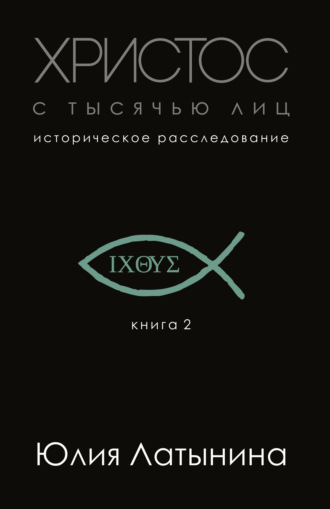
Юлия Латынина
Христос с тысячью лиц
Историчность
Как, – воскликнет в этот момент разъяренный читатель, – вы предлагаете нам этот текст в качестве биографии? Иисус Христос, посмертно торгующий на рынке рабами, строительство Небесного Дворца, несгораемый апостол Фома со своими железными пластинами, проповеди военачальникам и индийским царям?
Что дальше в программе?
Социально-политическая история Вестероса в «Игре престолов»? Практика и теория классовой борьбы на примере толкиеновского Средиземья?
Книги Нового Завета – может быть, и пропаганда. Может быть, канонические «Деяния апостолов» многое недоговаривают о жизни апостола Павла. Может быть, они вполне сознательно вводят читателя в заблуждение о причинах, по которым ревностные иудеи преследовали Павла по городам и весям Римской империи, и они намеренно врут о характере тех сорока сикариев, которые поклялись «не пить, не есть», пока не убьют Павла. Но они, по крайней мере, утверждают, что в Иерусалиме Павла у разъяренной толпы отбил римский военачальник, а не что он взлетел в воздух на глазах потрясенных зевак! Они даже честно называют врагов Павла зилотами!
А что можно извлечь из текста, написанного в стиле «Джек и бобовый стебель»?
Не будем, однако, торопиться.
Для начала: «Деяния Фомы», в отличие от «Игры престолов», воспринимались большинством своих пользователей как сакральный текст.
Начиная с середины V в. н. э. этот текст сжигали, а епископы, которые дозволяли его хранить, объявлялись еретиками по приказу папы Льва Великого, узнавшего, что текст этот используется еретиками-присциллианистами{66}. Сжигали и самих присциллианистов.
Этот текст сжигали вовсе не за то, что он был развлекательным чтивом. Его сжигали потому, что для людей, веровавших не так, как учила римская церковь, этот текст был сакральной реальностью, такою же, как утверждение, что Бог создал мир в шесть дней.
Очевидно, что такой текст заслуживает куда большего, чем быть проведенным по графе «занимательная беллетристика». Даже если он не содержит важных сведений о Фоме, то он содержит важные сведения о теологии и ритуалах сочинившей его общины. С ритуалов и начнем.
Глава 3. Иуда Близнец и город Эдесса
Что бросается нам в глаза в «Деяниях Фомы»?
Прежде всего – радикальное отличие многих обычаев и ритуалов от римской церкви.
Это касается даже названий: Фома и его община нигде сами не называют себя «христианами». Они – «братья», «святые», «чистые» и последователи «Пути, который ведет ввысь»{67}.
Это касается образа жизни: Фома «не ест и не пьет», то есть не ест мяса и не пьет вина. Это утверждение невольно напоминает нам о тех самых сорока сикариях, которые заклялись не есть, не пить, пока не убьют Павла (Деян. 23:21).
Фома категорически не признает никаких плотских сношений, по крайней мере, для тех святых, которые при жизни являются сосудом для духа Христа.
Этот суровый, аскетичный, демонстрирующий крайнее воздержание Иуда Близнец очень похож по своему поведению на Иакова Праведника, брата Иисуса, который был бессменным главой христианской общины в течение тридцати лет после смерти брата. Иаков Праведник тоже не ел мяса и не пил вина, и колени его были мозолистыми от молитв за народ. Зато он совершенно непохож на постпавловского Иисуса, который весело пирует с мытарями и на упреки шокированных аскетов отделывается лихим софизмом: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мф. 9:13).
Еще больше это касается обрядов.
Фома не «крестит», а «запечатывает». Разница в терминологии, казалось бы, не особенно велика, и слово «печать» в значении «крещение» употребляется во многих христианских текстах. Но тут важно то, что, как мы уже замечали, значение слова «от» в иврите намного шире слова «печать». Это слово несет в себе мощный магический оттенок. «От» – это и печать, и мета, и знак, и знамение. «От» ставит Господь на Каина. «От» (во множественном числе «отот») совершает Моисей. «Печать» – это могучая магическая мета, оберег, который позволяет «запечатанным» ста сорока четырем тысячам избранных евреев из «Откровения Иоанна Богослова» одним спастись от золотой саранчи и гиацинтовых коней (Откр. 7:4).
К тому же «печатей», которых Фома кладет, две. Первая «печать» – это обычное водяное крещение. После него запечатанный слышит бога, но не видит его.
Вторая печать – это Помазание. «И апостол взял масло и возлил его им на головы и умастил их и помазал их»{68}. После того как царь Гундафор и его брат были запечатаны первой печатью, они смогли слышать бога. А когда они были запечатаны второй печатью, они смогли видеть его. «И когда они были запечатаны, перед ними появился юноша с зажженным факелом, так что их лампады померкли при приближении его света»{69}.
Этот юноша с зажженным факелом удивительно напоминает нам не только ангела, но и двух традиционных спутников Митры, Каута и Каутопата, изображавшихся в виде юношей с факелами, повернутыми вверх и вниз. Напоминает она нам и о месте происхождения этого текста – Эдессе, где существовал арабский культ богов-близнецов Азиза и Монима, Утренней и Вечерней Звезды{70}.
Но более всего церемония с двумя стадиями посвящения, после первой из которых можно слышать бога, а после второй – видеть его, отсылает нас к главному запрету ортодоксального иудаизма: запрету на лицезрение Бога. Ритуал, который практикует Фома, есть не что иное, как очень удачный способ преодоления этого запрета. Да, сообщают нам авторы ритуала, действительно, такая проблема есть. Недостаточно посвященные люди – например, пророк Иеремия – могли только слышать бога. Но те, кто прошли вторую ступень инициации, могут и видеть его. Помазание, которое дает возможность видеть Бога, прямо упоминается в гностическом «Евангелии от Филиппа» как вторая ступень инициации верующего после Крещения{71}.
Кроме этого Фома причащает своих учеников не хлебом и вином, как в римской церкви, а хлебом и водой{72}. Какой вариант является более аутентичным: вино или вода?
Римская церковь настаивала, разумеется, на вине, а воду объявляла зловредной ересью энкратизма.
Однако мы почти точно можем сказать, кто первый причащал своих учеников вином: апостол Павел.
В 1-м послании Коринфянам Павел сообщает:
«Ибо я от Самого Господа принял то́, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание» (1 Кор. 11:23–25).
Конечно, Павел вместо слова «вино» говорит «моя кровь», но мало сомнений, что он имеет в виду именно вино. При этом ни на каких прижизненных учеников Иисуса, которые вместе с ним были на Тайной вечере и совершенно точно помнили, что сделал учитель, Павел в этом тексте не ссылается. Он ссылается на свою личную аудиенцию на третьем небе.
Апостол Павел не производит впечатление чрезмерно аскетичного человека. Откровенно говоря, он любил пожить. И, как всякий религиозный лидер, он был склонен оправдывать желания ссылкой на волю Божию. Проще говоря, апостол Павел не хотел отказываться от вина и поэтому сказал, что хлестать вино ему приказал Иисус. Более того, он назвал это вино «кровью Христовой»!
Напротив, его противники (те самые сорок сикариев, которые поклялись не есть мяса и не пить вина) были куда более аскетичны. Мы даже можем себе представить, что застольные привычки Павла раздражали их не меньше, чем его взгляды.
Ритуал причастия хлебом и водой сохранялся долгое время даже в разных местах империи. Например, еще в III в. н. э. епископ Карфагена Киприан был вынужден написать большое письмо, упрекавшее подведомственных ему епископов в том, что они причащают верующих хлебом и водой. Судя по негодованию Киприана, таких епископов в Африке было большинство{73}.
Иначе говоря, мы легко можем предположить, что аскетическая практика причастия хлебом и водой была не менее, если не более древней, чем привычка апостола Павла попивать винцо.
А церемония Помазания?
Напомню, собственно, что слово Христос – это перевод слова «Мессия» (Машиах) и оба слова означают на греческом и на иврите одно и то же – Помазанник.
Гностики обещали, что их адепты могут стать Новыми Христами, новыми Помазанниками. Поэтому церемония Помазания в гностических христианствах всегда присутствует в самом что ни на есть возвышенном виде.
Помазание – это и есть превращение верующего в Помазанника/Христа. Именно в таком виде этот ритуал присутствует и в раннем «Откровении Иоанна Богослова», где 144 тысячи избранных делаются «царями и священниками Богу нашему» (Откр. 5:10). «Откровение» называет их царями потому, что они «будут царствовать на этой земле».
И вот тут мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией. Дело в том, что в канонических Евангелиях церемонии Помазания Помазанника на царство нет.
Вместо этого в них рассказана довольно-таки дикая история о том, что однажды Иисус был в доме какого-то прокаженного, и туда пришла какая-то проститутка и вылила ему на голову масло.
«И когда он был в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал – пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову» (Мк. 14:3), – сообщает Марк.
Правда, у Марка не говорится, что эта женщина была проститутка. Но это говорится у Луки.
Напомним, что женщины – я уже не говорю о проститутках – в иудаизме не могли быть священниками и не могли исполнять никаких обрядов. Тем более они не могли помазать на царство. А прокаженные считались ритуально нечистыми. Их не пускали в Храм.
Таким образом, согласно каноническим Евангелиям, помазание Помазанника, Христа, произошло в доме прокаженного – то есть в месте, которое было совершенно запретно для иудея с точки зрения ритуальной чистоты. А помазала Христа проститутка, то есть опять-таки существо, негодное для помазания царя.
Как понять такой странный рассказ?
Очень просто. Что такое Помазание на царство? Это восстание против римских властей. Это преступление, которое называется crimen laesae maiestatis, то есть преступление, наносящее ущерб величию императора. Согласно Lex Julia maiestatis, принятому Цезарем в 46 г. до н. э. и повторно Августом в 8 г. до н. э., преступление это каралось смертью, причем вне зависимости от степени размаха предприятия.
Поэтому Марк, а за ним и другие евангелисты постарались максимально высмеять эту церемонию и вывернуть наизнанку.
Да, Иисуса помазали – сообщали нам они. Но это церемония не имела никакого отношения к церемонии, которую проделал великий пророк Самуил, помазав Давида (1 Цар. 16:13). Она не имела никакого отношения к церемонии, которую проделал первосвященник Садок, помазав на царство Соломона (3 Цар. 1:39), к Ииую, которого помазал Господь на истребление дома Ахавова (2 Пар. 22:7). И вообще это было не Помазание на Царство, а приготовление к погребению (Мф. 26:7; Мк. 14:9; Ин. 12:8).
И вот мы видим, что «Деяния Фомы», написанные за пределами империи, то есть там, где закон Lex Julia maiestatis не действовал, и вообще гностическое христианство сохраняют церемонию Помазания в ее раннем, величественном значении, таком же, которое она имеет в «Откровении Иоанна Богослова». Никаких проституток, никаких прокаженных и баб никаких: на царство помазывают Царя, и делает это Пророк, Близнец Господа.
Реальный апостол Фома
Еще одна вещь, которая бросается в глаза в «Деяниях Фомы» – это необыкновенно высокий социальный статус его прозелитов. Апостол Фома вовсе не проповедует униженным и оскорбленным. Он вращается в самых высших кругах общества.
Фома шутя обращает восточных генералов и их жен, царей и, особенно, скучающих, влиятельных, богатых и мечтающих о хоть какой-то самореализации цариц. Даже цари, которые сами не собираются обращаться в христианство, вроде царя города Андраполис, относятся к Фоме с изрядным уважением, так же, как в Китае влиятельный цзеньши мог с уважением относиться к заезжему даосу.
Но, может быть, Фома выдает желаемое за действительное? Может быть, «царицы» и «принцессы» Фомы были на самом деле кухарками и рабынями? Может быть, они становились «царицами» только после того, как Фома их «запечатал»? Может быть, их «царский» статус был всего лишь символ?
Присмотримся повнимательней.
В «Деяниях» ареной подвигов Иуды Фомы называется далекая Индия. Однако, как мы уже сказали, «Деяния Фомы» были написаны в Эдессе. Там же было написано «Евангелие от Фомы», и там же, в Эдессе, находилась его гробница, которую посетила в IV в. н. э. благочестивая паломница Эгерия.
Согласно Эгерии царем, которого обратил в истинную веру апостол Фома, был не какой-то индийский Гундафор, а не кто иной, как сам царь Эдессы, Абгар!
«Господь наш Иисус в письме, которое он послал царю Абгару через скорохода Ананию, обещал, что он пошлет ему св. Фому после того, как сам вознесется на небо», – сообщала Эгерия{74}.
Утверждение о том, что царь Эдессы еще в середине I в. н. э. был обращен в христианство, на первый взгляд может вызвать только улыбку.
И в самом деле – Иосиф Флавий, наш главный источник по иудейской истории того времени, ничего не знает об обращении царя Эдессы в христианство.
Он рассказывает нам совсем другую историю. Он сообщает, что в интересующее нас время – то есть в 30-х гг. н. э. – Елена, вдова Монобаза, царя соседней с Эдессой Адиабены, и ее сын Изат приняли иудаизм.
Иосиф Флавий рассказывает об обстоятельствах принятия Еленой иудаизма следующее.
Царя Изата склонил к иудейской религии некий купец по имени Анания. Изат с радостью принял все положения новой веры и хотел подвергнуться обрезанию. Однако его мать, уже обращенная в иудаизм другим проповедником, была решительно против: «Ведь он царь и может навлечь на себя неудовольствие своих подданных, которые, узнав о его расположении к иноземцам и их обычаям, смогут не пожелать повиноваться царю-иудею»{75}.
Того же самого мнения был и Анания. Он боялся за собственную безопасность и с этой целью разработал целую теологическую теорию, согласно которой Изат мог «поклоняться Господу Богу и не принимая обрезания, если уже он непременно желает примкнуть к иудейству. Такое поклонение, по его мнению, будет гораздо важнее принятия обрезания». Анания указывал, что «Предвечный простит ему это упущение, так как он согласился на него по необходимости и из соображений политического свойства»{76}.
Царь долгое время следовал мнению Анании, пока к нему не прибыл «некий Елеазар, галилейский иудей, пользовавшийся славою большого знатока закона». «Войдя к царю и приветствовав его, Елеазар застал его за чтением Моисеева Пятикнижия и воскликнул: «О, царь, ты не исполняешь главного закона и этим грешишь против Господа Бога. Тебе следует не только читать эти законы, но раньше всего исполнять их. Доколь же ты хочешь оставаться необрезанным?»{77}
Эти слова так впечатлили царя, что он отложил книгу, перешел в другую комнату, позвал врача и немедленно велел ему совершить операцию. Мать и Анания были поражены и испуганы.
История, рассказанная Флавием, отнюдь не выдумка. Царица Елена, вдова царя Монобаза, действительно существовала и действительно приняла иудаизм. Более того, она посетила Иерусалим, умерла в нем и была похоронена в гробнице, которая известна и по сей день.
Мы можем быть уверены в том, что вариант иудаизма, в который обратились царица Елена и царь Изат, был далек от пацифистского.
Дело в том, что родственники царя Адиабены принимали горячее участие в Иудейской войне. Впервые они столкнулись с римлянами под Бейт-Хороном. В ходе этого боя в 66 г. восставшие иудеи пытались задержать подходившие к Иерусалиму войска Цестия. Иосиф сообщает, что в числе руководителей сражения, погибших в нем из-за самоубийственной храбрости, были «родственники адиабенского царя Монобаз и Кенедай»{78}. Кроме этого несколько «сыновей и братьев царя Изата» участвовали в обороне Иерусалима фанатиками. После взятия города они попали в римский плен{79}.
В Иерусалиме во время осады его римлянами, напомним, в это время царил религиозный террор и зилоты убивали всех, кто веровал не так, как они. Однако знатных адиабенцев зилоты не тронули, и, более того, один из них, Навайтай, был один из трех самых храбрых защитников города, изумлявших своими подвигами даже на фоне самоубийственной храбрости остальных фанатиков{80}.
Боевые подвиги родственников адиабенского царя под Бейт-Хороном и Иерусалимом, за тысячу двести километров от родины, удивительно напоминают нам судьбу американских коммунистов, сражавшихся против Франко в Испании, и заставляют предположить, что правящая в Адиабене династия склонялась к весьма экзальтированной версии иудаизма, что, впрочем, обычно для неофитов.
У нас есть и другие основания подозревать, что иудаизм, принятый царицей Еленой и ее сыном, имел весьма милленаристские обертоны, и «галилейский иудей, пользовавшийся славой большого знатока закона», имел прямое отношение к другому знаменитому галилейскому иудею, Иисусу. Так, один из вариантов «Толедот Иешу» утверждает, что покровительницей Иисуса была царица Елена, у которой был сын Монобаз.
А Талмуд утверждает, что царица Елена не просто приняла иудаизм, а дала назорейскую клятву и соблюдала ее или 14, или 21 год{81}. Иначе говоря, согласно Талмуду царица Елена стала назорейкой.
Слово «назореи» – а отнюдь не «христиане» – будет одним из ключевых для этой книги.
Кто же такие были в I в. н. э. назореи?
Евреи за границами Рима
Согласно каноническим «Деяниям апостолов» члены первой христианской общины обитали в Иерусалиме, пока не вынуждены были бежать из него после гонений, последовавших из-за неких беспорядков, разразившихся на ступенях храма. После этого, согласно «Деяниям апостолов», они бежали в другие города Римской империи.
«Рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме Иудеев» (Деян. 11:19). Там, в Антиохии, верующие и были названы (или провозглашены) христианами (Деян. 11:26).
Так как впоследствии христианство стало государственной религией Римской империи, у читателя невольно создается впечатление, что его ареал обитания с самого начала был ограничен пределами Римской империи, так же как ареал обитания обезьяны бонобо ограничен рекой Конго.
Религия Иисуса была маленьким ручейком любви и добра, который сохранился благодаря проповедям Петра и Павла и постепенно разлился в могучую реку. Разливался он по территории Римской империи, и если когда-то эта река и выплескивалась из ее границ, то произошло это достаточно поздно и благодаря деятельности римских миссионеров.
Это, если вдуматься, очень странно.
Как мы уже говорили, в Финикии, Кипре и Антиохии и вообще во всей восточной части Римской империи говорили по-гречески. И притом Римская империя преследовала христиан.
А совсем рядом, за границей Иудеи, на огромных пространствах Ближнего Востока говорили на арамейском, и на этих пространствах тоже проживало огромное еврейское население.
Так, множество евреев жило в Армении: их депортировал туда Тигран II в 60-х гг. до н. э.{82}. Мовсес Хоренаци не только повествует об этих громадных депортациях, но и утверждает, что из них произошли несколько знатнейших армянских родов, включая род Багратуни{83}.
Евреи жили в Арбелах, столице уже упомянутой Адиабены. Жили они и в Эдессе. Еврейские обитатели Эдессы даже отождествили город, в котором они поселились, с Уром Халдейским, – тем самым городом, из которого вышел праотец Авраам. Никаких археологических оснований традиция эта не имела, однако была так упорна, что в окрестностях города даже отыскалась пещера, в которой родился Авраам.
И, разумеется, множество евреев жили, еще со времени вавилонского плена, в самой Месопотамии. В Нисибисе существовала знаменитая еврейская академия; в Вавилоне был написан Вавилонский Талмуд. Евреи были настолько влиятельным и воинственным меньшинством, что в 30-х гг. в болотах Евфрата двое братьев-евреев, Анилей и Асиней, основали небольшую разбойничью сатрапию, которую в течение 15 лет был вынужден признавать парфянский царь{84}. А вскоре после восстания Бар-Кохбы у вавилонских евреев появился свой экзиларх (рош галут), правитель в изгнании, претендовавший на происхождение из рода Давидова. Последний экзиларх был убит в XI в. н. э. Буидами.
Итак, последователи Иисуса в Иудее не говорили по-гречески, и Иудея была частью империи, которая их преследовала.
Согласитесь: совершенно непонятно, зачем людям, которых преследовали римляне и которые не говорили по-гречески, было бежать из контролируемого римлянами Иерусалима в грекоговорящую и римлянами же контролируемую Антиохию?
Почему бы им не бежать вместо Антиохии, к примеру, в Эдессу, которая находилась почти на том же расстоянии от Иерусалима, что и Антиохия (700 км против 900 км), но зато располагалась за пределами империи и вдобавок говорила на родном беженцам арамейском языке!
Ответ был такой, что они и бежали!