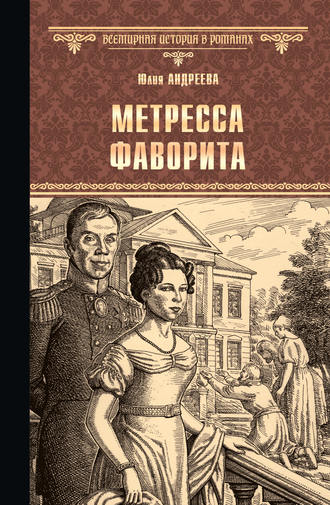
Юлия Андреева
Метресса фаворита (сборник)
Глава 5. Аракчеев
Готов и ревностен отечеству служить,
Царю и в обществе умеет быть полезным;
Уединясь – с собой умеет в мире жить,
С друзьями быть любезным.
М. В. Храповицкий[42]. «К хозяину», 26 декабря 1809 г.
Чертов доктор, что за гадость велел выпить? Голова все равно болит да еще и кружится, пол ходит ходуном, точно палуба корабля. А может – жизнь и есть корабль, плывущий то по приказу своего капитана, а то по воле волн? Всю жизнь я старался быть капитаном на своем корабле. Следил за каждой мелочью, каждым своим шагом, движением, жестом.
Чего достигли мои предки? Честно скажу, мало чего достигли, жил когда-то на земле Иван Степанович Аракчеев[43], новгородец, которому за отличную службу было пожаловано дворянство и вотчины в Новгородском уезде, в Бежецкой пятине, в Николаевском погосте, в Модлине пустоши. В то время нашими – аракчеевскими числились деревни Клобуки, Санникова, Игначиха, Шепилова, еще в Тихвинском погосте пустошь Пушеная, что на реке Волчих. Вот самое большое достижение предков. Далее… потомок этого самого Степана Аракчеева и тоже Степан Аракчеев дослужился всего лишь до капитана, один из его детей, Василий Степанович, участвовал в турецком походе под предводительством графа Миниха, был ранен под Очаковом и уволен от службы с чином генерал-поручика. Его племянник и мой отец Андрей Андреевич[44] в чине всего-то армейского поручика служил в гвардии в Преображенском полку, но не дослужился, раньше времени запросился в отставку. После чего жил в своем поместье в двадцать душ крестьян. В общем, не роскошествовали, хотя и не голодали.
В доме я был старшим ребенком, и отец возлагал на меня особые надежды, отчего и занимались со мной более, нежели с братьями Петром[45] и Андреем[46]. Впрочем, не только служба показалась не в меру затруднительной для родителя моего, учить меня ему тоже быстро разонравилось. Так что заботу эту он благополучно передоверил сельскому дьячку, при одном воспоминании о котором у меня и сейчас невольно сжимаются кулаки. Так бы и врезал по глупой харе. Истинное чудо, что я тогда у него хоть чему-то смог научиться. Впрочем, я рано заинтересовался математикой. Задавал сам себе сложнейшие примеры, которые решал в уме, исключительно для собственного удовольствия и приятности времяпрепровождения.
Куда больше учила меня родимая матушка, Елизавета Андреевна[47], которая тащила на себе все хозяйство, сама вела подсчет всем расходам и завела в доме настолько образцовый порядок, что даже приезжающие в гости к отцу немцы не раз удивлялись, насколько фрау Эльсбет не походит на русских женщин. От матери я приобрел привычку к ежедневному труду, а также к пунктуальности и аккуратности.
К слову, не раз слышал, как за спиной меня величают редким педантом, мол, застращал всех дисциплиной и распорядком. Но как же без этого? Вот веду я прием у себя в петербургском дворце на углу Литейного и Кирочной, пришел в кабинет ровно за три минуты, чтобы успеть выслушать отчет адъютанта о дожидающихся аудиенции просителях. Пока проходил через приемную, видел собравшихся, приметил несколько знакомых лиц. Все вроде правильно, все по плану. Но вот минутная стрелка шагает раз, другой, третий… встает на цифру 12. Время начинать прием, а моего адъютанта нет. И что прикажете в таком случае делать? Самому идти двери открывать, самому приглашать? Да ведь разве ж я могу всех, кто там собрался, лично знать? А коли не знаю, как решить, кого первого приглашать? Это адъютант должен и обязан всех расспросить, переписать и затем, согласно Табели о рангах, приглашать. Иной отставной генерал запросто может в штатском заявиться – и конфуз выйдет, если, приглашая пройти в кабинет, это обстоятельство не учтешь. Не для того уставы писаны, чтобы их нарушать. Иной бахвал начитается аглицких книжонок и мечтает де, когда заступит на мое место или сядет в любое другое начальственное кресло, утвердив в нем свою задницу, так будет вызывать к себе по очереди, кто, когда пришел. Смешно, да и только, так, полковника он примет позднее, а стало быть, хуже, нежели какого-нибудь отставного заседателя.
Нет уж, Россия просвещенная держава, и такого тут никто не попустит.
Или, скажем, я комиссию назначаю, точное время начало проверки, точное – окончания, затем время на отдых и обед, время на дорогу, и новая проверка. Для чего нужна такая точность? А чтобы не расслаблялись на местах. Иной раз, действительно, приходится опаздывать, отчего чиновники вынуждены ждать, не ведая, когда приедет начальство. Только я этого не люблю и не понимаю начальство, которое себе в угоду когда хотят на службу являются. Если время правильно рассчитать, то обычно еще и чуть заранее выходит, нужно только, чтобы все подчиненные в назначенное время на своих местах или, где им назначено, находились.
Говорят, мол, я жесток. А что сделаешь, если иные слов не понимают? Один раз скажешь, другой, а на третий назначаешь наказание. Причем замечено, пока подчиненных по головке гладишь, они тебе на спину норовят плюнуть. А чуть покруче зажал, так вроде как и опомнились: «честь имею служить». А все почему? Из-за привычки от дела отлынивать. По нашему всегдашнему русскому «авось» живут, так и служат, так и помрут, ничегошеньки не успев сделать ни на благо державы, ни ради близких и родных. Зачем сукно на форму для личного состава проверять, все одно служивому обмундирования надолго не хватает? Не проверяют, за гнилье деньги из казны платят, и немалые ведь деньги. А солдаты потом мерзнут! Приходится за всем доглядывать, самолично лезть на склады, вытаскивать рулоны материала, метр за метром скрупулезно проверять… чай, себе-то покупая, все проверят. А солдату что же? На боже, что нам не гоже! В лицо, разумеется, не смеются, но за глаза… Как иначе можно приучить подчиненных работать? Только на личном примере, на одном складу полотно досмотрел, и где грязь или какую порчу углядел, сразу на вид. Оштрафовал, на гауптвахту определил, на следующем складу, поди, сами поторопятся вперед комиссии проверить и, коли что, меры принять.
Помню, как-то раз великий князь Павел Петрович пожелал провести смотр гатчинских войск. Время было назначено на полдень. Без пяти минут двенадцать все войска собраны и построены, но Павел Петрович, должно быть, забыл про смотр. Час стоим, полтора, два… по строю ропот идет. Наконец не выдержал какой-то ротный, ушел, за ним другой, кругом и в казарму, третий, четвертый… Остался лишь я и моя батарея. Поворачиваюсь к ребятам и держу такую речь, дословно сейчас уже не помню, давно дело было, но в общих словах так: «Случись война, стояли бы? Держали рубеж?» Они как грянут: «Стояли бы, держали». «Вот и теперь стойте и держите. Без приказу ни шага назад». Стоим, солнце печет, мимо нас посыльные да мелкие служащие по своим делам, точно мухи, туда-сюда шныряют. Стоим. И вот вдруг открывается дверь, и из левого флигеля выходит сам великий князь в окружении нескольких придворных, обедать собрался. На нас воззрился удивленно, мол, чего стоим-то?
Тут я осмелел, вперед вышел и, печатая шаг, раз-два, раз-два, к его императорскому высочеству. А тело-то ноет, а ноги-то от долгого стояния задубели. Ну, дошел как-то. И рапортую, мол, явились по его приказу. У цесаревича аж слезы из глаз брызнули. Обнял он меня, потом к солдатам моим пошел. Смотрел так, словно рублем каждого одаривал. Фамилию мою спросил, запомнил, поблагодарил за службу и с Богом отпустил.
Вот после этого нашего «великого стояния» стал Павел Петрович меня от всех прочих отличать. Когда же милостью Божьей на престол взошел, сделал меня сначала комендантом Санкт-Петербурга. Придворные потом говорили, что такого коменданта, как я, в жизни никогда не было и опосля не будет, потому как в любое время дня и ночи по первому зову к его величеству являлся. Шутили, де я не моюсь и сплю в одежде и сапогах. Вранье. Много бы я достиг при дворе-то, не мывшись? Из усердия научился в минуту полностью одеваться, специального слугу всегда при себе держал, чтобы помогал. Вышколил его и парикмахера еще, чтобы только моими были, чтобы никуда не отходили, чтобы в любое время дня и ночи. Сработало.
В день коронации – великий для всей России день 5 апреля 1797 года был я возведен в баронское достоинство и встал в ряды александровских кавалеров. Герб нарисовали, и к нему сам его величество приписал недрогнувшей рукой: «Без лести предан». Проходят две недели, и я получаю новое назначение – генерал-квартирмейстер всей армии. Еще через два года возведен в графское достоинство. Когда же государь почил вбозе, я продолжил служить новому императору – сыну его, Александру Павловичу. Долгое время оставался начальником всей артиллерии, но потом его величество, видя старания мои, назначил меня на пост военного министра. Впрочем, эта должность оказалась не по мне, и очень скоро, по моей же просьбе, я был назначен генерал-инспектором всей пехоты. Потом…
Вот как бывает, меня отличили, вызвали из ничтожества. Я, рожденный в бедной семье, поднялся по служебной лестнице и достиг всего не связями наверху, не подарками власть имущим, а исключительно собственным трудолюбием и рвением, полагаясь на Бога, но делая все, что только могло быть в силах человеческих.
Вот и рассудите, назвать меня жестоким или требовательным? Дотошным или пунктуальным? Дело я делаю или самолюбие свое тешу? Есть от меня польза отечеству или вред и себялюбие? Кстати, о себялюбии, вот если нарочно пробраться в мою гардеробную и посмотреть, сколько там в шкафах платья. И что же, там только та одежда, которая положена мне в связи с занимаемым мной положением, мундиры парадные и каждодневные, пара халатов, которые я, правда, редко ношу, да для верховой езды костюм, чтобы в редкие часы отдыха на охоту съездить. Есть еще отдельный гардероб, он и расположен в другой комнатке, чтобы, замаскировавшись до полной неузнаваемости, по улицам ходить да доглядывать, где что деется. Никаких украшений, как только заслуженные мной награды, не признаю. Чай, не баба, чтобы себя украшать. Крест нательный – тот самый, которым крестили, на пальце крошечное колечко с надколотым камешком, память о батюшке. Стригусь коротко, чтобы ничего не мешало, разумеется, по моде, при дворе без этого ни-ни, бреюсь тщательно, часто по три раза на дню, так как волос от природы темен, упрям, и малое нерадение – подбородок и щеки делаются синюшными. Ногти стригу коротко.
Была у меня законная жена, но да была и сплыла, об ней и говорить-то неприятно. Раз в месяц положенное содержание в Липные Горки шлю и никогда не пишу. Есть… была любимая женщина, краше которой во всем белом свете нет, единственное мое сокровище, не просто полюбовница, а единственный в мире человек, с которым я всегда мог поговорить по душам. Сердце раскрыть.
Да, по службе меня ревновали мои же сверстники и люди постарше, гадости шептали, пытались перед Павлом Петровичем, потом перед Александром Павловичем доброе имя Аракчеева в грязи вывалять. Не вышло, добрались-таки, дождались, когда я по делам служебным был вынужден уехать и… По самому дорогому, по самому больному. Настя! Двадцать пять лет жизни с тобой! Как же так, милая моя? Знаю, не было твоей вины в том, что одолели тебя изверги. Видел, сопротивлялась ты до последнего, нож вырывала из предательских рук, раны твои страшнющие видел. Бедная моя, несчастная девочка. Спи теперь спокойно в своем гробу, а я уж не заставлю тебя долго себя дожидаться. Помру, как Бог мне велит, явлюсь, как предпишет небесная канцелярия, закончив свои земные дела и сдав их преемникам. Вот тогда и свидимся с тобой, ненаглядная моя, солнышко. Единственная моя любовь. Пока же есть у меня и другое дело – отомстить убийцам твоим. Чтобы страдали они, как ты страдала, чтобы кровью своею умывались, как ты умылась.
Бедная моя, как представлю, что с тобой такое сотворили, нелюди проклятые…
Ах, Миллер, чертов доктор, что за отвар мне дал? Что всю душу до последней ее крупицы вынимает, ах, Настенька…
Глава 6. Первый допрос
О, как пленительно, умно там, мило все,
Где естества красы художеством сугубы,
И сеннолистны где Ижорска князя[48] дубы
В ветр шепчут, преклонясь, про счастья колесо!
Г. Р. Державин[49]. «На прогулку в грузинском саду», 1807 г.
– Итак, сколько комнатных девушек было у Настасьи Федоровны? – начал Псковитинов, расположившись в кресле своей новой гостиной.
– Ровно четыре, – с готовностью сообщил Федор Карлович. – Прасковья Антонова, 21 год, Татьяна Аникеева, 24 года, Аксинья Семенова[50], 30 лет и Федосья Иванова[51], 21. Любопытный факт, на момент совершения убийства Аксинья Семенова отдавала распоряжения садовникам, они это подтвердили. Но Шишкин утверждает, что едва Антонова обнаружила тело, кухмистер Иван Аникеев избил Аксинью. Понимаете, о чем я? Ведь если ее тут не было, то она никак не могла быть виновна. Что же до Ивановой, в тот день ее отправили в помощь в графский дом. Там раскроить какие-то сорочки нужно было.
– А за что избил?
– Говорит, мол, по хозяйству какую-то оплошность совершила. Но ведь не бывает таких совпадений! Как вы считаете? Что же до Татьяны Аникеевой, то она вовсе сидела в местной тюрьме, так что я бы ее пока отпустил. И нам хорошо, на одну подозреваемую меньше.
– Тюрьма – неплохое алиби, – улыбнулся Псковитинов, приглашая, возникшего в дверном проходе Миллера пройти в комнату. – Только хорошо ли охраняется эта самая темница? А то я видал тюрьмы в поместьях – одно название, а не тюрьмы, чулан, человека сажают, скажем, до полудня, а потом он оттуда сам выходит и идет прощенья просить.
– Здешняя тюрьма совершенно иного свойства. Добротная, с замками, по нашим понятиям, больше похожая на карцер, впрочем, тут все такое, – закончил за полковника Миллер.
– Все равно, пока не выясним, у кого были ключи от этого самого узилища и не могла ли как-нибудь Татьяна выбраться из своего заточения, из подозреваемых ее не исключаем, – кивнул фон Фрикен. – Иванову тоже, вот графский дом, вон флигель. Долго ли добежать?
– А сколько во флигеле ночует народа? – Псковитинов отрезал кончик сигары и теперь сосредоточенно раскуривал ее.
– Вместе с хозяйкой двадцать пять, – просмотрев свои списки, уточнил фон Фрикен.
– И вы хотите сказать, что все двадцать четыре человека, ну, пусть без Татьяны двадцать три, стояли у веранды и ждали, когда хозяйка выйдет и раздаст приказания?
– Так оно и было, – пожал плечами фон Фрикен.
– Целый час ждали?
– Час, – кивнул Миллер.
– То есть ночью или утром, когда Шумскую убивали, никто из этих двадцати трех человек ее воплей не услышал? Двадцать три человека разом сделались глухи? И это мы еще не трогаем прислуги из дома Алексея Андреевича.
Миллер и фон Фрикен подавленно молчали.
– Вся дворня покамест посидит под замком. Потому как, даже если они не убивали, все равно повинны в том, что не пришли на помощь или хотя бы не подняли тревогу. Вы видели тело и следы борьбы. Невозможно представить, что, когда женщине наносили подобные ранения, она, стиснув зубы, молчала. Кроме того, здесь, в графской резиденции, я заметил, что рамы на окнах еще одинарные, а как в особнячке Шумской, кто-нибудь обратил внимание?
– Сейчас скажу, чтобы кликнули Агафона, он обещался находиться поблизости. – Фон Фрикен вскочил и, вылетев за дверь, отдал приказания дожидавшимся его адъютантам. После чего прикрыл дверь.
– Полностью с вами согласен, – немного опомнившись, закивал Миллер. – Хотя вам надо знать специфику этого дома… так сказать. Здесь так часто производятся порки и различные иные экзекуции, что люди уже привыкли к крикам и стонам и…
– Вряд ли здесь пытают и порют перед рассветом или глубокой ночью. – Псковитинов чувствовал прилив сил. – Впрочем, и этого сбрасывать со счетов не стоит. Проверим. Но если только арестованные будут говорить, что вообще ничего не слышали…
– Понятно, это будет означать, что они виновны, – подытожил фон Фрикен.
Дверь снова растворилась, Агафон церемонно поклонился собранию и, пройдя в комнату, замер, ожидая расспросов. От Псковитинова не укрылось, что на этот раз дворецкий где-то раздобыл новую ливрею, которая прекрасно подчеркивала его высокое звание.
– А скажи мне, любезный, какие рамы стоят в доме у госпожи Шумской?
– Летние, Александр Иванович. Летние, – спокойно констатировал дворецкий.
– А хорошо ли ты, Агафон, знаешь местную прислугу? Я понимаю, за пять лет все могло перемениться, но все же?
– Как не знать, батюшка, – засуетился старик, – когда все тутошние, в смысле, местные. Здесь народились, здесь и сгодились.
Псковитинов благожелательно кивнул старику, отпустив его. Вот-вот должны были позвать ужинать, но следователь хотел успеть до приема пищи разобраться хотя бы с формальностями.
Расследование приходилось начинать без Корытникова, но да ничего не поделаешь, впрочем, кто сказал, что он вообще приедет? Ну, получил он письмо от губернатора, так что же теперь, бросать все дела и лететь сломя голову в Грузино?
– Садовники тоже арестованы?
– Разумеется. – Фон Фрикен поглаживал усы. – И как я теперь понимаю, за дело. Клумба, у которой с ними беседовала Аксинья Семенова, вон она – из окна видать. Вполне могли крики услышать.
– Далее, у нас имеется орудие преступления. – Псковитинов положил на стол завернутый в тряпицу мясницкий нож и с видом заправского фокусника отогнул края, так чтобы здоровенный окровавленный тесак предстал во всей своей преступной красе. – Вы уже видели его во время осмотра тела и сможете это подтвердить?
– Разумеется, – пожал плечами фон Фрикен. А Миллер только наклонился к ножу, чтобы еще раз его рассмотреть, после чего тоже кивнул в знак согласия. Юноша, ведущий протокол, тщательно записывал фразы Псковитинова, не участвуя в разговоре. Александр Иванович специально подошел к нему, заглядывая через плечо, был бы здесь Корытников, еще бы и зарисовал нож, но Петр Петрович в лучшем случае должен был пожаловать завтра утром.
В дверь постучали, новый адъютант по-военному поклонился, щелкнув каблуками.
– Арестованная Прасковья Антонова просится на допрос к городскому следователю, – отрапортовал он.
– Так уж и просится? – поднял брови Псковитинов. – Так и сказала?
– Сказала-де, желала бы быть принятой и по форме допрошенной, – отчеканил юноша.
– Что же? – Псковитинов покосился на каминные часы. – Зови, коли «по форме». Скажут тоже. Послушаем, господа, что поведает нам эта девица.
Несколько минут в ожидании первой допрошаемой прошли тревожно, Псковитинов расхаживал по комнате, пытаясь догадаться, отчего Прасковья не дождалась, когда он сам пошлет за ней. Всем ведь понятно, раз приехал следователь, стало быть, скоро всех замучает допросами, отчего же не подождать? О том, что в местной темнице уже знали о его приезде, говорило уже и то, что Антонова попросилась не о встрече с управляющим или упасть в ноги к барину, а целенаправленно шла на допрос к городскому следователю.
Его размышление прервали шаги в коридоре, дверь распахнулась, и все тот же адъютант пропустил перед собой трясущегося Агафона, который вел невысокую хрупкую, как фарфоровая статуэточка, девушку в сарафане из синей китайки, отороченной красной каймой, и синей же рубахе. Темные волосы красотки были заплетены в роскошную косу, украшенную голубой атласной лентой, огромные глаза обрамлялись длинными темными ресницами. Такую девушку причесать по моде, одеть в шелковое белое платье, обуть в хорошенькие туфельки, крошечная ножка позволяла подобный эксперимент… Хотя ей и в сарафане неплохо.
– Это я Настасью Федоровну зарезала! Меня и казните! – С вызовом выпалила девчонка и тут же разрыдалась.
Мужчины переглянулись. Псковитинов мысленно сопоставил высокую, статную Минкину и крошечную Антонову. Глубокие раны и порезы на пальцах аракчеевской наложницы, которая пыталась схватиться за нож, и…
– Покажи руки?
Девушка безропотно протянула чистые ладошки. Миллер отрицательно помотал головой.
– Как тебе это удалось? – Псковитинов выразительно посмотрел на участников расследования, но те не стремились вмешиваться.
– Она, Настасья Федоровна, значит, легла почивать не в спальне, а в китайской зале на софе, тут я подкралась с ножом и…
– Куда била?
Девица молчала.
– Одежу давно меняла?
Прасковья с удивлением посмотрела на свой сарафан. Стряхнула несуществующую пылинку с рукава.
– Я просто в темнице уже сколько сижу, в нем хожу, в нем и спать укладываюсь, вот и помялось немного, – шмыгнув носом, сообщила она.
– Я тебя спрашиваю, когда ты его надела? Или горничные тут каждый день платья меняют?
– Каждый день не настираешься. – Прасковья снова шмыгнула носом. – Раз в неделю в банный день, чтобы на воскресной службе, стало быть, все в чистом стояли.
– А воскресенье завтра. Получается, ты в этой одеже уже неделю ходишь?
Девушка непонимающе кивнула.
– Ну, коли ничего больше сообщить не желаешь, попрошу, чтобы тебя обратно посадили.
Агафон подтолкнул к выходу ошарашенную такой скоростью дознания девицу и передал ее адъютанту.
– Устала сидеть? – предположил фон Фрикен.
– Не так долго и сидит. – Миллер посмотрел на часы. – Пора бы нам уже и за стол сесть. Я так понимаю, что нынешняя прислуга может и запамятовать на ужин пригласить, а я, признаться, проголодался.
Все поднялись. Юноша закрыл папку, и Псковитинов запер ее в свой дорожный саквояж. И, не зная, можно ли оставить в своих комнатах, забрал с собой. Пусть что хотят, думают, он при исполнении.
В предбаннике, как раз и навсегда окрестил Псковитинов проходную комнату, дежурили сразу три адъютанта, выделенных в распоряжение Псковитинова, все трое поднялись, ожидая приказаний, но Александр Иванович велел идти ужинать.
– Вчера накрывали в доме Алексея Андреевича. – Миллер нетерпеливо потирал ладони. – Здесь удобная такая зала имеется на втором этаже, от лестницы влево.
– Может, лучше пойдем в ресторан? Надоело мне вокруг покойницы-то кружиться. Там ее зарезали, сям обмывали, тут она сама возлежит. Кусок в горло не идет в этом проклятом доме, – пожаловался фон Фрикен.
– А не нанесем ли мы тем самым обиду нашему хозяину? – Александр Иванович раздумывал, как наилучшим образом поступить в сложившейся ситуации. С одной стороны, никто не мог запретить ему обследовать деревню и по дороге заглянуть в местный кабак. В интересах следствия он даже был обязан оценить обстановку, пообщаться с возможными свидетелями. Кто-то всегда что-то знает, видел, приметил… С другой, одному Богу известно, что насочиняет себе Аракчеев, узнав, что его гости отправились в ближайший ресторан, пренебрегая его гостеприимством. Тем более если он сам выйдет к столу. – Нет, ресторан как-нибудь в другой раз, а сейчас, ужинаем у Алексея Андреевича. Точка.
– Тем более что вон он сам. – Миллер показал в сторону дорожки, по которой Аракчеев уже, в застегнутом наглухо мундире со шпагой в одной руке и кнутом в другой, гнал перед собой какую-то простоволосую бабу в черном. Брань Аракчеева сотрясала окрестности, избиваемая орала или, точнее, орал, Псковитинов разглядел куцую бородку – монах! Впрочем, сходство с женщиной добавлял надсадный тонкий голос и мелкие движения, обычно свойственные неуверенным в себе людям.
– Да что же он такое делает?! – опешил фон Фрикен, бросившись навстречу Аракчееву и встревая между ним и несчастным. Вслед за своим командиром его сиятельство окружили новые адъютанты Псковитинова.
– Убью, запорю! – орал Алексей Андреевич, пытаясь добраться до своей жертвы. – А каналье Ильинскому[52] передай, пока я жив, не будет ему места на земле! Так и скажи. Пусть собирает манатки, и чтобы духу его тут больше не воняло.
Офицеры повели Аракчеева к дому, в то время как Псковитинов остался один. Конечно, можно было погулять по парку, газеты рассказывали, что его чудеса и затеи не уступают Петергофу, или хотя бы обойти Минкинский особнячок и посмотреть на пресловутый эдикюль. До сих пор у него не было для этого свободной минутки. Приехал бы Корытников, уже давно ходил бы с блокнотом и все, что нужно, брал на карандаш. Друзья часто работали в паре и подходили друг к другу как нельзя лучше. С другой стороны, кто сказал, что Петр подчинится приказу губернатора? А ведь не исключено, что тот послал именно приказ, а не как его просили, личное письмо с извинениями? Тоже ведь надо понимать, соображения чести и все такое… Следовало не пускать дело на самотек, а изловчиться и под каким-либо предлогом заглянуть в губернаторскую почту или, по крайней мере, написать Корытникову лично от себя. Потому как одно дело, когда тебе приказывают, а совсем другое – когда просит старый друг. Впрочем, так бы его и пустили покопаться в почте самого Жеребцова! Куда хватил! Будет удивительно, если после всего, что произошло между ними в Грузино, губернатор не уволит к чертям собачьим самого Псковитинова. Или ушлет, куда Макар телят не гонял. Был лучший в губернии следователь и нет. Поминай, как звали.
Он прошелся вдоль клумбы, с петуньями около которой комнатная девушка Аксинья Семенова три дня назад разговаривала с садовниками. Клумба находилась метрах в десяти от особняка убиенной Минкиной. Не может быть такого, чтобы, стоя здесь, люди не расслышали криков и призывов о помощи. Разве что-то помешало? А что? Он огляделся, пытаясь обнаружить хоть что-то в защиту алиби неизвестных ему крепостных. Петухи пели? Нет, птицы бы не заглушили, да и сколько их тут? А сколько бы ни было, хором птицу петь не заставишь. А люди? Может быть, Миллер прав, и в этот миг кого-то пороли или… Поблизости не было заметно никакого строительства. Вот если бы здесь валили деревья, пересыпали камни с тачек… Перед Псковитиновым лежали желтоватые ухоженные дорожки, обрамленные красивыми камнями, аккуратные клумбы… Все дышало миром и нерушимым покоем. Вот если бы у Аракчеева был заведен обычай по утрам палить из пушки! Или если бы крепостные поднимались под барабанный бой. Нет, одним барабаном здесь, пожалуй, не отвертишься, а вот если пушка… пушка. Надо будет выяснить.
– Стол накрыт, батюшка Александр Иванович. – Агафон, должно быть, давно уже переминался с ноги на ногу, ожидая, когда же важный следователь отвлечется от своих мыслей и обратит на него внимание. – Пожалуйте откушать.
– С охотой, с охотой. Показывай, куда идти?
– Да вот к госпоже Мин… Шумской. Здесь как раз и накрыли. Пожалуйте-с, с нашим радушием.
В богато обставленной гостиной за широким столом уже сидели два не знакомых Псковитинову офицера, которые поднялись, едва в дверях появился следователь.
– Присаживайтесь, батюшка, Карл Павлович сказал, чтобы никого не ждали, все в разное время подойдут. Что же поделаешь, когда такие дела? – Агафон указал в сторону стола, расторопно пододвинув Псковитинову стул.
– Разрешите представиться. – Сидящий напротив него рыжий офицер поднялся, вытирая губы. Это был один из тех понятых, которых пригласил Жеребцов во время осмотра тела, но Псковитинов ни как не мог припомнить фамилии того под протоколом. – Гриббе Александр Карлович[53], подпрапорщик гренадерского полка графа Алексея Андреевича Аракчеева. – Представился молодой человек. На вид ему было лет двадцать. – А это Минин Афанасий Степанович. – Он покосился в сторону второго понятого, но тот даже не поднял на следователя глаз. Судя по всему, неприятная процедура его доконала. – Не обращайте внимания, – шепнул улыбчивый Гриббе. – И мой вам совет, не отказывайтесь от рыбного супа, он сегодня у них весьма удался.
– Вы тоже оказались в той злополучной комиссии? – догадался Псковитинов.
– Увы, увы… Впрочем, все это так занимательно, так поучительно, – расплылся в улыбке новый знакомый. Так что Псковитинов заметил, что зубы у него неровные, а рыжие усы закрывают явно заячью губу.
– М-да… – Александр Иванович поднял брови. Нечасто жестокое убийство с последующим расследованием и осмотром трупа удостаивается эпитетов «увлекательное» и «поучительное». Во всяком случае, к личности этого самого Гриббе стоило приглядеться. – Вы неравнодушны к судебной медицине? – на всякий случай уточнил следователь.
– Нет. Я в некотором роде историк и… – Он застенчиво покраснел. – Писатель.
– А… – Псковитинов моментально утратил интерес к подпрапорщику.
Ладный лакей быстро расставлял на скатерти тарелки. В отличие от Петрушки и Дуняшки, чувствовалось, что этот свое дело знал отменно. Должно быть, фон Фрикен арестовал только прислугу Шумской, люди же графа, просто не поспевали теперь обслуживать два особняка и всех некстати съехавшихся гостей.
– Поступил в полк три года назад и уже много собрал материала и по военным поселениям, и по…
За три года и не выбился в прапорщики?! Это говорило о многом. Во всяком случае, не добавляло очков рыжему литератору. Псковитинов не слушал, наблюдая, как миловидная девушка в простом немецком платье колдует над славно пахнущим рыбой супом в белой с золотом супнице: раз – и перед Псковитиновым, словно сама собой, образовалась изящная тарелка, по золотую полоску наполненная стерляжьей ухой с налимом и молоками. Впрочем, эту информацию сообщила та же девушка. Точно такую же порцию получил сидящий напротив Псковитинова офицер с щегольскими усами. Девица выглянула в окно и, должно быть, приметив новых гостей, достала из буфета дополнительные тарелки. Скорее всего, она была приставлена только к этому супу. Вместо хлеба к ухе был подан длинный расстегай с сомовым плесом.
Другие слуги поставили на стол пару бутылок бордо, графинчик анисовой водки и излюбленный напиток самого Псковитинова – вино мадера в приметной бутылочке темного стекла. Специально или случайно, но, налив Александру Ивановичу первому, бутылочка «обошла» желающих и, ополовиненная, вернулась к нему же. Псковитинов принюхался к напитку, повертел вино в бокале, посмотрел на свет, пригубил. Несомненно, это была подлинная мадера, а не дешевая подделка. Если аналогичная бутылочка окажется вечером в его личных апартаментах, можно будет заключить, что кто-то в доме наводил о нем справки и теперь, имея представления о вкусах гостя, желает сделать приятное. С другой стороны, напиток решительно не подходил к рыбе, из чего следователь сделал вывод, что приказавший угостить его мадерой доброхот в данный момент в столовой не присутствует.
– Молодцы, что не церемонитесь и начали без нас. – Едва войдя в гостиную, Миллер устало опустился на стул рядом с Псковитиновым, положив на скатерть карманные томпаковые часы. Перед ним тут же была поставлена тарелка с супом, и лакей внес поднос, на котором возлежал поросенок с хреном.
В гостиную ввалились фон Фрикен в окружение пятерых офицеров, среди которых следователь сразу же приметил своих адъютантов. Кстати, с последними следовало хотя бы познакомиться.







