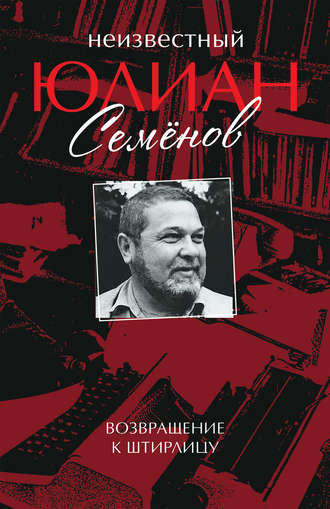
Юлиан Семенов
Неизвестный Юлиан Семёнов. Возвращение к Штирлицу
Картина восьмая
Кабинет Гиацинтова. ГИАЦИНТОВ и ИСАЕВ.
ГИАЦИНТОВ. Исполняющим обязанности главного редактора во время отъезда Ванюшина были назначены вы?
ИСАЕВ. Я.
ГИАЦИНТОВ. Прошу вас объяснить мне, как на страницы газеты попала эта возмутительная гнусность!
ИСАЕВ. О чем вы?
ГИАЦИНТОВ. Я имею в виду статью о продажных девках, голодных детях и смертности в чумных бараках.
ИСАЕВ. Этот материал в номер поставил я.
ГИАЦИНТОВ. Вы?! Будет вам, Макс… Я не верю.
ИСАЕВ. Тем не менее, это правда.
ГИАЦИНТОВ. Зачем вы это сделали?
ИСАЕВ. А тираж? Газету раскупили за десять минут. Такой материал публика читает взахлеб. Согласитесь – нет ничего приятнее, как прочесть о несчастьях ближнего.
ГИАЦИНТОВ. Вы с ума сошли.
ИСАЕВ. Когда я работал в пресс-группе Колчака, мы не боялись печатать правды. И потом – отчего красные не боятся говорить о своих трудностях, а мы обязаны молчать?
ГИАЦИНТОВ. При чем здесь красные? Вы опозорили наше белое, свободное, всем обеспеченное государство! Вы это сделали в обход цензуры?
ИСАЕВ. Когда я верстаю номер, то думаю о газете, а не о цензуре.
ГИАЦИНТОВ. Кто писал статью?
ИСАЕВ. Черт его знает.
ГИАЦИНТОВ. Где текст?
ИСАЕВ. Валяется в редакции.
ГИАЦИНТОВ. У кого?
ИСАЕВ. По-видимому, на столе у метранпажа.
ГИАЦИНТОВ. Метранпаж арестован. Он клянется, что подлинника в типографии никто не видел.
ИСАЕВ. Э, ерунда…
ГИАЦИНТОВ. Вы видели, как набирался этот материал?
ИСАЕВ. Конечно.
ГИАЦИНТОВ. А наборщик не помнит.
ИСАЕВ. Немудрено – он набирает буквы, а не слова, до него смысл материала никогда не доходит.
ГИАЦИНТОВ. Резонно. На чем был написан материал?
ИСАЕВ. На листочках.
ГИАЦИНТОВ. Я понимаю, что не на веточках. Какие были листочки? Большие или маленькие? Чистые или в линеечку?
ИСАЕВ. Кажется, в клеточку.
ГИАЦИНТОВ. Ясно. А через кого этот материал попал к вам?
ИСАЕВ. Я обнаружил его у себя на столе, лежащим поверх гранок.
ГИАЦИНТОВ. А когда это было?
ИСАЕВ. Вчера, естественно.
ГИАЦИНТОВ. Кто дежурил в редакции?
ИСАЕВ. Не знаю.
ГИАЦИНТОВ. Дежурная утверждает, что утром никто из посторонних в редакцию не заходил, кроме девицы.
ИСАЕВ. Старая сплетница. Уволю.
ГИАЦИНТОВ. Правильно поступите. И кто была эта девица?
ИСАЕВ. Полковник, вы вольны казнить меня. Можете даже заковать в кандалы.
ГИАЦИНТОВ. Когда казнят, Макс, в кандалы не заковывают. Надобности нет – человек в прострации. Вроде как у нашего Фривейского.
ИСАЕВ. Бедняга. Врачи говорят, что это серьезно.
ГИАЦИНТОВ. Да, они утверждают, что у него последняя стадия шизофрении, вызванная переутомлением. Несчастный почти невменяем.
ИСАЕВ. Я буду молить Бога о его выздоровлении.
ГИАЦИНТОВ. Макс, а ведь у вас в то утро была Сашенька Гаврилина, не иначе.
ИСАЕВ. Уж не следите ли вы за нами?
ГИАЦИНТОВ. Угадали.
ИСАЕВ. Это ужасно. Спасите нас от вас!
ГИАЦИНТОВ. Как вас спасешь, если вы глупости делаете?
ИСАЕВ. Боже праведный, какие глупости?
ГИАЦИНТОВ. Макс, а вы с Ченом знакомы?
ИСАЕВ. Какой это?
ГИАЦИНТОВ. Кореец, спекулянт.
ИСАЕВ. Знаком. Конечно, знаком.
ГИАЦИНТОВ. Откуда вы его знаете?
ИСАЕВ. Пару раз он меня крепко надул.
ГИАЦИНТОВ. В чем?
ИСАЕВ. Дал подвод на темную лошадку, я поставил и проиграл.
ГИАЦИНТОВ. Мы его вчера взяли. Темный он человек?
ИСАЕВ. По-моему, обычный спекулянт.
ГИАЦИНТОВ. Вы давеча просились на охоту: скоро поедем бить изюбря.
ИСАЕВ. Куда?
ГИАЦИНТОВ. У меня тут есть один егерь.
ИСАЕВ. У меня тоже. Тимоха, может, слыхали?
ГИАЦИНТОВ. Тимоха? Знаю. Кто скорей изюбря обложит, к тому и двинемся. И – в заключение: это, конечно, чистая формальность, но, пожалуйста, подпишите подписку о невыезде.
Занавес
Действие третье
Картина первая
Кабинет с зарешеченными окнами. ГИАЦИНТОВ и ЧЕН.
ГИАЦИНТОВ. Послушайте, приятель, кто ко мне попал, тот сам не выходит. Если, конечно, я не столкнулся с умным и дальновидным человеком. Вся ваша липа с американским телеграфным агентством проверена. Вы подсовывали материалы политического характера, чтобы поссорить атамана с нами.
ЧЕН. Мне смешно вас слышать, Кирилл Николаевич. Мое дело – сенсация. И на бирже, и в политике. За свежий товар больше платят. В городе тогда носились слухи о конфликте между нашими и Семеновым, а что там и как – не это ведь важно, Кирилл Николаевич, а важно, чтоб первым.
ГИАЦИНТОВ. Вполне рационально – вполне. А зачем водичку с соляной кислотой в танки подливали?
ЧЕН. Клевета и гнусный вымысел.
ГИАЦИНТОВ. Какой смысл моим людям клеветать на вас?
ЧЕН. Я и сам голову ломаю. Может, спутали меня с кем?
ГИАЦИНТОВ. Да нет. Я сам был бы рад, коли б спутали.
У вас столько влиятельных защитников. Вон Фривейский об вас так хлопочет…
ЧЕН. У Александра Александровича чуткое сердце.
ГИАЦИНТОВ. Эк вы лихо своих друзей определяете. Любопытно, а как вы определите Максим Максимыча?
ЧЕН. Кого?
ГИАЦИНТОВ. Максим Максимовича,
ЧЕН. Я не имею чести знать,
ГИАЦИНТОВ. Полноте.
ЧЕН. Я обязан говорить вам только правду.
ГИАЦИНТОВ (достав из стола конверт). Поглядите.
ЧЕН. Что это?
ГИАЦИНТОВ. Фотографические карточки. Вот вы с Исаевым на бегах. Вот вы в «Версале». Вот вы, Сашенька Гаврилина и Исаев возле чумных бараков. Вот вы держите блокнот, на котором Сашенька Гаврилина пишет что-то возле ночлежного дома. Вот вы с Исаевым в порту.
ЧЕН. У меня громадная клиентура! Большинство уважаемых людей города играет на бирже и на бегах, разве запомнить всех? Даже ваши сотрудники поигрывают.
ГИАЦИНТОВ. Это мне известно. Вы кого персонально имеете в виду?
ЧЕН. Многих.
ГИАЦИНТОВ. А Исаева забыли?!
ЧЕН. Забыл.
ГИАЦИНТОВ. Вы, между прочим, своим упорством ему хуже делаете. Я уж забеспокоился, что это вы его выгораживаете, не боитесь ли чего. Надо будет им заняться.
ЧЕН. Конечно. Проверка – великая вещь.
ГИАЦИНТОВ. Приятель, вы что, в дураках меня хотите оставить?
ЧЕН. Ну что вы, Кирилл Николаевич?! Я ведь не против того, что меня посадили, только зачем ярлыки клеить? На черном рынке играл? Играл! Бизнес имел с американцами? Имел! За это готов понести наказание.
ГИАЦИНТОВ. А где ваши деньги от бизнеса?
ЧЕН. Кутежи и проститутки жизнь отнимут, не то что деньги.
ГИАЦИНТОВ. Опять-таки верно. Значит, поручителя за вас не найдется.
ЧЕН. Кого угодно обо мне спросите – только хорошее скажут.
ГИАЦИНТОВ. Ну что ж, сейчас пригласим того, кто вас вспомнил.
Нажимает звонок. Появляется СОТРУДНИК.
Пусть войдет Слесарь.
Входит агент СЛЕСАРЬ.
СЛЕСАРЬ. Здравствуйте, гражданин чекист Марейкис! Не думали, что встретимся? А я – вот он, весь перед вами! Или забыли, как меня на Лубянке допрашивали в девятнадцатом?
Бьет Чена по лицу.
ЧЕН. Я протестую, Кирилл Николаевич!
СЛЕСАРЬ. Я те, сука, попротестую!
ГИАЦИНТОВ. Успокойся, Слесарь. Поменьше эмоций. Спасибо тебе, Сергей Дмитриевич. Отойди к дверке. Ну вот, милейший Чен. Партию вы свою проиграли. Хотите жить – давайте говорить начистоту, как разведчики.
ЧЕН. Здесь какая-то трагическая ошибка, Кирилл Николаевич.
ГИАЦИНТОВ. Пеняйте на себя. Вас станут пытать. Не гуманно? Так помогите мне не быть жестоким. Вы сами делаете нас зверьми. Черт с ними, с танками! Черт с Исаевым! Скажите мне, что вы передали тому человеку, который ушел от нас, и я оставлю вам жизнь! Какой пакет вы ему сунули – скажите, и – все!
ЧЕН. Кирилл Николаевич, у ваших сотрудников богатая фантазия…
ГИАЦИНТОВ. Сергей Дмитриевич, забирайте его и работайте вволю. И по вашей методике – иголочку в мизинчик, там мясцо молоденькое, чтоб кровь клопчиками, клопчиками – кап, кап! Потечет! Потечет, чекистская харя!
СЛЕСАРЬ уводит ЧЕНА. ГИАЦИНТОВ вызывает АДЪЮТАНТА.
Партию шахмат?
АДЪЮТАНТ. О… С наслаждением…
Садятся за шахматную доску.
ГИАЦИНТОВ. Прижали вы меня, дружочек.
АДЪЮТАНТ. О, Кирилл Николаевич.
ГИАЦИНТОВ. Что это вы взяли манеру через каждую фразу «о» говорить?
АДЪЮТАНТ. Весьма эмоционально…
ГИАЦИНТОВ. Не нахожу. Шах.
АДЪЮТАНТ. Гарде.
Входит СЛЕСАРЬ.
ГИАЦИНТОВ. Ну?
СЛЕСАРЬ. Молчит.
ГИАЦИНТОВ. Ай-яй-яй… Стыдно… Работайте еще…
СЛЕСАРЬ уходит.
И тем не менее шах.
АДЪЮТАНТ. Я беру вашу королеву.
ГИАЦИНТОВ. Ферзя. Вы родились счастливчиком.
АДЪЮТАНТ. Счастливчиком становятся, Кирилл Николаевич. Рождаются все одинаковыми.
ГИАЦИНТОВ. Очень наивное заблуждение, Воля. Мат. Так вот, зовите нашего доктора. Это – последний шанс.
АДЪЮТАНТ выходит. Появляются ДОКТОР с саквояжем и два сотрудника. СЛЕСАРЬ вводит ЧЕНА – избитого и окровавленного.
Сейчас мы вспрыснем вам, милейший Чен, только что полученный препарат, который парализует вашу волю. И помимо своей воли вы расскажете все, что нас будет интересовать. Конечно, это лишит меня возможности потом устроить над вами суд, но вы сами во всем виноваты. После того, как я все от вас узнаю, вы станете ренегатом для своих. У вас обожают это звучное иностранное слово – ренегат!
ДОКТОР достает из саквояжа шприц и ампулу.
Вы плачете, милейший Чен?
ЧЕН. Да.
ГИАЦИНТОВ. Отчего? Я б и раньше провел этот эксперимент, чтобы избавить вас от мук, но я сначала хотел испытать конституционные пути – и не моя вина, что вы оказались таким букой. Ну, ничего, через пару часов после того, как вы кончите давать правдивые показания, я напою вас кагором и отправлю спать в камеру. Но перестаньте, право, слезы у взрослого мужчины… Доктор, прошу!
ЧЕН бросается к окну и что есть силы ударяется о чугунные решетки головой. Падает.
Сволочь!!! Сволочь!!! Сволочь!
ДОКТОР. Он мертв.
ГИАЦИНТОВ. Всем сидеть здесь. И тихо, пожалуйста, у меня сердце вниз подъекнуло.
Центр сцены. Рельсы, уходящие в Москву. Идет заседание райкома комсомола. Два секретаря райкома, одна девушка в красной косынке. Рядом – БЛЮХЕР.
СЕКРЕТАРЬ. Пусть зайдет следующий.
Входит ПАХОМ ВАСИЛЬЕВ.
ВАСИЛЬЕВ. Здорово, ребята! На мобилизационную комиссию райкома комсы прибыл Пахом Васильев. Готов умереть за революцию.
БЛЮХЕР. Ты лучше за нее поживи.
ВАСИЛЬЕВ. А этот тип откуда?
ДЕВУШКА. Этот тип… Этот тип!
БЛЮХЕР. Я из военведа.
ВАСИЛЬЕВ. Рожа у тебя больно старорежимная. У меня к тем, кто бритый, и в английском френче, прорезалось обостренное чувство классовой неприязни.
БЛЮХЕР. Понятно. Какую главную мечту имеешь в жизни?
ВАСИЛЬЕВ. Торжество революции в мировом масштабе.
ДЕВУШКА. Что сделал для этого?
ВАСИЛЬЕВ. Учу английский язык по приказу главкома Блюхера. Провел со своей комсой семь коммунистических субботников. Отремонтировал в нашем депо три полевые кухни в сверхурочное время! Отдал для нужд фронта свои хромовые сапоги!
БЛЮХЕР. Голенища бутылочками?
ВАСИЛЬЕВ. Что я – старик? Гармоника – напуск, сдвигаешь их, бывало, так аж скрежет стоит, как предсмертный стон мирового империализма!
БЛЮХЕР. Годится. Следующий.
СЕКРЕТАРЬ. Получаешь направление на бронепоезд.
ВАСИЛЬЕВ. Доверие оправдаю. Вернусь с победой.
СЕКРЕТАРЬ. Следующий.
Входит НИКИТА ШУВАЛОВ.
НИКИТА. Шувалов, Никита.
СЕКРЕТАРЬ. Давно в рядах комсы?
НИКИТА. Третий год.
ДЕВУШКА. Что сделал для революции?
НИКИТА. Ничего.
ДЕВУШКА. Разъясни.
НИКИТА. И так понятно. Революции нужны бойцы, а меня держат машинистом на «кукушке». Я вожу бараньи туши с бойни на базар для купцов советского выпуска.
БЛЮХЕР. А если советские купцы помогают кормить народ? Ты все равно против?
НИКИТА. Да не против я. Плевать мне на них семь раз с присыпью. Меня они не волнуют, я сам себя волную. Талдычат: погоди, ты еще пригодишься революции, погоди.
БЛЮХЕР. Дождался. Идешь машинистом на бронепоезд.
НИКИТА. Давно бы так, а то тянут чего не поймешь. (Уходит.)
СЕКРЕТАРЬ. Это хорошо, что на бронепоезд. У него белые отца в топке сожгли. Он на них бешеный.
Входит ПОТАПОВ.
ПОТАПОВ. Здравствуйте, товарищи. Василий Константинович, на минуту.
БЛЮХЕР. Что стряслось?
ПОТАПОВ. Взят Чен. Вокруг Исаева кольцо, связь с ним оборвалась.
БЛЮХЕР. Едем в штаб.
Картина вторая
ВАНЮШИН, ИСАЕВ и СЛЕСАРЬ. Номер «Версаля».
ВАНЮШИН (он пьян). Слушай, цинковое лицо… Зачем ты здесь торчишь? Мы ж тебя прогоняли сто раз.
СЛЕСАРЬ. Господин Ванюшин, служба… Вот на Максим Максимыча покушение подполье тутошное готовит как на продажного белого писаку – я к ему личным охранником прикреплен. И чтоб ни на шаг… Служба, господин Ванюшин, служба, куда от нее денешься…
ВАНЮШИН. Черт с тобой, сиди. Только на меня не смотри – у тебя глаза оловянные.
ИСАЕВ. Николай Иванович, мудрость – это спокойствие…
ВАНЮШИН. Вот врезочка, Максим Максимыч. Из московской газеты «Раннее утро» от 17 октября 1912 года. Полюбопытствуйте. Только вслух. Я наслаждаюсь, когда слушаю это.
ИСАЕВ. «Вчера у мировой судьи слушалось дело корреспондента иностранной газеты Фредерика Раннета по обвинению его в нарушении общественной тишины и спокойствия. Находясь в ресторане в компании иностранцев и будучи навеселе, Раннет подошел к официанту Максимову и ударил его по лицу. Составили протокол. Раннет заявил, что он не желал оскорблять Максимова, а хотел только доказать, что в России можно всякому дать по лицу и отделаться небольшим расходом в виде денежного штрафа. Мировой судья, однако, приговорил Раннета к семи дням ареста».
ВАНЮШИН. Заголовочек пропустили, Максим. Вы обязательно проговорите мне заголовочек.
ИСАЕВ. Заголовочек – извольте: «В России все можно?!»
ВАНЮШИН. Ха-ха-ха! Какая прелесть, а?! У нас все можно! Все и всем! Любому скоту, и торговцу, и вонючему иностранишке! И любому интеллигентишке!
ИСАЕВ. Зря вы нашу интеллигенцию браните. Она бессильна не от того, что плоха, а потому, что законов у нас было много, а закона не было.
ВАНЮШИН.Все кончено, Максим. Вы понимаете – мы пропали.
ИСАЕВ. О чем вы? Зачем такой пессимизм?
ВАНЮШИН. В эмиграции после гибели Колчака я жил в роскошном харбинском хлеву и подстилал под себя прекрасную заграничную солому. Воровал хлеб, а потом здесь – восстание, Меркуловы… Я поверил. Я приехал сюда и делал все, что мог, во имя победы белой идеи. Но кому она нужна здесь? Мне. Вам. А еще? Кому еще? Остальные норовят побольше заграбастать, урвать от пирога – а там хоть потоп! В Хабаровске, когда мы его освободили от красных, был разгул, семеновцы насиловали гимназисток и вешали учителей, а Меркулов метался по лесному складу – на идею ему плевать, важно кедрач вывезти немедля… Ужас, ужас… скотство… Каждый о себе, о России – никто! Народ нас проклянет. Какие, к черту, белые-освободители?! Бандиты и торгаши!
Появляются САШЕНЬКА и гиацинтовский АДЪЮТАНТ.
ИСАЕВ. Здравствуйте, Сашенька.
ВАНЮШИН. Здравствуйте, лапонька. Вы что это так оделись – в пимы и тулупчик? Карнавал по случаю наших побед?
САШЕНЬКА. Нет. Нас Гиацинтов на охоту позвал.
ИСАЕВ. А с вами кто, Сашенька? Физиономия мне знакомая.
САШЕНЬКА. Это Воля, он повар, его полковник со мной послал – мы первыми едем, чтоб вас на заимке у Тимохи встретить. Вы ведь все вечером подъедете?
ИСАЕВ. Мы вечером, а полковник к утру, у него дела.
ВАНЮШИН. Сашенька, а что это вы так похорошели? Не к любви ль?
САШЕНЬКА. К оной, Николай Иванович, к оной!
САШЕНЬКА уходит.
ВАНЮШИН. А теперь пьем спокойно и думаем о Боге. Вы когда-нибудь слышали, как волчатники воют – волчицей кричат, волка подзывают? Я умею. Хотите, покажу? (ВАНЮШИН ложится на пол и страшно, протяжно “габит” – поет по-волчьи.) Вчера генерал Савицкий предложил американцам за миллион долларов купить все земли Уссурийского казачьего войска. Торговатъ землей Родины! Этого пока еще не было! Все-таки действительно рыба начинает гнить с головы.
Появляется МАША с цыганом-гитаристом. Она поет.
У всех купчишек генералин в мозгу! Интеллигент не падок до власти – в этом трагедия нашего общества! У нас до власти падки разночинцы, торговцы-купчишки и попы! А интеллигенты только правдоискательствуют! Идиоты! А правды в России – нет! Нет ее, правды-то! Нет!
ИСАЕВ. Успокойтесь, Николай Иванович…
ВАНЮШИН. А я спокоен! Я спокоен, как животное. Я спокоен, как тот изюбрь, которого вы завтра убьете. У вас, кстати, патронов на мою долю не найдется?
ИСАЕВ. А у меня только два. Хотя держите – я с собой на изюбря больше одного патрона не беру, это нечестно.
ВАНЮШИН. А если промажете?
ИСАЕВ. Не промажу. Я злой на охоте.
ВАНЮШИН уходит.
Хорошо ты поешь, Машенька, сердце холодит.
МАША. Красивый, а ты на охоту не езди…
ИСАЕВ. Почему?
МАША. Я сон видела вещий, будто у меня зуб выпал.
ИСАЕВ. Ну, будь здорова.
ИСАЕВ уходит в сопровождении СЛЕСАРЯ.
МАША. Гриша, а гитару с того дерева делают, что и гроб?
ЦЫГАН. Нет… Гробики лучше из сосны, она гниет чище.
Появляется ГИАЦИНТОВ.
ГИАЦИНТОВ. Гриша, выйди, сынок, мне с Машенькой надо Обмолвиться.
ЦЫГАН уходит.
МАША. Он не мешает мне, Гриня-то. Он меня любит, не то что вы все.
ГИАЦИНТОВ. Сядь. На руку, погадай.
МАША. Позолотить надо.
ГИАЦИНТОВ. Мало я тебе золотил.
МАША. Удача тебя ждет, да плохая это удача будет, черный. Кровавая она выйдет, эта твоя удача. Не бери красивого с собой – не бери. Оставь его. Хочешь, я к тебе сегодня поеду? За это всю ночь с тобой проведу.
ГИАЦИНТОВ. Не болтай, не болтай. А поехать – и так поедешь, иначе табор ваш прогоню из города.
МАША. А мы дорог не боимся.
ГИАЦИНТОВ. Значит, удача, говоришь? Ну ступай, спасибо тебе.
МАША. Нет, ты мою просьбу уважь.
ГИАЦИНТОВ. Ну ступай, ступай. Какие ты глупости говоришь, право; красивый – мой приятель, ты не думай, я его на хорошее зову.
МАША. Смотри, а то я с нашим чертом говорить стану. Он – рогатый, он кого хошь найдет.
ГИАЦИНТОВ. А хвост есть?
МАША. Смеешься, черный. Гляди, я правду говорю.
МАША уходит. ГИАЦИНТОВ пьет, потом снимает телефонную трубку.
ГИАЦИНТОВ. Больницу мне. Алло, это отделение для душевнобольных? Здравствуйте. Как самочувствие господина Фривейского? Ясно. Понятно. Спасибо. До свидания. Сейчас я буду.
ГИАЦИНТОВ уходит.
Картина третья
Охотничья заимка Тимохи. ВАНЮШИН спит на лавке. Агент СЛЕСАРЬ и АДЪЮТАНТ ВОЛЯ спят у двери, чтобы никто не мог войти или выйти. САШЕНЬКА и ИСАЕВ сидят у окна, занесенного снегом.
САШЕНЬКА. Если прижаться щекой к замерзшему окну, то сначала холодно, а потом жарко – как жжет. Попробуйте, Максим Максимыч.
ИСАЕВ. Я при вас несколько глупей, Сашенька. Мне обязательно при вас хочется говорить самые умные вещи и обязательно афоризмами.
САШЕНЬКА. Это вам, наверно, передается мое состояние, мне тоже хочется быть ужасно оригинальной и умной, чтобы вы не сразу поняли, какая я дура.
ИСАЕВ. Молодой месяц слева. Загадывайте – сбудется.
САШЕНЬКА. Загадала.
ИСАЕВ. У вас глазищи японские.
САШЕНЬКА. Да?
ИСАЕВ. Будто не знаете…
САШЕНЬКА. Знаю.
ИСАЕВ. Зачем переспрашиваете?
САШЕНЬКА. Зачем, зачем… Хочу, чтобы вы в меня влюбились…
ИСАЕВ (прижавшись щекой к окну). Сначала жарко, а потом ужасно холодно.
САШЕНЬКА. У вас на скулах румянец с синевой, как у склеротика.
ИСАЕВ. Спасибо.
САШЕНЬКА. Я вас нарочно злю.
ИСАЕВ. Давайте играть в ладушки.
САШЕНЬКА. Я не умею.
ИСАЕВ. Умеете. Это вы просто забыли. Сейчас я стану петь и подбрасывать вашу ладонь, а вы бойтесъ, чтобы я вас между делом не хлопнул по руке.
САШЕНЬКА. А вы сильно будете хлопать?
ИСАЕВ. Нет, совсем не сильно.
САШЕНЬКА. Давайте.
ИСАЕВ. Ладушки, ладушки, где были? У бабушки! А что ели? Кашку! А что пили?
САШЕНЬКА. Спирт. Вы не по правде играете, я не боюсь вас, вон вы мне поддаетесь и в глаза не глядите.
ИСАЕВ. Сашенька, а вот если б люди были вместе – долго, вечность, а потом один из них взял и уехал, но чтоб обязательно и в скорости вернуться, тогда как?
САШЕНЬКА. О чем это вы, Максим Максимович? Я ж отказалась ехать с отцом в Париж, коли вы тоже здесь остаетесь.
ИСАЕВ. Когда бы вы только видели, как я отвратителен, если сфотографировать мое отражение в ваших глазах. Я кажусь маленьким, жирным и расплющенным, словно на меня положили могильную плиту. И рожа, как новый пятак.
САШЕНЬКА. Зачем вы так говорите? Я не княжна Мэри, я прожила революцию и пять лет войны, меня окольно не надо отталкивать, вы мне лучше все прямо в глаза говорите, а то я бог весть что подумаю.
ИСАЕВ берет деревянную свистелочку с подоконника и тихонько играет протяжную, заунывную мелодию.
САШЕНЬКА. Что вы молчите? Ну? Ответьте же что-нибудь! Вы когда-нибудь очень пожалеете, что не позволили мне всегда быть подле вас.
ИСАЕВ. Я знаю.
САШЕНЬКА. Ничего вы не знаете…
ИСАЕВ. Смотрите, какая тайга под луной. Будто декорация. У вас лоб выпуклый, хороший.
САШЕНЬКА. Вы, верно, думаете, что в нем ума много?
ИСАЕВ. Вы – умная.
САШЕНЬКА. Женщине надо родиться дурой, тогда ее ждет счастье.
ИСАЕВ. Это не ваши слова.
САШЕНЬКА. Мои.
ИСАЕВ. Сашенька… Моей профессии… журналиста противна любовь к женщине, потому что это делает ласковым и слишком мягким. А это недопустимо. Но раньше я вообще никогда не любил; не успел, наверное, потому что главным для меня были… мои читатели. Они, читатели, требуют всей моей любви и силы, всего сердца и мозга – иначе незачем огород городить. Так я считал.
САШЕНЬКА. Вы и сейчас продолжаете считать так?
ИСАЕВ. Да.
САШЕНЬКА. Я поцелую вас, Максим Максимыч, можно?.. Милый мой, дорогой человек, а ведь ваши читатели газетами окна на зиму заклеивают и фамилию вашу пополам режут – я сама видела.
ИСАЕВ. Сашенька, Сашечка, Саша…
САШЕНЬКА. Я пойду за вами куда позовете. Я готова нести на спине поклажу, в руках – весла, а в зубах – сумку, где будет наш хлеб. Я готова быть подле вас всюду – в голоде, ужасе и боли. Если вы останетесь здесь – я останусь подле вас, что бы вам ни грозило.
ИСАЕВ. Скоро утро. Ложитесь, я буду сидеть подле вас.
САШЕНЬКА ложится на кровать. ИСАЕВ укрывает ее медвежьей полостью. Сидит возле нее и поет ей колыбельную песню. Открывается дверь.
СЛЕСАРЬ (со сна). Кто?! Что?! Куда?!
ТИМОХА. Тише ты. Я это, егерь Тимоха.
СЛЕСАРЬ. А-а… (Сонно.) Ну, проходи.
ИСАЕВ.Ну?
ТИМОХА. Будет зверь. Айда спать, а то завтра маятность предстоит.
ИСАЕВ. Места для нас определил?
ТИМОХА. Порядок.
ИСАЕВ ложится подле Сашеньки. ТИМОХА укладывается на полу и тушит лампу.
ИСАЕВ. Сашенька, я очень верю прекрасному глаголу – «ждать». А вы? Спит. Сашенька – единственная женщина, которую я мечтал видеть всегда рядом…
Окно зимовья освещается желтым светом автомобильных фар.
Входит ГИАЦИНТОВ с тремя сотрудниками контрразведки.
ГИАЦИНТОВ. Тише топайте, люди спят. (Он подходит к постели и долго смотрит на лежащего Исаева.)
Центр сцены. Вдали – грохот канонады. Рваная колючая проволока. Луна искрится на снегу. Через это снежное мертвое поле, среди трупов убитых, идут БЛЮХЕР и ПОСТЫШЕВ.
БЛЮХЕР. Красный. Белый. Белый. Казак. Красный…
ПОСТЫШЕВ. Русские они все…
БЛЮХЕР. Правда крови стоит.
ПОСТЫШЕВ. Завтрашний бой решит все.
БЛЮХЕР. Слышишь?
ПОСТЫШЕВ. Что?
БЛЮХЕР. Вроде – песня…
ПОСТЫШЕВ. Нет. Лес стонет. Мороз стволы ломает.
БЛЮХЕР. Сердце разрывается, когда людей посылаешь с голыми руками на колючую проволоку, под пулеметы…
ПОСТЫШЕВ. Правда крови стоит.
БЛЮХЕР. Не забыли б только про это.
ПОСТЫШЕВ. Такое не забывают.
БЛЮХЕР. Знаешь, мне иногда прямо крикнуть хочется, и чтоб крик мой, словно обелиск, остался навечно: «Люди, дети, внуки! Помните про то, как голодные солдаты революции умирали за ваше счастье! Обязательно помните! Забыв тех героев, которые свершили самую великую и добрую революцию, вы предадите самих себя, свое сердце, свою мечту!»
ПОСТЫШЕВ. Они будут помнить.
БЛЮХЕР. Пошли в окопы. Через час – штурм Волочаевки.
ПОСТЫШЕВ. Слышишь?
БЛЮХЕР. Что?
ПОСТЫШЕВ. Ночь какая божественная.
БЛЮХЕР. Стрелять перестали совсем…
ПОСТЫШЕВ. В такую ночь стрелять – красоту рушить.
БЛЮХЕР. Ну, до утра, Пал Петрович.
ПОСТЫШЕВ. До утра, Василий Константинович…
БЛЮХЕР. Пал Петрович… А ведь верно… Поют… Мужики поют… Слышишь…
Поют мужики протяжную песню – о доме, который бросили, о детях, которые остались одни, о бабах, которые одни горемычничают. Подходит ГРЖИМАЛЬСКИЙ.
ГРЖИМАЛЬСКИЙ. Василий Константинович, дальнейшее ожидание деморализует войска. Моя жена в свое время ставила любительские спектакли. У них был термин – «передержать спектакль». Пусть лучше выпустить чуть раньше, поможет энтузиазм, напор, горение.
ПОСТЫШЕВ. Андрей Иванович, дорогой, фронт – не спектакль, там не из игрушечных пистолетов стреляют.
ГРЖИМАЛЬСКИЙ. Если б я решил саботировать – то лучшей ситуации не сыщешь. Все вокруг ропщут, считают, что это мы, бывшие генералы, удерживаем вас от последнего броска…
БЛЮХЕ Р. Кто именно?
ГРЖИМАЛЬСКИЙ. Увольте от точного ответа, я считаю это доносительством.
БЛЮХЕР. Помните Пушкина. «Мы ленивы и нелюбопытны»? Мы еще склонны прикрывать невежество – в военной науке тоже – презрительной ухмылкой обожравшегося культурой Фауста. Соскобли с иного «Азбуку коммунизма» – и предстанет голенький крикун-обыватель.
ПОСТЫШЕВ. А что касается недовольных медлительностью Блюхера – то это нам выгодно: это дезинфекция, которой во Владивостоке не могут не верить, потому что она исходит от преданных, но недалеких людей.
ГРЖИМАЛЬСКИЙ. Вы страшные хитрецы.
БЛЮХЕР. А как без нее воевать-то, без хитрости? Какие у вас пропозиции по завтрашнему бою?
ГРЖИМАЛЬСКИЙ. Здесь я предлагаю вам широкую деятельность…
БЛЮХЕР. У индусов есть поговорка: «Горе тому народу, правитель которого слишком деятелен». Как бы нам такому правителю не уподобиться? Ну, пошли в штаб, будем все перепроверять напоследок.
ПОСТЫШЕВ. Счастливо.
БЛЮХЕР. Ты в окопы?
ПОСТЫШЕВ. Да.
БЛЮХЕР и ГРЖИМАЛЬСКИЙ уходят. ПОСТЫШЕВ стоит, замерев, слушая песню. К нему подходят ПЕРВЫЙ и ВТОРОЙ БОЙЦЫ.
ПЕРВЫЙ БОЕЦ. Пал Петров, когда ж начнем?
ВТОРОЙ БОЕЦ. Душа истомилась – сковырнуть надо белого гада, в дома вернуться, землю нежить.
ПОСТЫШЕВ. Землю нежить…
ПЕРВЫЙ БОЕЦ. Мы теперь заново рожденные, мы теперь все окрест вдвойне любим: и небо, и бабу, и землю, и дите.
ПОСТЫШЕВ. Это как понять – «заново рожденные»?
ВТОРОЙ БОЕЦ. Кто из труса выкарабкался и стал врагу в глаз смотреть.
ПОСТЫШЕВ. Ну, пошли. Вон солнце забрезжило. Через час – штурм Волочаевской сопки.
ПЕРВЫЙ БОЕЦ. Слава тебе, господи! Спаси, сохрани и помилуй – наше красное дело!
ПОСТЫШЕВ. Думаешь – слышит он тебя?
ПЕРВЫЙ БОЕЦ. Этого я не знаю, а порядок есть порядок! Даешь Волочаевку, мать твою белого гада семь раз так!







