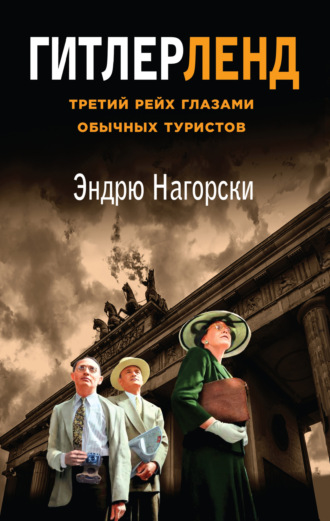
Эндрю Нагорски
Гитлерленд. Третий Рейх глазами обычных туристов
В газетах Hearst любили писать о подвигах «великолепной британской женщины» и «всемирно известном корреспонденте» Виганде. И они без тени сомнения переключились на истории о воздухоплавании, когда ситуация на земле стала поспокойнее, чем была поначалу после войны.
Как позже писала Дороти Томпсон, время с 1924 по 1929 г. было «полно надежд… За эти короткие пять лет Германия добилась заметного прогресса». Этот прогресс было очень удобно показывать на примере эффектных историй о людях, перелетающих через океан: это был безмятежный, гармоничный мир. Но даже в эти многообещающие времена многие американцы в Германии чувствовали, что, несмотря на внешнее сходство, «германцы» отличались от них и от многих других европейцев. «Хотя внешние элементы американской жизни все больше входили в моду – заведения быстрого питания, броские слоганы, небоскребы, даже жвачка, – отношение ко всему этому оставалось совершенно тевтонским», – писала Лилиан Моурер. Эти «тевтонские» отличия выглядели порой странно, порой – комично, а порой – довольно подозрительно и даже зловеще.
Моуреры исследовали германские социальные особенности, которые с первого взгляда выглядели пикантно. «Где, кроме Германии, можно найти 150 тысяч организованных нудистов?» – писал Эдгар. Но побывав в нескольких нудистских колониях, Лилиан отметила: «Там совершенно неэротичная и сосредоточенная атмосфера». Она списала сенсационные истории про сексуальные приключения этих людей как просто слухи, обнаружив за всем этим нечто более философское.
«Их ведут чувства отчасти примитивные, отчасти религиозные: надежда на более вменяемое человечество где-то в невообразимом будущем». Её смутило «ненаправленное эмоционально рвение», характерное для нудистского движения, и его «яростное стремление к чему-то отличному от знакомого». Многие из встреченных ею молодых людей в нудистских колониях голосовали за коммунистов, видя в последних путь к улучшению человечества. Эти чувства, заключала она, «можно легко канализировать и направить в любом ином направлении, как только найдется беспринципный лидер, заинтересованный применять их для своих целей».
Томпсон поразило, насколько сильно немцы интересуются кровавыми преступлениями: об этом свидетельствовала популярность полицейской выставки, посвященной сериям убийств, попадавших в газеты. На выставке была копия спальни человека, заманившего двадцать шесть жертв-мальчиков в туалеты ганноверской железнодорожной станции. «Чтобы посмотреть на убогое логово, где этот монстр убивал своих жертв, на кровать, где он их душил, на стол, где он их расчленял, – ради этого люди стоят в очереди по полчаса», – писала она.
Американцев озадачивали и другие формы экзотического для них поведения. Моуреров поразил один сотрудник корреспондентского пункта Daily News, соблюдавший «естественную» диету почти без жидкости, которая, по его словам, должна была невероятно продлить ему жизнь. Он придерживался этой диеты с таким рвением, что потерял сорок фунтов, стал вполовину менее эффективен в работе и выглядел «как мертвая голова». Наконец он сломался, съел обед из свинины, картофельного салата и яблочного пирога, выпив при этом много пива: тело его ужасно распухло, в результате он попал в больницу. Пролежав там шесть недель, он объявил, что просто не сумел найти правильную диету для продления жизни. «Если б я только мог посвящать поискам все свое время…» – говорил он.
«Тебе не кажется, что немцы – все-таки чуть большие психи, чем другие народы? – спрашивала Лилиан мужа. – Они такие нестабильные, такие… истеричные». – «Им не хватает уверенности, – ответил Эдгар. – Они очень богаты интеллектом и очень бедны в обычном смысле слова. И они способны поверить практически во что угодно».
В разгар эпохи явного антисемитизма Веймарская Германия не всегда рассматривалась как нечто особенное. Хехт, утверждавший, что он был единственным евреем из американских корреспондентов в Берлине в период с 1918 по 1920 г., писал о своем опыте тех времен довольно неожиданные вещи: «Хочу сказать кое-что неожиданное. За свои два года работы в Германии я, еврей, не видел и не слышал никаких признаков антисемитизма… В послевоенной Германии ваши глаза, уши, нос и пальцы находили меньше антисемитского, чем в США в любой период времени».
Хехт, возможно, неслучайно так демонстративно не замечал антисемитской риторики, которую было трудновато не обнаружить. Во-первых, он стремился подчеркнуть, что у американцев нет причин считать себя лучше других. Во-вторых, он писал сразу после Второй мировой войны и Холокоста, иллюстрируя свой тезис о том, что привела к этой катастрофе черта, характерная для среднего немца. Как бы ни был последний образован или умен, он, по словам Хехта, «пренебрежет любой моралью, если надо подчиняться лидеру». Иначе говоря, вовсе не доктрина лидера убедила немцев следовать за ним – довольно было и того, что он потребовал их лояльности, и они её проявили.
Нет оснований сомневаться, что после Первой мировой войны американцы действительно были склонны к антисемитизму. А некоторые не просто соглашались с этой пропагандой, но и активно в ней участвовали. Самым известным из таких американцев был Генри Форд. Этот автопроизводитель, кроме всего прочего, был еще и рьяным пацифистом, пропагандировавшим свои убеждения еще с 1915 г. «Я знаю, кто привел к этой войне – еврейские банкиры из Германии, – говорил он Розике Швиммер, венгерской активистке пацифизма. – У меня есть доказательства. Факты!»
В 1919 г. Форд купил Dearborn Independent, небольшой еженедельник, в котором начал настоящую антисемитскую кампанию, основанную на «Протоколах сионских мудрецов» – фальшивом документе, «разоблачающем» мировой еврейский заговор по захвату мира, который был известен Европе и ранее, но только теперь дошел до Америки. Серия статей на эту тему была вскоре опубликована в печально известном сборнике «Международное еврейство» (The International Jew).
Когда Аннетта Антона, колумнист Detroit News, брала интервью у Гитлера 28 декабря 1931 г., в Коричневом доме в Мюнхене, штаб-квартире нацистов, она обратила внимание на огромный портрет Форда над его столом. «Генри Форд вдохновляет меня», – сказал ей Гитлер.
Из такого заявления будущего лидера Германии можно сделать много поспешных выводов. Гитлер был ярым антисемитом задолго до того, как познакомился с точкой зрения Форда. А его восхищение Фордом могло быть в значительной степени связано с его блестящими достижениями как автопроизводителя, а не только с его предрассудками. Придя к власти, Гитлер воплотил в реальность свою идею Volkswagen – «автомобиля для народа», и он выражал благодарность «гению мистера Форда» за то, что тот показал, что автомобиль может объединять различные классы общества, а не разделять их.
И все же Форд и другие примеры американского антисемитизма служат полезными напоминаниями о том, насколько не одинока Германия была в подобных воззрениях в 1920-х гг. Часть живших в Берлине американцев проявляла свои предрассудки ничуть не меньше, чем их немецкие знакомые. В написанном 23 февраля 1921 г. письме Вивиан Диллон, начинающей американской оперной певице, Виганд выражал свое потрясение тем фактом, что она подумывает выти замуж за «обеспеченного, энергичного менеджера из евреев». Он вопрошал: «Почему же именно еврей, как вы могли прийти к выводу, что не найдется других – обеспеченных и энергичных?»
Но антисемитизм в Германии был не просто обыденной болтовней. 24 июня 1922 г. в Берлине убили министра иностранных дел Вальтера Ратенау, самого высокопоставленного еврея в стране; все чаще случались и иные акты насилия со стороны правого крыла. Дипломат Хью Уилсон винил в этом сочетание факторов: миллионы ветеранов войны вернулись в Германию, где не хватало рабочих мест и где богатство и власть скопились «в значительной степени у евреев». Большевизм также считали еврейским проектом, равно как и некоторые демократические партии в рейхстаге. «Можно было видеть, как усиливаются ненависть и отвращение», – писал он.
В середине 1920-х казалось, что страна встает на ноги, так что многие американцы в Германии не слишком беспокоились по поводу антисемитских речей нацистов и иных экстремистов. Но они их все-таки замечали, что бы ни писал Хехт спустя много лет. Особенно заметно растущее напряжение было для них в присутствии немецких евреев.
Однажды вечером 1928 г. С. Майлз Бутон, берлинский корреспондент Baltimore Sun, столкнулся с Томпсон и Льюисом в Берлинской государственной опере. Бутон был там с дочерью одной еврейской семьи, жившей в том же доме, что и он. До того он с Льюисом знаком не был, так что Томпсон представила их во время антракта. Молодая женщина не говорила по-английски, так что Льюис пользовался только немецким, которым владел свободно, и в некий момент он упомянул евреев. Ничего ужасного он не сказал, но Бутон забеспокоился и тихонько предупредил его по-английски: «Осторожно. Девушка, которая со мной, – она еврейка».
Льюис ничем не показал, что услышал, но потом небрежно заметил. «Знаете, многие бы просто не поверили, если бы узнали, что мой отец был раввином». Молодая женщина вдруг просияла. «Ваш отец был раввином?» – переспросила она.
Через несколько лет, рассказывая об этом эпизоде, Бутон вспоминал: «В 1928 г. еще не было никаких предвестников будущих погромов, которые дали Германии дурную славу пять лет спустя. Но марширующие бойцы в униформах пели песни про то, как будет литься еврейская кровь; все чаще можно было увидеть свастику, эмблему немецкой ненависти к евреям». Для молодой женщины в тот вечер самым потрясающим событием стало даже не знакомство со знаменитым писателем, который на самом деле был сыном сельского врача из Висконсина, но и то, как он соврал, что еврей. «Надеюсь, она никогда не узнала правды, – говорит в конце истории Бутон. – Вполне возможно, что деликатность и доброта Льюиса принесла этой несчастной больше радости, чем он мог предположить».
В 1925 г. Якоб Гулд Шурман сменил Хоутона на должности посла. Шурман был до того нью-йоркским политиком, учившимся в Германии и говорившим на прекрасном немецком. Он постарался продолжить благие дела своего предшественника. Одним из его проектов был сбор денег с богатых американцев на строительство Гейдельбергского университета; на это дело пожертвовал сам Джон Д. Рокфеллер – из собранных 500 тысяч долларов 200 тысяч принадлежали ему. Подобная деятельность сделала Шурмана очень популярным дипломатом.
Популярности ему добавило и то, что он одобрял твердость немецкого правительства в поддержании мира и демократии. В начале своей работы он утверждал, что «желание воевать в Германии умерло», а позже, в 1928 г., он подчеркивал важность участия Германии в подписании пакта Бриана – Келлога, где декларировался отказ от войны как средства. Во время визита в Нью-Йорк в том же году он объявил: «Республика теперь посвящает силы благу народа и растет с такой жизненной силой, что можно не сомневаться – это навсегда».
Шурман был на деле не так слеп в отношении политической ситуации, как можно подумать по его публичным заявлениям. Во время своего первого года в Берлине он отмечал, что американские финансовые институты активно проталкивали свои займы с высокими процентами, игнорируя рискованность таких займов. Из его посольства сообщали, что «стремление закинуть непродуктивные миллионы в немецкую казну быстро становится все более патологическим».
Американские корреспонденты вроде Моурера также начинали сомневаться в разумности происходящего. Экономист Дэвид Фрайди, один из преподавателей Моурера в Мичиганском университете, прибыл в Берлин как представитель фирмы, готовой инвестировать в Германию. Он отобедал с Моурерами, закурил сигару и стал так рассказывать о своей миссии: «Понимаете, мы считаем этих людей отличным вариантом вложений: они трудолюбивы, надежны… мы снова поставим их на ноги».
«Под девять процентов?» – спросил Моурер.
«Ну, мы же не филантропы», – ответил Фрайди.
Как рассказывала Лилиан Моурер, «легкие» деньги из США и других стран привели к «оргии трат». Она много путешествовала по стране, делая заметки для Town and Country, и упоминала среди прочего увиденного «потрясающие новые железнодорожные вагоны и модернизированные монстры на рельсах». Она также признавала, что «весь подвижной состав страны снабдили новыми тормозами Кунце – Кнорра – роскошью, которая в сумме стоила примерно 100 миллионов долларов». Она добавляла, что Британия тоже подумывала оснастить свои поезда этими новыми тормозами, но решила, что не может себе этого позволить. Германия также воспользовалась полученными займами, чтобы выплачивать репарации, а Шурман открыто сочувствовал жалобам немцев на то, что финансовая ноша оказалась непосильной. Еще до краха Уолл-стрит хватало признаков того, что экономика Германии крайне неустойчива. В марте 1929 г. Шурман получил предупреждение от председателя комитета финансов рейхстага, что государственная казна в худшем состоянии, чем когда-либо с кризиса 1923 г.
Вскоре вместо плана Дауэса был принят план Юнга, получивший название в честь американского банкира Оуэна Д. Юнга, главы другой команды экспертов. Они разработали этот план в 1929 г. и предполагали еще больше снизить выплаты репараций, а также растянуть их до 1988 г. Фердинанд Эберштадт, самый знаменитый американский эксперт по германским финансам, напрямую сказал Юнгу в начале переговоров с французами и другими странами: «Все это сплошное надувательство – пузырь лопнет, потому что они играют в политику и не учитывают экономику». Немецкое руководство продолжало жаловаться на то, что выплаты все еще слишком велики, а Гитлер и другие оппозиционеры отвергали всю схему.
Паника на Уолл-стрит в октябре 1929 г. изменила все. Хотя германское правительство формально одобрило план Юнга в марте 1930 г., затея оказалась мертворожденной. Оказавшись внезапно без иностранных займов и с ослаблением внутреннего рынка кредитования, а также столкнувшись с безработицей, социалистическое правительство рухнуло в тот же месяц. Новая коалиция под руководством центристской партии Генриха Брюнинга не смогла получить поддержку своей экономической программы. Устав от безвыходного положения и конфликтов в рейхстаге, Брюнинг объявил новые выборы в сентябре.
Все было готово к возвращению агитатора из Мюнхена.
Глава 3. Кит или минога?
Подобно многим немцам, Белла Фромм обнаружила, что Первая мировая война и её последствия перевернули всю её жизнь. Она родилась в обеспеченной еврейской семье в Баварии, в 1890 г., и во время войны работала в Красном Кресте. Её родители умерли рано, оставив её после войны с очень неплохим на первый взгляд наследством – достаточно, чтобы жить после короткого неудачного брака и продолжать социальную работу волонтером. Но затем гиперинфляция начала 1920-х гг. лишила её этой подушки безопасности, так что Белле пришлось искать оплачиваемую работу. «Я хочу начать новую жизнь», – писала она в своем дневнике 1 октября 1928 г. С десяти лет она вела этот дневник, а теперь решила писать не только для себя, но и для других. Фромм стала журналисткой в издательском доме Ullstein, где писала о социальной и дипломатической жизни Берлина.
Начинающая корреспондентка быстро предложила принципиально новый способ работы. «Давайте делать статьи о жизни общества в американской манере», – сказала она издателю Vossische Zeitung, берлинской либеральной газеты, выходившей два раза в день. «Бойким языком и с множеством картинок». Редактор позволил ей попробовать, и вскоре она уже не только писала в американской манере, но и много общалась с американцами, скрупулезно отмечая все свои открытия в частном дневнике, который вела.
В записи от 16 июля 1929 г. она описывала, что случилось во время Кубка Дэвиса, на матче между Британией и Германией в берлинском районе Грюнвальд, знаменитом своим густым лесом. Там Уильям Тильден (Большой Билл), американский чемпион по теннису, наблюдал за Дэниэлем Пренном, сильнейшим немецким игроком, евреем. Тот играл против звезды Англии, Банни Остина. После победы Пренна Фромм отметила: «Большой Билл просиял, так как Дэнни выиграл, пользуясь ракеткой, привезенной ему специально Тильденом из Америки».
Но от графа Фридриха Вернера фон Шуленбурга Фромм услышала совсем другое. Фон Шуленбург был членом Гильдии тенниса и позже стал последним послом Германии в Москве перед вторжением Гитлера в Советский Союз. «Разумеется, всегда эти евреи!» – заметил он.
– О чем это вы? – сердито спросила Фромм.
– Вечно евреи в выигрыше, – ответил тот. Но, как заметила Фромм, он все-таки покраснел при этом.
Но последнее слово осталось за Фромм:
– Он выиграл за Германию. Вы предпочли бы, чтобы победил англичанин?
Возможно, именно благодаря этому контрасту между встреченными американцами и соотечественниками записи в дневнике Фромм, касающиеся американцев в Германии, почти всегда были благожелательны. 2 февраля 1930 г. она приехала на железнодорожную станцию посмотреть на прибытие в Германию нового американского посла, бывшего сенатора из Кентукки Фредерика М. Сэкетта. В своем дневнике Фромм отмечала, что это оказался «очень приятный с виду человек, наверняка с хорошим послужным списком». О жене его она написала, что это была «привлекательная, действительно выдающаяся женщина».
Позже, в другой записи того же года, она поражается тому, как Сэкетты показывали увлекательность американского образа жизни. «Даже зарубежные дипломаты поражались, – писала она. – У Сэкеттов подавали к чаю омаров, это была неслыханная в Берлине роскошь».
Но Фромм также заметила, что новый посол прекрасно знал об экономическом кризисе, с которым Германия и другие страны столкнулись теперь, после краха Уолл-стрит. Она сидела рядом с ним за обедом и на оперном концерте, организованных чешским представительством, и таким образом получила прекрасную возможность с ним поговорить. «Мне нравится Берлин, – сказал он ей. – Он очень вдохновляет. Мы в Америке хотим помочь Европе выбраться из нынешнего кризиса. Мы хотим улаживать международные разногласия за зеленым столом, а не на поле боя».
Берлин нравился не только новоприбывшим вроде Сэкетта, в нем себя хорошо чувствовала не только Фромм, но и многие из официальных лиц Германии, несмотря на очевидный кризис. Во время визита Никербокера домой в Филадельфию в 1930 г. его спросили о том, как немцы относятся к американским корреспондентам.
– К счастью, в Берлине у нас отличная репутация, – ответил он. – С нами очень приветливы, а на наши вопросы отвечают весьма разумно. Каждую пятницу в три часа дня в Министерстве иностранных дел пьют чай, и при этом присутствуют корреспонденты из всех важных стран мира». Там, продолжал он, высокопоставленные чиновники проводят брифинги, а репортеры заводят важные знакомства. Затем он добавил: «Германия, насколько мне известно, – единственная европейская страна, которая еще ни разу не выслала ни одного корреспондента со времен мировой войны».
Когда его спросили, в какой из европейский стран корреспонденту интереснее всего работать, он ответил: «Сейчас – в Германии. Я считаю Берлин самой важной столицей в Европе. В настоящий момент (и я это подчеркиваю – в настоящий момент) Германия и Советский Союз – самые мирные страны в Европе. Советский Союз не может позволить себе военные расходы, а Германия от войны устала. Но мы не можем знать, что случится дальше».
Когда немецкая экономика снова начала разваливаться, вызвав беспокойство и страх населения, прекрасно помнившего прошлый кризис, который разрушил столько жизней и судеб, нацистское движение стало набирать силу. К концу 1928 г., когда стали видны первые предвестники беды, в партии было 108 тысяч членов, плативших взносы. К концу 1929 г. их внезапно стало уже 178 тысяч. Хотя Гитлера считали все еще маргиналом от политики, он собирал все больше возбужденных толп, а на местных выборах его партия получала больше голосов.
Нет причин удивляться, что Виганд стал первым американским корреспондентом, решившим, что стоит взять интервью у этого шумного агитатора, которого он с коллегами игнорировал последние несколько лет. В конце концов, именно Виганд первым из американцев написал о Гитлере в начале 1920-х: он прекрасно помнил стремительный взлет и кажущееся падение последнего. Он также помнил, что раз тот умеет играть на народном недовольстве – а раз последнее растет, то стоило взглянуть, не сумеет ли Гитлер оседлать волну.
Виганд не выяснял, как дела у Гитлера, с того момента, как последний попал в тюрьму после Пивного путча 1923 г. Но в декабре 1929 г. корреспондент отправился в Мюнхен, чтобы встретиться с ним. «Он вновь активен, и у него много сторонников», – писал он в своем репортаже для New York American за 5 января 1930 г. Большая часть статьи представляла собой длинные цитаты из интервью с Гитлером, где тот разговаривал «со свойственной ему силой и экспрессией».
Гитлер больше всего говорил о большевистской угрозе – и о том, что только его партия способна её остановить. «Германия медленно и постоянно, но все-таки скатывается в сторону коммунизма», – говорил он. Перечисляя все экономические беды страны, особенно нарастающую волну банкротств и увеличивающуюся безработицу, Гитлер говорил об «отвращении к современной партийной системе Германии и недоверию к официальным лицам», а также предупреждал, что «все это лишь прокладывает путь к разрушению нации».
– Общественный разум германского народа находится в полном замешательстве, – продолжал он. – Именно в этой ситуации национал-социалисты выступают за такие ценности, как дом, страна и нация, противостоя интернационалу марксистов-социалистов.
Его цель, как он объяснил, «спасти Германию как от иностранного экономического рабства, так и от полного ухода в большевизм, который ведет к дезорганизации и деморализации».
Виганд напомнил Гитлеру о давнем путче и спросил, намерен ли тот снова свергать правительство.
– Нет, мы совершенно не думаем о революции, – ответил тот и добавил, что поддержка его движения растет так быстро, что «нам вполне достаточно легальных методов». Он сказал, что на данный момент его партию поддерживает около 2,5 миллиона немцев и что через год их количество должно вырасти примерно до 4 миллионов.
Когда Гитлера спросили, какую систему государственного управления он считает наилучшей, он ответил уклончиво. Немецкую парламентскую систему со множеством враждующих партий он назвал «полным фарсом». В американской государственной системе он нашел некоторые плюсы, «там президент – не просто резиновый штамп, а кабинеты не меняются каждый день». В подобной системе, добавил он, есть «элементы стабильности», которой так не хватает Германии. Но по его речи можно было догадаться, что подобное решение он не считает идеальным.
Гитлер не стал разъяснять, что же именно он считает хорошим, а сосредоточился вместо этого на том, против чего он выступает, – в том числе на евреях, которые, по его словам, пользовались недопустимо большим влиянием и властью. «Я не призываю нарушать права евреев в Германии, но я настаиваю на том, чтобы мы, неевреи, имели не меньше прав, чем они», – говорил Гитлер. Как он утверждал, любые ограничения для евреев не будут принципиально отличаться от американских иммиграционных законов, требовавших, чтобы приезжающие проходили медосмотр, прежде чем пускать их в страну. «В Германии нет подобных защитных мер, – жаловался он. – Политическое влияние евреев препятствует подобному. В результате нас наводнили элементы, которые стоит отвергать сразу».
Наконец, Гитлер сообщил Виганду, что он открыт для «соглашения или договоренностей» между Германией и США. Но он не видел «никакой надежды» на то, что Франция перестанет быть враждебной Германии и что напряженность между этими двумя странами как-то снизится. Хотя Гитлер в интервью говорил более сдержанно, чем на митингах, у собеседника не могло оставаться сомнений: Гитлер был заклятым врагом текущей германской системы государственного управления. Пусть он не собирался больше брать Берлин штурмом, он все же хотел сокрушить его власть.
В конце своей статьи Виганд отметил, что в Германии многие были удивлены тем, что Гитлер смог вернуться в политику. «Никто не пытается даже предсказывать, насколько он повлияет на события в назревающем кризисе, – писал он. Но, уделяя Гитлеру и его взглядам столько внимания, Виганд явно давал понять: нацистского лидера следует принимать всерьез.
Кое в чем Гитлер оказался очень точен: многие немцы действительно были «в полном замешательстве» – как из-за ухудшающейся экономической ситуации, так и из-за растущего раздражения на склоки берлинских политиков в формирующихся и распадающихся правительствах. «Немцы жутко устали от всего, – писал Эдгар Моурер. – Исполнение договоренностей не привело к восстановлению страны. Русский большевизм не выглядел привлекательно. Война не выглядела возможным вариантом. Но и продолжать текущее жалкое существование было просто невозможно». Все социальные классы презирали свое правительство. Чарльз Тайер, работавший в американском посольстве в Берлине и до, и после Второй мировой войны, указывал, что Веймарскую республику отказывались поддерживать не только крайние правые, большой бизнес и бывшие военные. «Недовольны были и большинство профессоров – самые влиятельные люди в Германии, где ученая степень по важности уступала лишь офицерскому званию, когда речь шла о социальном положении, – писал он. – Большинство из них открыто глумились над мелкими веймарскими социалистами, среди которых редко встречались доктора хоть какой-нибудь науки». Их студенты, добавлял он, разделяли это презрение к правительству, которое винили в унизительных потерях германских территорий после Первой мировой войны. А когда случилась Великая депрессия и рабочие перспективы стали исчезать как дым, люди «массово бросились в нацистскую партию».
Моурер настаивал, что неверие в либеральную демократию распространилось даже на тех, кто должен был бы стоять на её страже. «Самой примечательной чертой либеральной немецкой Республики была малочисленность в ней либеральных республиканцев», – писал он. Веймарские правительства не только терпели многочисленные «патриотические» частные армии, но и применяли их, чтобы давить восстания левых. Штурмовые отряды Гитлера, они же SA, они же коричневорубашечники, а также их элитные части SS, сформированные в 1921 г., были совершенно не уникальным явлением.
В начале своего пребывания в Германии Моуреры как-то возвращались ночным поездом после выходных в Восточной Пруссии. Их внезапно разбудили громкие вопли. Поезд остановился на маленькой станции, вошли двое, включили свет в том же вагоне, где пытались заснуть Моуреры и другие пассажиры, потом открыли окно. С платформы на них кричал какой-то человек в плаще военного покроя с узким кожаным поясом, и у него был «голос как у охрипшего сержанта», вспоминала Лилиан Моурер. Она встала и выключила свет, но один из молодых людей бесцеремонно включил его обратно, щелкнул каблуками и вернулся к окну. Эдгар предупреждающе приложил палец к губам, показывая, что лучше им не перечить. Впоследствии он объяснил ей, что люди эти «принадлежали к тайной армии, которую правительство терпит, но не признает».
Однако к концу 1920-х гг. политически усилился именно Гитлер – которого поддерживала частная армия, не очень-то секретная. И когда экономический кризис наступил всерьез, нацисты от него очень выиграли. В сентябре 1930 г. на парламентских выборах они получили 107 мест из 577 – огромное достижение после всего 12 мест за два года до того. Из 35 миллионов немцев, пришедших голосовать, почти 6,5 миллиона проголосовали за партию Гитлера, сделав её мгновенно второй по размеру партией в рейхстаге после социал-демократов. В 1928 г. всего 800 тысяч немцев отдали свои голоса за нацистов. Гитлер, как казалось, мог теперь на самом деле положиться на «легальные методы» прихода к власти, как он и говорил Виганду. Корреспондент Hearst опять совершенно правильно почуял источник важных новостей, когда отправился брать это второе интервью.
Американцы, жившие в Германии, прекрасно видели, что нацистское движение набирает силу. Студентка по обмену из Беркли Энид Кейес прибыла в Берлин осенью 1931 г., чтобы учиться в Берлинском университете. 30 октября она вместе с Ларсом Мехнертом, младшим сыном немецкой семьи, у которой она проживала, отправилась на нацистское мероприятие на большом крытом спортивном стадионе. Её поразило количество полиции, выстроившейся снаружи на случай беспорядков, а также то, что она увидела внутри. «Стадион был забит народом, старики и молодежь, все – приверженцы Гитлера и программы национал-социалистов», – писала она в Калифорнию своей матери. Заметив, как быстро нацисты вышли из забвения и стали крупнейшей оппозиционной группировкой, она добавила, что девушки с красными коробками ходили там собирать деньги для бедных или попавших в тюрьму нацистов. И люди щедро делились мелочью.
Больше всего Кейес впечатлила сама атмосфера мероприятия. «Шум, скандирование, музыка – все было как на футбольном матче, – писала она. – Но чувства, стоявшие за этим, были гораздо более глубокими и прочными, чем у субботней толпы фанатов. Сердцем и душой немцы болели за политическую судьбу своей страны. Замираешь, когда видишь, как толпа встает в едином порыве под звуки труб, возвещающих о появлении гитлеровских флагов, – и вооруженные бойцы маршируют к своему месту на платформе». Толпа приветствовала коричневорубашечников нацистским салютом, «от нацистской песни с захватывающим мотивом чуть не срывало крышу стадиона». Хотя Кейес не поняла большую часть речей, для понимания настроений толпы переводчик был не нужен. Она написала своей матери, что «молодой Ларс» пришел домой с новыми нацистскими значками и флажками. «Как и вся молодежь Германии, он – активный член партии», – сделала она вывод.
Американцы не просто наблюдали подъем нацизма как зрители: он напрямую влиял на их жизнь. Эдгар Моурер рассказывал историю тринадцатилетнего американца, которого называет просто Артуром. Мальчик учился в иезуитской школе в Берлине и однажды зимой 1931 г. задал отцу вопрос:
– Папа, а как ты относишься к национал-социализму?
– Я о нем не думаю, – уклончиво ответил отец, прекрасно понимая, на какую опасную почву ступает. – Национал-социализм – это чисто немецкое дело, которое нас с тобой не касается.


