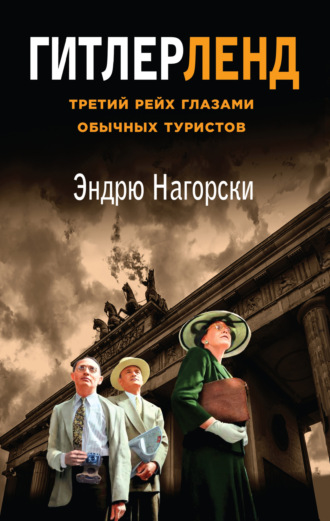
Эндрю Нагорски
Гитлерленд. Третий Рейх глазами обычных туристов
Гитлер же отправился именно туда, хотя это могло вовсе не входить в его первоначальные планы. Но он отправился туда отчасти и потому, что, как сформулировал это Путци, Гитлер был «теоретически увлечен» Хелен. Путци поторопился утвердиться в мысли, что Гитлер был импотентом и что интерес к его жене никогда не заходил дальше целования руки и принесения цветов. «У него не было нормальной половой жизни… общавшиеся с ним не ощущали его интереса как физического», – заявлял он. Хелен соглашалась, что её воздыхатель вполне может быть «бесполым», но она не сомневалась в его сильных чувствах.
Как бы то ни было, вечером 9 ноября у Хелен появился неожиданный гость. Она уже слышала про путч и про то, что Гитлер и Людендорф, наверное, погибли, но она понятия не имела, чему верить. Они с Эгоном ужинали в гостиной наверху, и тут горничная сообщила, что кто-то тихо стучится в дверь. Хелен спустилась и, не открывая дверь, спросила, кто там. «К своему полнейшему удивлению я услышала слабый, но легко узнаваемый голос Гитлера», – вспоминала она позже.
Хелен быстро открыла дверь и увидела Гитлера, совсем не похожего на те изображения, которые она привыкла видеть: «Он был бледен, как призрак, без шляпы, весь измазан грязью, левая рука свисает, плечо перекошено». Его поддерживали с двух сторон врач и санитар, но и они выглядели «ужасно помятыми». В доме Хелен спросила Гитлера про Путци. Гитлер ответил, что при вооруженном столкновении Путци не присутствовал, потому что работал над подготовкой партийной газеты, так что наверняка он скоро появится. Гитлер продолжил рассказывать, крайне огорченный гибелью своих сподвижников и, возможно, Людендорфа, а также крайне рассерженный поведением баварских чиновников, которое он назвал предательством. Он поклялся ей, что «будет сражаться за свои идеалы, пока дыхание не покинет его».
Гитлер страдал от поднявшейся температуры и боли в вывихнутом плече, так что врач и санитар увели его наверх, в спальню, и занялись им. Хелен слышала, как он стонал, когда ему пытались вправить руку.
Позже той же ночью врач объяснил Хелен, что они тоже пытались выбраться в Австрию, но у них сломалась машина. Водитель не смог её починить, так что Гитлер предложил дойти до дома Ганфштенглей, поскольку туда можно было добраться пешком, хотя для троих уставших людей прогулка оказалась долгой и трудной. Что из этой истории не ясно, так это почему Гитлер решил, что может спрятаться в доме своего хорошо известного приверженца.
На следующее утро Гитлер отправил доктора в Мюнхен, чтобы тот попробовал найти другую машину для отъезда в Австрию. Рука у него была на перевязи и явно не так сильно болела, как в прошлый вечер, но он нервно прохаживался туда-сюда в голубом халате, продолжая спрашивать, где же машина. Позвонила свекровь Хелен и предупредила, что полиция уже в соседнем доме. Внезапно во время разговора у нее отнял трубку офицер полиции и сказал Хелен, что он со своими людьми отправится теперь в сторону её дома.
Хелен пошла наверх и сообщила Гитлеру, что его сейчас арестуют. Он стоял в коридоре, совершенно ошарашенный новостями.
– Все потеряно, нет смысла продолжать! – воскликнул он, всплеснув руками. Затем резко выхватил из ящика свой револьвер.
«Я была начеку, схватила его за руку и отобрала оружие», – вспоминала Хелен.
Боясь, что он застрелится, она рявкнула:
– Что вы делаете? Вы, после всего случившегося, хотите бросить людей, которых привлекли идеей спасения вашей страны – и теперь не собираетесь жить… Они хотят, чтобы вы продолжали.
Гитлер не сопротивлялся, когда она забирала оружие. Он опустился на стул, уронил голову на руки. Пока он так сидел, Хелен быстро унесла оружие и спрятала его в большой корзине с мукой, затолкав поглубже, чтобы его стало совсем не видно. Вернувшись к Гитлеру, она заставила его продиктовать инструкции для последователей, пока не прибыла полиция: пусть они знают, что делать, пока он в тюрьме. Она добавила, что ему следует подписать каждый лист с инструкциями, а уж она проследит, чтобы они были доставлены к его юристу. «Он поблагодарил меня за то, что помогла ему вспомнить о долге перед его людьми, а затем продиктовал самые важные указания, которые нужны были для продолжения работы», – вспоминала она. Вскоре полицейские с собаками окружили дом. В дверь постучали, Хелен подошла, и молодой застенчивый лейтенант объяснил, извиняясь, что ему надо обыскать дом. Хелен предложила ему проследовать наверх и открыла дверь в комнату, где стоял Гитлер. На мгновение встретившиеся замерли в изумлении. Затем лидер нацистов воспрял духом и немедленно стал громко бранить лейтенанта, особенно когда тот объявил, что арестовывает его по обвинению в государственной измене.
Но спорить не было смысла, и даже Гитлер понимал это. Он отказался взять у Элен теплую одежду Путци; когда его повели вниз по лестнице, он так и остался в голубом халате, только накинул поверх него свое пальто. В этот момент вбежал маленький Эгон с воплем:
– Что эти плохие люди делают с дядей Дольфом?
Гитлер был явно тронут, он потрепал Эгона по щеке. Затем он пожал руку Хелен и горничным, прежде чем уйти. Хелен в последний раз взглянула на его лицо, когда он сидел в полицейской машине. Оно было, по её воспоминаниям, «смертельно бледным».
После этого и немецкая и зарубежная пресса быстро списала Гитлера и нацистов как не имеющих больше политического значения. Пивной путч был провален до смешного бездарно, арестованных лидеров ждал суд и неотвратимый приговор.
Мало кто представлял тогда, насколько на руку окажутся Гитлеру этот суд и даже тюремное заключение. И только немногие посвященные знали, что именно молодая американка, жена одного из первых приверженцев Гитлера, не дала последнему покончить с собой – и тем самым принесла человечеству чудовищные последствия его возвращения в политику. Именно Хелен Ганфштенгль, в девичестве Нимейер, развернула историю на такой мрачный путь.
Эдгар Ансель Моурер из Chicago Daily News прибыл в Берлин в 1923 г., вскоре после Никербокера, с которым он быстро подружился. Он остался там на десять лет и стал свидетелем прихода Гитлера к власти. Ему, как и Никербокеру, и Виганду, и другим корреспондентам, были интересны события жизни искусства немецкой столицы – не меньше, чем её политические пертурбации. Город был местом «мятежной культуры, не такой традиционной, как в Париже и в Лондоне», – вспоминал он. Эта мятежная культура быстро затянула его вместе с женой, британкой Лилиан.
На ежегодном Балу прессы в огромном ресторане «Зоопарк» Моуреры получили возможность пообщаться со всем высшим обществом, от правительственных чиновников до драматургов Бертольда Брехта и Карла Цукмайера, композитора Рихарда Штрауса, приехавшего из Вены дирижировать оперой, и дирижера Вильгельма Фуртвенглера. Как писал Моурер, на встрече собрались «знаменитости из совершенно разных миров. Было впечатление, что Париж объединил Елисейские Поля, Гранд-опера́ и Бал Изящных Искусств в единое мероприятие, начавшееся с серьезностью официального приема и закончившееся вакханалией».
Берлин сразу произвел огромное впечатление на Лилиан Моурер, когда она, завершив пару дел, приехала сюда вслед за мужем из Рима, где тот служил до того. Это было в марте 1924 г., и она была очень огорчена холодом этого места, в буквальном и переносном смысле – оно было так не похоже на Италию, где уже распустились весенние цветы. «В берлинском Тиргартене лед еще лежал на прудах, воздух был мерзлым», – вспоминала она. Её также огорчало «уродство города», тяжелая архитектура Викторианской эпохи, помпезность общественных учреждений – и «некрасивые человеческие фигуры».
В съемной квартире она нашла написанные её владельцем картины с обнаженными женщинами в «агрессивных тонах и хаотичной композицией немецкого экспрессионизма», с массивными торсами и ягодицами. «Можно подумать, на улицах уродства мало», – жаловалась она. Потом обнаружились проблемы с продуктами. «К немецкой кухне приходится привыкать», – отмечала она обтекаемо. Даже то, что марка наконец-то стабилизировалась, имело для нее отрицательные стороны: для иностранцев все стало теперь дороже, чем за несколько лет до того.
Но вскоре Лилиан стала смотреть на свой новый дом несколько иначе. Немецкий экспрессионизм оставался для нее еще загадкой, но «энергично искаженные силуэты и лица стали немного вызывать мой интерес». Ей нравилось итальянское искусство, но она понимала, что в Риме она в области искусства могла «жить в прошлом». По контрасту с этим, «современные немецкие работы были наполовину метафорой, наполовину – дикостью: это бодрило и стимулировало». Что до немецкого театра, то она быстро признала его «самым актуальным в Европе», а немцев – «самыми заядлыми театралами Европы». Ей очень нравилось, что в Берлине хватало и иностранных гастролей, от классической «Комеди Франсез» до смелых русских постановок Станиславского и Мейерхольда, которые ей особенно понравились. «В Германии, как нигде в мире, гостеприимно встречают иностранные таланты», – писала она. Но главное радостное открытие Лилиан состояло в том, что немцы оказались очень открыты с иностранцами в повседневной жизни, а не только на сцене. «Они были такие гостеприимные, эти жители Веймарской республики, они не пытались делать из каждой вечеринки и приема показательную bellafigura, они приглашали нас на ужин в складчину, как друзей». Она обнаружила, что все – банкиры, политики, писатели – были людьми любопытными, общительными и часто интересными. Другой поразившей её особенностью жизни веймарской Германии была роль женщин. К моменту её приезда в рейхстаге было 36 женщин-парламентариев – больше, чем где-либо еще. Женщины учились в университетах на самые разные специальности: право, экономика, история, инженерное дело – и далее работали в профессиях, бывших когда-то чисто мужскими. Лилиан даже однажды встретила в Берлине «профессиональную забойщицу»: женщину, способную убить быка одним ударом молота. «В веймарской Германии женщина могла заниматься, чем хотела», – делала вывод Лилиан.
Лилиан не просто так наблюдала за берлинской жизнью. Она писала статьи для Town and Country, а также появилась в первом немецком звуковом фильме Liebeswalzer («Вальс любви»), который был выпущен в английском и французском вариантах. Немецкая актриса, игравшая роль, говорила по-английски гораздо хуже, чем изначально заявляла сама, и Лилиан попросили попробовать заменить её. Пробы она прошла легко, но вскоре её первоначальный восторг угас, когда она увидела, насколько монотонна работа с дублями. Но были у происходящего и приятные стороны. На другой площадке той же киностудии снималась Марлен Дитрих в «Голубом ангеле», так что Лилиан нередко сталкивалась с ней за ланчем в том же ресторане, где ела сама. Она узнала Дитрих благодаря театральной стене, где та играла ведущие роли в «умных» музыкальных программах и комедиях. Когда благодаря «Голубому ангелу» Марлен Дитрих стала звездой кинематографа, Лилиан была не слишком довольна этим. «Приговаривать её навеки к роли женщины-вамп – это бездарная трата таланта», – писала она.
Лилиан и Эдгар познакомились с очень многими знаменитыми жителями города, от художника Георга Гросса до Альберта Эйнштейна. При встрече с физиком Эдгар спросил его кое о чем в теории относительности, что казалось ему нелогичным. Эйнштейн с улыбкой ответил:
– Не стоит ломать голову над этим: это математическая, а не логическая теория. Вот так…
И тут он взял скрипку и начал играть Баха. Неудивительно, что Лилиан вскоре сдалась: «Я почти примирилась с Берлином».
Американские представители сыграли огромную роль в приведении экономической жизни в какое-то подобие нормального состояния, и новоприбывшие вроде Моуреров немедленно это замечали. Посол Хоутон очень сочувственно относился к немцам и их проблемам; он спорил с изоляционистами у себя на родине, утверждая, что США следовало бы решительнее поддерживать демократическое правительство Германии. «В конце концов, в Европе ужасный беспорядок», – писал он 12 февраля 1923 г. главе европейского отделения Государственного департамента Уильяму Кастлу. «У нас в некий момент была возможность стабилизировать ситуацию… если только не случится чудо, мы можем уверенно ждать следующей, очень скорой войны, которая добьет остатки европейской цивилизации».
Он постоянно просил Вашингтон «спасти то, что осталось от столицы и промышленности Германии». Хоутона приводила в отчаяние разрушительная гиперинфляция в стране, где он жил, – равно как и её забастовки, мятежи и столкновения экстремистов, левых и правых. Летом 1923 г. он мог наблюдать, как всего после года пребывания у власти рушится правительство канцлера Вильгельма Куно. «Я чувствовал, что словно вернулся в знакомое старое здание, только теперь балки и стропила прогнили, полы проваливаются, и если все это не починить как можно быстрее, крыша и стены просто рухнут», – писал он государственному секретарю Хьюзу.
Его просьбы были услышаны. Хоутон получил поддержку администрации Кулиджа и начал потихоньку разбираться с вопросами репараций и стабилизации Германии. В своих публичных обращениях Хоутон старался не обвинять Францию и отрицал любые попытки бороться с её «справедливыми требованиями». Но он подчеркивал, что экономическое восстановление Германии является ключом к восстановлению континента в целом. Плотно сотрудничая с Густавом Штреземаном, который некоторое время был в 1923 г. одновременно канцлером и премьер-министром, а затем оставался министром иностранных дел при восьми следующих правительствах, Хоутон добивался более активного сотрудничества с Америкой в Берлине и других европейских столицах. Результатом стал план Дауэса, названный в честь чикагского банкира Чарльза Гейтса Дауэса, одного из американских экспертов, занимавшихся вопросами репараций. Этот план не менял общую сумму репараций, которую должна была выплатить Германия, но он позволял уменьшить ежегодные выплаты, пока экономика не восстановится. В конце августа 1924 г. план Дауэса обеспечил Германии внезапный приток займов из Америки, продолжавшийся до самой Великой депрессии. Прямым результатом этих мер были стабилизация валюты и последующее восстановление экономики. В своей речи перед рейхстагом, произнесенной в мае 1925 г., Штреземан однозначно сказал, кто добился этих судьбоносных изменений:
«Соединенные Штаты – это нация, которая приложила наибольшие усилия для восстановления экономики и, что особенно важно, общего мира в Европе, – говорил он. – Из всех стран для Германии эти усилия имели наибольшую важность».
Американские инвестиции и займы, в сочетании с растущей торговлей между США и Германией, привели к тому, что обе страны чувствовали все большую связь. Германия не только стала более открытой для американцев, в ней открылись и новые тренды, связанные с экономическим, социальным и культурным влиянием Америки. «Американизация Европы идет полным ходом», – сообщил Виганд в статье, появившейся в Washington Herald 14 июня 1925 г. «Уставшие старые народы попадают под очарование мифической земли Доллара за океаном – когда из любопытства, когда из чувства протеста».
Как говорилось в его статье, отношение среднего немца к новой культуре денег, массового производства и массовых развлечений – включая поток американских фильмов – выглядело совершенно шизофренично. Ему «не нравится вторжение быстрого стаккато в его размеренное уютное существование, он ворчит и бормочет ругательства в адрес американизации его мира, – писал Виганд. – А потом он забывает о своих тревогах под звуки американского джаз-банда – в тысяче развлекательных клубов разносится их дикарский грохот». Он добавлял, что немец, слушающий джаз-банд, играющий «My Sweetie Went Away», скорее всего, будет одет в новенький костюм, скроенный в стиле Йеля».
Немцы стекались в варьете «Ла Скала», где хитом того времени была американская труппа, которую Виганд описывал как «восемнадцать танцовщиц в стиле Гертруды Гофман». В своей статье 1925 г. он отметил одну важную причину популярности американок: «Их тонкие ноги и талии совсем не были похожи на то, что обычно ценилось в Берлине». В Берлине также впервые начались знакомые американцам проблемы с уличным транспортом, а на Потсдамской площади поставили первые светофоры, «подмигивающие своими американскими глазами на вагоновожатых, водителей такси и шоферов, нервничавших на этом сложном перекрестке пяти больших улиц».
Моурер подтверждал эти наблюдения. «К началу 1920-х признаки американизации появлялись по всей Европе, а в Германии они были наиболее приметны», – писал он. В своих репортажах он называл 1925 г. «первым великим Годом Америки в Европе» и пояснял, что «в немецкую душу очень глубоко запала вся сложная конструкция этой жизни – демократия, техника, стандартизация процессов», а также и новая яркая реклама. Он цитировал американского экономиста, сказавшего, что массовое производство превратило Германию в «США Европы».
Все это увеличивало привлекательность Берлина для экспатов из Америки. Париж по-прежнему оставался их любимым европейским городом, но многие в 1920-х гг. приезжали и в столицу Германии. Жозефина Бейкер прибыла со своим Revue Negre в Берлин, и её первое представление там состоялось в театре Нельсона на Кюрфюрстендамм, 31 декабря 1925 г. Хотя толпа снаружи протестовала и возмущалась черными актрисами, а нацисты называли Бейкер «недочеловеком», зрители пришли в полнейший восторг. «Это безумие. Триумф. Они носят меня на руках», – рассказывала она. Именно в Берлине Бейкер получала больше всего подарков: ювелирные украшения, парфюмерию, меха. Благодаря её регулярным выступлениям театр Нельсона превратился в кабаре, где после этого продолжала появляться сама Бейкер. Она с радостью принимала приглашения и на другие мероприятия, где порой выступала в одной лишь набедренной повязке. Она говорила, что ночная жизнь Берлина была «насыщена, как никогда не бывало в Париже» – и ей это нравилось. Она даже подумывала осесть в Берлине, но её переманили обратно в столицу Франции, выступать в «Фоли-Бержер».
Для американцев, приехавших временно или надолго, бурная сексуальная жизнь Германии была источником постоянного изумления. Как сформулировал Эдгар Моурер, «сразу после войны по всему миру настал период сексуальных экспериментов, который в Германии достиг почти оргазма… Что примечательно, женщины были более агрессивны. Мораль, девственность, моногамия, даже хороший вкус – все это считалось предрассудками». Что до «сексуальных перверсий», то, как с явным удивлением отмечал Моурер, старые законы начали просто игнорировать. «Трудно представить более терпимое общество». Бен Хехт, бывший за несколько лет до того берлинским репортером Chicago Daily News, описывал то, на что только намекал сменивший его Моурер. Он встретился в Клубе офицеров с группой авиаторов-гомосексуалистов. «Это были элегантные парни, надушенные и с моноклями, чаще всего под героином или кокаином», – вспоминал он. «Они не скрывали свои отношения, целовались в кабинках кафе и около двух часов ночи уезжали в дом одного из них. Обычно на встречах присутствовали одна-две женщины: нимфоманки с широкими ртами и темными глазами; к их именам прилагались титулы, но на их телах виднелись совершенно не аристократические ожоги и порезы. Иногда на этих встречах в частных домах появлялись девочки десяти-одиннадцати лет, подобранные на мостовых Фридрихштрассе, которые после полуночи выступали с нарумяненными лицами, в коротких детских платьицах и ярких ботиночках».
Хотя Хехт мог в своей автобиографии приукрашивать подробности, нет сомнений, что в Берлине хватало простора для однополых связей. Для приезжего молодого гея, вроде американца Филипа Джонсона, это оказалось восхитительным открытием. В Германию его изначально привлекло движение Баухаус и иные формы архитектурного модернизма, возникшие в 1920-х гг. Будущий знаменитый архитектор быстро обнаружил, что здесь лежат не только профессиональные его интересы. «Сам воздух, которым мы дышали, люди, с которыми мы знакомились, рестораны, Курфюрстендамм, сексуальная свобода – все это было новым и захватывающим для молодого американца, – вспоминал он. – Здесь создавался мир».
В письме семье, домой, Джонсон сообщал: «Думаю, что если нечто можно сказать с платформы берлинского кабаре – то можно и написать матери. Надо же, как я пытаюсь быть благопристойным, ужас какой-то! В Берлине в последнее время, судя по всему, перестали действовать законы против гомосексуализма, и после этого confẻrencier сообщал, что и запрет на секс с животными будет снят – останется лишь запрет на нормальные отношения. Аудитория нашла это очень забавным, да и я тоже – но тогда бы я этого ни за что не признал».
Джонсон, как и другие американцы, нашел немцев очень гостеприимными, что не было никак связано с сексуальными предпочтениями. «Американцы завоевали старую Германию, юные немцы были рады таким гостям, – вспоминал он. – Париж никогда не был таким gastfreundlich».
После провалившегося Пивного путча нацистов стали считать незначимыми. А в начале 1924 г. Гитлера вместе с Людендорформ и другими судили по обвинению в государственной измене. Гитлер использовал свой шанс выступить, чтобы явно провозгласить свою цель – свергнуть Веймарскую республику, а также объяснить свою теорию «удара в спину» со стороны политиков-предателей, ответственных за унизительное положение Германии за последующее экономическое бедствие. «Предать Республику – это не то же самое, что предать Германию». Судьи не мешали ему фактически руководить заседанием и даже устраивать перекрестный допрос свидетелей, и Гитлер набирал очки, высмеивая власти Баварии, которые сперва поддерживали его, но предали во время путча. Поскольку все знали, что баварское правительство неоднократно противилось и сопротивлялось центральным берлинским властям, то было нетрудно поверить Гитлеру, когда он заявлял, что «у нас была общая цель – избавиться от правительства рейха». Он добавлял, что перед путчем эта цель обсуждалась.
Позиция его была ясна: Гитлер действовал в соответствии со своими убеждениями, которые разделяли все, кто презирал текущую власть Германии, а вот баварские власти играли двойную игру. «Вы можете хоть тысячу раз объявить нас виновными, но богиня вечного суда истории усмехнется и порвет в клочки документы этого обвинения и приговор этого суда, – сказал он судьям. – Она оправдает нас».
Моурер впервые увидел Гитлера на этом суде, готовя репортаж, и впечатление тот произвел на него неизгладимое. «Он говорил с юмором, иронией и страстью, – писал Моурер. – Маленький подтянутый человек, порой похожий на немецкого сержанта, а порой – на администратора в венском магазине». Его речи практически «сокрушили» все утверждения баварских представителей власти. Когда он закончил речь, не было зрителя или корреспондента, не рвавшегося ему аплодировать», – заключил он.
Гитлера приговорили к пяти годам тюрьмы – минимальному сроку за государственную измену, а Людендорфа оправдали полностью. Мерфи из американского консульства так изложил свои выводы в отчете для Вашингтона от 10 марта 1924 г.: «Хотя путч в ноябре 1923 г. оказался провальным на уровне фарса, националистическое движение в Баварии совершенно не угасло. Оно просто временно задержалось… Предполагалось, что по окончании тюремного срока Гитлера, как не гражданина, отправят вон из страны. Все выглядело так, будто дальнейшая его националистическая деятельность невозможна».
В своих мемуарах, опубликованных в 1964 г., Мерфи отмечал, что выводы были «не вполне ошибкой». Он указывает, что в мемуарах лорда Д’Абернона, бывшего послом Британии в Германии, Гитлер упоминается лишь один раз. Имя будущего лидера Германии там встречается лишь в примечании, где говорится, что после своего выхода из тюрьмы Гитлер «исчез и был забыт».
Из Ландсбергской тюрьмы Гитлер вышел менее чем девять месяцев спустя, там он находился в весьма комфортных условиях и имел возможность надиктовать свою автобиографию «Mein Kampf». В тюрьме с ним обращались как с почетным гостем, он жил в комфортной большой комнате с отличным видом, доброжелатели присылали ему посылки, приходило множество гостей. И после выхода на свободу никто не отправил его в Австрию.
Но гитлеровское движение в отсутствие лидера страдало от внутренних неурядиц. Даже когда оно начало вновь мобилизовывать сторонников, а партия перестала быть запрещенной, привлекательность их программы была уже меньше из-за лучшей экономической ситуации в стране. В декабре 1924 г. прошли выборы в рейхстаг, где нацисты набрали жалкие 14 мест – притом что социалисты набрали 131, а германские националисты (менее радикальное правое движение) – 103. Во время президентских выборов в апреле 1925 г. правые партии поддержали фельдмаршала Пауля фон Гинденбурга, победившего очень легко, несмотря на свои 77 лет. Как вспоминал в своих мемуарах Гамильтон Фиш Армстронг, редактор престижного журнала Foreign Affairs, самым интересным в той предвыборной кампании было то, что о нацистах не думали «даже как о второстепенном факторе». Гитлер уже вышел из тюрьмы, но выступать публично еще не имел права – и, как добавляет Армстронг, «ни немцы, ни американцы, насколько я помню, не произносили это имя при мне».
В мае 1928 г. на парламентских выборах нацисты были еще менее популярны и получили лишь 12 мест. Социалисты меж тем заняли 152, а националисты сохранили за собой всего лишь 78. Неудивительно, что американские дипломаты и корреспонденты, временно заинтересовавшиеся Гитлером во время Пивного путча и последующего суда, в дальнейшем его игнорировали. Никто не вставал в очередь брать интервью, запросы про него не приходили ни из Вашингтона – дипломатам, ни из редакций – корреспондентам.
Нередко американцы, живущие в Берлине или проезжающие через него, были заняты друг другом и бывшими соотечественниками не меньше, чем окружающим миром. Никербокер в своем письме другу от 14 ноября 1927 г. дразнил его: «Между прочим, Хемингуэй сейчас в Берлине, якшается с Синклером Льюисом». Льюис, которому в 1930 г. суждено было стать первым американцем, получившим Нобелевскую премию по литературе, провел в Берлине немало времени из-за Дороти Томпсон, переехавшей туда в 1925 г. Томпсон была одной из первых женщин-корреспондентов, ставших знаменитыми: она работала на Philadelphia Public Ledger и New York Evening Post, а жила в квартире-дуплексе, второй этаж которой занимали Моуреры.
Никербокер, который в дальнейшем стал вместо нее работать в Берлине на газеты Филадельфии и Нью-Йорка, представил Томпсон Льюису во время чаепития у министра иностранных дел Германии. Дополнительной пикантности истории добавляют некоторые сообщения, что Томпсон и Никербокер были более чем коллегами и что связь их некоторое время была романтической.
Томпсон только что развелась с Джозефом Бардом, небезызвестным ловеласом венгерского происхождения. Брак Льюиса с Грейс Хеггер также разваливался в то время. Известный писатель и начинающая корреспондентка немедленно влюбились друг в друга. Томпсон однажды вечером позвонила Лилиан Моурер. «Заходи, у нас тут отличная компания собралась», – сказала она. Моурер пришла на второй этаж квартиры-дуплекса, в которой жили они с Льюисами. Синклер Льюис в это время отмечал недавнюю публикацию «Элмер Гентри» и выступал перед собравшимися в манере «проповедника из этого романа». Он надел свой воротничок наоборот и произнес целую проповедь, напоминая слушателям об их грехах. «Это был потрясающий tour de force, мы трепетали, осознавая свои недостатки с приятной ясностью», – вспоминала Лилиан. Льюис и Томпсон вскоре стали любовниками, а после его развода в 1928 г. поженились. Подобная социальная ситуация, вкупе с открытостью немцев «американизации», показывала, насколько американцы чувствовали себя в Берлине как дома. В 1928 г. даже Гитлер – бывший тогда лидером партии, не имевшей на первый взгляд никакого политического веса, – указывал, что «американизация» оказывает влияние множеством путей. «Международные отношения благодаря современной технологии и коммуникациям теперь стало так просто поддерживать, что европейцы, не всегда даже сознавая этого, применяли американские подходы как стандарты для своих», – сообщал он. Это был редкий случай, когда Гитлер признал новый тренд, не отвергая его сразу.
«Американизацией» тогда кратко называли то, что сейчас зовется глобализацией. Мир действительно становился открытым – и привлекательность Берлину добавляло именно это, а не только специфически американские особенности. «Это были блистательные, бурные дни, когда Берлин был культурной столицей мира», – писала Томпсон, и ей вторили виртуоз банджо Михаэль Данци и другие представители искусства.
«В ту пору умы Германии были открыты каждому течению мысли со всех концов земли. Все волны доходили до Берлина». Пока американские репортеры писали про политическую и экономическую ситуацию, самые примечательные – и любимые читателями – истории тех времен были про светлые стороны происходящего. Например, они рассказывали про первый трансатлантический пассажирский перелет дирижабля «Graf Zeppelin», произошедший в октябре 1928 г., – это был 112-часовой полет жесткого дирижабля от Фридрихсхафена в Германии до Лэйкхерста в Нью-Джерси. Chicago Herald и Examiner даже выпустили отдельные буклеты, куда свели все статьи двух корреспондентов Hearst, бывших на борту. В предисловии этот сборник назвали «аутентичными заметками о путешествии, которое является вторым по значимости поле путешествия Колумба».
Виганд был одним из тех двух корреспондентов Hearst. Вторым была леди Драммонд-Хэй, ставшая первой женщиной, что пересекла Атлантику по воздуху. Оба репортера писали очень много, а сочетание их историй сделало описание этого путешествия очень романтичным. Леди Драммонд-Хэй писала очень выразительно: «Graf Zeppelin – не просто машина из алюминия и ткани. У нее есть душа: каждый её строитель и пилот, даже каждый пассажир вроде нас сделал это творение немножко человекоподобным. Я люблю этот дирижабль как живое существо… Я так была счастлива во время этого путешествия. Оно принесло в мою жизнь невероятные эмоции».
Часть читателей могла догадываться об иной причине бурных эмоций леди Драммонд-Хэй: романтическая связь между ней и её коллегой Вигандом. В 1923 г. эта англичанка вышла замуж за бывшего дипломата сэра Роберта Хэя Драммонд-Хэй, на пятьдесят лет старше её самой. Три года спустя он умер, оставив её молодой вдовой аристократа, способной в полной мере заняться своей журналистской карьерой. С Вигандом она познакомилась во время работы на Hearst, и их отношения быстро вышли за рамки профессиональных. Виганд был женат, но, как иностранный корреспондент, часто бывал в отъездах, далеко от жены. Когда эти двое познакомились в 1926 г., они начали стараться как можно больше работать над статьями совместно – той совместной работой было и освещение первого в мире трансатлантического перелета дирижабля в 1929 г. А будучи вдалеке друг от друга, они часто переписывались. Письма их не оставляют никаких сомнений в характере их отношений. «Ты так нежно заботился обо мне, медведик мой, моя киска очень ценит это и хочет прильнуть поближе к медведику – такому уютному, надежному, любви всей её жизни… Я так сильно и глубоко любви тебя», – писала она в одном из первых своих писем в 1926 г., подписав его «Киска урр-урр!».


