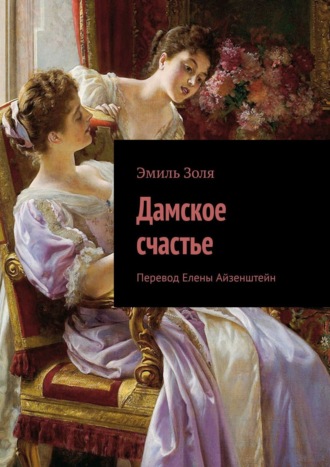
Эмиль Золя
Дамское счастье
Барон снова тряхнул головой. Он, одобрявший самые смелые комбинации, на которые ссылались, как на безрассудства, когда были первые попытки газового освещения, теперь оставался обеспокоенным и упрямым.
– Я внимательно слушаю, – ответил барон. – Вы продаете товары, чтобы продать больше, и вы продаете больше, чтобы продать дешевле… Просто нужно продавать, и я вернусь к моему вопросу: кому вы продаете? Как вы надеетесь наладить такие колоссальные продажи?
Резкие нотки голоса зазвучали в гостиной, прервав объяснение Мюре. Это мадам Жибаль предпочитала воланы старого Алансона только на передниках.
– Но моя дорогая, – сказала мадам де Бове, – передник тоже ими покрыт. Никогда не видела ничего более роскошного.
– Постойте! Вы дали мне идею… – произнесла мадам Дефорж. – У меня уже есть несколько метров алансонских… Нужно, чтобы я подыскала для украшения…
И голоса пропали, так как перешли на бормотание. Цифры звенели, торг подстегивал желания, дамы полными руками покупали кружева.
– Эх! – сказал, наконец, Мюре, когда смог говорить, – мы продаем то, что мы хотим, поскольку умеем продавать! В этом наш успех.
Затем, со своим провансальским остроумием, горячими фразами он, выхватывая образы, показывал новую коммерцию в работе. Это была возможность сначала десятикратного роста, все товары аккумулировались в одной точке, поддерживались и выталкивались на продажу; никакого прекращения работы, всегда продавались сезонные товары; в отделе за отделом, клиент был соблазнен, покупал здесь ткань, дальше – нитки, дальше – манто, одевался, потом оказывался перед неожиданной встречей, подчинялся бесполезной и красивой необходимости. Затем он торжественно славит известную торговую марку. С этой работой идет огромный переворот в торговле новинками, если старая торговля, малая коммерция в упадке и не может поддержать борьбу за снижение цен, надо зарабатывать на бренде. Теперь конкуренция происходит даже на глазах у публики. Проход между торговыми рядами устанавливал цену. И каждый магазин снижал ее, готовый к более легкой возможной прибыли; никакого мошенничества, ни ударов судьбы, ни долгого раздумья по поводу ткани, продаваемой вдвое дороже ее цены, – но быстрые денежные операции, надежный процент, отчисляемый со всех наименований товаров, удача в правильном функционировании продаж, кроме самой широкой, которой она станет в один великий день. Разве это не потрясающая модель? Она будоражила торговлю, видоизменяла Париж, так как была сотворена из плоти и крови женщины.
– У меня есть женщина, а все остальное неважно, – мог бы сказать Мюре в жестком признании, чья страсть могла исторгнуть подобный крик.
Этот крик, казалось, поколебал барона Артмана. Его улыбка потерялась в иронии. Он посмотрел на молодого человека, мало-помалу подчиняясь его вере, готовый на начало доверия.
– Ш-ш-ш, – пробормотал он отечески. – Они могут нас услышать.
Но дамы говорили теперь все разом, такие возбужденные, что даже не слушали друг друга. Мадам де Бове закончила описание вечернего наряда: лиловой шелковой туники, поддерживаемой кружевными бантами, с очень низко декольтированным лифом и с кружевными бантами на плечах.
– Видите, – сказала она, – я пытаюсь сделать себе подобный лиф из атласа.
– Что касается меня, – прервала ее мадам Бурделе, – я бы хотела бархатный…
– О! вот возможность…
Мадам Марти спросила:
– Ну, а сколько шелка?
Потом все голоса вновь сошлись вместе. Мадам Жибаль, Генриэтта, Бланш измеряли, резали, разрушали. Это было разграбление тканей, охота на магазины, роскошный аппетит, распространявшийся на завидные и воображаемые наряды, на счастье такого существования в тряпках, погрузившись в которое они жили, в таком нежном, необходимом воздухе своего существования.
А между тем Мюре бросил взгляд на гостиную. И несколькими фразами, сказанными в ухо барону Артману, как если бы он делал любовное признание, на которые отваживаются иногда между людьми, он закончил объяснять механизм современной большой коммерции. И тогда еще выше, чем уже шли дела, на вершине, замерцала эксплуатация женщины. Там все заканчивалось, капитал без конца обновлялся, система выброски товаров, дешевых нравящихся цен, торговых марок успокаивала. Это была женщина, за которую боролись магазины, женщина, которую захватывали в долговременную ловушку их возможностей, одурманенная прилавками. Они пробудили в ее плоти новые желания, они были огромным искушением, когда она фатально не выдерживала, соблазняясь сначала покупкой хорошей хозяйки, потом побежденная своим кокетством, потом уже оно пожирало ее. Удесятеренные продажи, в демократизации роскоши, стали ужасным возбудителем трат, разрушавшим сбережения, работавшим под ударом безумия моды, всегда более дорогой. И если у них женщина была королевой, восторгающейся и обласканной в этой своей слабости, окруженной вниманием, она царила в любовном царстве, чьи сюжеты продавались, она платила каплями своей крови за каждый из своих капризов. Под грацией галантности Мюре проносил с собой силу еврея, продававшего женщину за фунт: он поднял для нее храм, он окурил ее легионом продавцов, создал обряд нового культа; он думал только о ней, что она будет искать и воображать, без остановки отыскивая самые грандиозные соблазны; и, когда он опустошал карманы и у него расшатывались нервы, перед ней он был полон тайного презрения человека, отдавшись которому, возлюбленная приходит сделать глупость.
– Купите женщин, – очень тихо сказал барон, вызывающе смеясь, – вы продадите мир!
Теперь барон понял. Нескольких фраз было достаточно, чтобы догадаться об остальном, и такое галантное добывание выгоды расшевелило в нем его былую живость. С умным видом он слегка моргнул и закончил тем, что стал восхищаться изобретателем этой механики, пожирающей женщин. Это очень сильно. Он вспомнил слово Бурдонкля, от которого тоже повеяло старым опытом.
– Вы знаете, они наверстают упущенное.
Но Мюре пожал плечами, стремясь скрыть презрение. Все, что ему принадлежало, было его вещью, и ничьей более. Когда он тянул из них свои деньги и свое удовольствие, он кидал их потом в кучу, на край, для тех, кто мог еще найти в этом свою жизнь. Это было обдуманное презрение южанина и игрока.
– Хорошо, мосье, – спросил он в заключение. – Хотите ли вы быть со мной? Кажется ли вам возможным бизнес с землями?
Барон, наполовину завоеванный, колебался, заниматься ли таким делом. В глубине очарования, которое понемногу овладевало им, оставалось сомнение. Он готов был ответить уклончиво, когда властный зов одной из дам предохранил его от этого труда. Голоса повторились, вперемешку с легким смехом:
– Мосье Мюре! мосье Мюре!
И так как он, не желая быть прерванным, тот притворялся, что не слышит, мадам де Бове, стоя какое-то время, подошла почти к двери маленькой гостиной.
– Мы хотим вас забрать, мосье Мюре… Это неучтиво похоронить себя в углу, говоря о делах.
Тогда барон решился, с очевидно добрым чувством, с тоном восхищения, пораженный. Оба поднялись и пошли в большую гостиную.
– Ну, дамы, я в вашем распоряжении, – сказал Мюре, входя, с улыбкой на губах.
Раздался гомон успеха. Он должен был дальше двигаться вперед, дамы освободили ему место в своем кружке. Солнце садилось за деревьями сада. День завершался. Это был час ожидания сумерек, молчаливая минута наслаждения в парижских апартаментах, между ясностью уходившей улицы и лампами, еще зажженными в учреждениях. Мосье де Бове и Валлогноск, все время стоя у окна, отбрасывали на ковер силуэты своих теней. И в это же время неподвижный в последнем глотке света, шедшего из другого окна, несколькими минутами ранее незаметно вошел мосье Марти, явив свой бедный профиль, чистый и тесный сюртук, с профессорским бледным лицом, так что разговор дам о нарядах прекратился.
– В ближайший понедельник эта распродажа? – спросила мадам Марти.
– Ну, без сомнения, мадам, – ответил Мюре льстивым голосом, голосом актера, который он использовал, говоря с женщинами.
Тогда вмешалась Генриэтта.
– Вы знаете, мы придем все. Говорят, что вы готовите чудеса.
– О! чудеса! – пробормотал он в тоне самодовольной скромности. – Я просто постараюсь быть достойным вашего одобрения.
Но они забросали его вопросами. Мадам де Бове, мадам Жибаль, Бланш – все хотели знать.
– Посмотрим, дайте нам подробности, – с настойчивостью повторяла мадам де Бове. – Мы умрем от любопытства.
И они окружили его, когда Генриэтта заметила, что он не успел выпить даже чашку чая. Тогда это привело дам в отчаяние. Четыре из них уже готовились напоить его чаем, но при условии, что он сразу ответит на вопросы. Генриэтта наливала, мадам Марти держала чашку, пока мадам де Бове и мадам Бурделе спорили о том, кто из них добавит сахару. Потом, когда он отказался присесть и начал медленно пить чай, стоя посреди них, все приблизились и сделали его узником в тесном кругу их юбок. Голова поднята, глаза сияют, дамы ему улыбаются.
– Что Ваш шелк, Ваше «Счастье Парижа», о котором говорят во всех газетах? – нетерпеливо произнесла мадам Марти.
– О! ответил он. – Необычайный товар. Крупной структуры… Мягкий, ноский. Вы, дамы, его увидите, вы не найдете его, кроме как у нас, так как мы покупаем только эксклюзив.
– Правда! Прекрасный шелк по пять франков шестьдесят, – сказала мадам Бурделе с энтузиазмом. Невозможно поверить.
Этот шелк, с тех пор как была запущена реклама, занимал в их повседневной жизни значительное место. О нем говорили, они себе его обещали, пытаясь желать и сомневаться. И в болтливом любопытстве, которым они окружили молодого человека, отображались их особенные темпераменты: мадам Марти была поглощена неистовством своим расходов, она покупала в «Дамском счастье» все без разбора, на первых попавшихся витринах; мадам Жибаль прогуливалась в магазине часами, никогда не совершая покупку, счастливая и удовлетворенная, что преподносит простой дар своим глазам; мадам де Бове сжимала деньги, мучась слишком большим желанием, держа обиду на торговцев, что она не может взять все это с собой; мадам Бурделе, с мудрой и практичной буржуазностью, шла прямо к своей удаче, исхаживая большие магазины с чувством хорошей домохозяйки, чуждая лихорадке, и добивалась больших сбережений. Наконец, Генриэтта, которая была очень элегантна, покупала там только некоторые товары: перчатки, трикотаж, белье.
– У нас есть потрясающие ткани, по хорошей цене и хорошего качества, – продолжал Мюре своим очаровывающим голосом. Также я рекомендую вам нашу «Золотую кожу», тафту с несравненным блеском. Среди причудливых шелков есть очаровательные, нашими закупщиками рисунки выбираются меж тысяч. И, как и среди бархата, вы найдете самую богатую коллекцию нюансов. Я вас предупреждаю: в этом году мы привезем много драпа. Вы увидите наш флис и шевиот… Они не прерывали его больше, они еще теснее обступили его, их рты осветились расплывчатыми улыбками, лица приблизились и вытянулись, словно в стремлении всего существа к искусителю. Их глаза побледнели, легкий трепет пробежал по их затылкам. Он следил за этим со спокойствием завоевателя, посреди волнующих запахов, поднимавшихся от их волос. Маленькими глотками, между каждой фразой он продолжай пить чай, чей аромат притягивал эти самые терпкие запахи, еще более острые, и в этом было что-то хищное. Перед этим столь любовным соблазнением, достаточно сильным, чтобы играть с женщинами, не опьяняясь тем, что они источают, барон Артман, не отводивший взгляда, почувствовал свое огромное восхищение.
– Итак, наденем драп? – спросила мадам Марти, чье постаревшее лицо украсилось страстью кокетства. – Нужно, чтобы я увидела.
Мадам Бурделе, следившая за всем своим ясным взглядом, сказала, в свою очередь:
– Не правда ли, продажа купонов в четверг у вас? Я подожду. Я одену всех моих малышей.
И повернувшись русой головой к хозяйке дома:
– А ты? Это твоя Савёр, твоя Савёр тебя одевает?
– Мой Бог, да, – ответила Генриэтта. – Савёр очень дорогая, но нет больше никого в Париже, кто знает, как сделать лиф платья… И потом мосье Мюре прекрасно сказал, у нее самые красивые рисунки, рисунки, которые мы не видим больше нигде. Я не хочу страдать, оттого что могу увидеть мое платье на плечах всех других женщин.
Мюре сначала таинственно улыбнулся. Потом он бросил намек, что мадам Савёр купила у него эти ткани. Без сомнения, некоторые расцветки она брала прямо у фабрикантов, убедившись в их качестве. Но с черными шелками она поймала оказию «Дамского счастья» и сделала значительные запасы, которые сбывала, удваивая и утраивая цену.
– Таким образом, я убежден, что люди у нее берут наше «Счастье Парижа». Почему вы хотите, чтобы она платила за этот шелк на фабрике дороже, если она может заплатить у нас? Но слово чести: мы ей даем себе в убыток.
Это был последний удар, нанесенный этим дамам. Идея торговли в убыток резче подстегивала в них женщину, чье наслаждение покупательницы удваивалось, когда она верила, что грабит продавца. Мюре знал, что они не могут устоять перед дешевыми ценами.
– Но мы продаем все за ничто! – воскликнул он весело, держа перед собой веер мадам Дефорж, оставленный на столике. – Ну! Вот этот веер. Вы скажете, за сколько он?
– Шантильское кружево – за двадцать пять франков, а оправа – двести, – сказала Генриэтта.
– Хорошо. Кружево недорогое. Однако у нас есть и за восемнадцать франков. Что касается оправы, мадам, то это чудовищное воровство. Я не осмелюсь продать подобное дороже, чем за девяносто франков.
– Я так и сказала! – воскликнула мадам Бурделе.
– Девяносто франков! – пробормотала мадам де Бове. – Нужно поистине не иметь ни су, чтобы обойтись без этого.
Она опять взяла веер, стала заново изучать со своей дочерью Бланш, и на ее большом правильном лице в широких сонных глазах появилось отчаянное и сдерживаемое желание каприза, который она не могла удовлетворить. Потом, через секунду, веер прошел через руки всех дам, сопровождаемый восклицаниями и восхищением. Но мосье де Бове и Валлогноск отошли от окна. Первый вернулся, разместившись рядом с мадам Жибаль, взглядом окидывая лиф ее платья; молодой человек, со своей привычкой воспитанности и превосходства, склонился к мадам Бланш, стараясь найти любезное слово.
– Мадмуазель, не правда ли, эта белая оправа с черными кружевами немного печальна.
– О, я, – ответила она очень серьезно, не краснея своим пышным телом. – я видела перламутр и белые перья. В этом что-то непорочное!
Мосье де Бове, удивленный, без сомнения, раненым взглядом, с которым его жена следила за веером, вставил, наконец, свое слово в общий разговор.
– Эта маленькая штучка очень быстро сломается.
– Не говорите! – провозгласила прекрасно-рыжая мадам Жибаль с недовольной гримасой, играя в безразличие. – Мне придется переклеить мои веера.
Через мгновение мадам Марти, очень возбужденная разговором, на коленях лихорадочно перевернула свою кожаную красную сумочку. Она не могла еще показать покупки, но в какой-то чувственной необходимости горела желанием пощеголять ими. И вдруг она забыла о своем муже, открыла сумочку и вытащила несколько метров узких кружев, намотанных на кусочек картона.
– Это валансьенские, для моей дочери, – сказала она. – Они в три сантиметра и превосходные, не правда ли? Франк девяносто.
Кружево переходило из рук в руки. Дамы переговаривались. Мюре утверждал, что продает эту маленькую отделку по фабричной цене. Однако мадам Марти вновь закрыла сумочку, словно желая спрятать в ней вещи, которые нельзя показать. Но после валансьенского успеха она не могла отказать себе в желании извлечь из нее и платок.
– Есть еще такой платок… С брюссельской отделкой, моя дорогая… О! Какая работа! Двадцать франков!
И с этого момента сумочка стала неиссякаемой. Мадам Марти покраснела от удовольствия, стыдливостью женщины, которой раздевание вернуло очарование и смущение, и так с каждым новым товаром, который она доставала. Это был белый испанский галстук за тридцать франков; она не хотела покупать, но продавец ей клялся, что она держит последний и что их поднимут в цене. И вдруг – вуалетка с шантильским кружевом, немного дорогая, за пятьдесят франков. Если бы она не взяла ее, она бы что-то сделала для своей дочери.
– Боже мой! Кружева – это так красиво! – повторяла она с нервным смехом. Я, когда я там, внутри, скупила бы весь магазин.
– И это? – спросила мадам де Бове, изучая отрез гипюра.
– Это, – ответила она, – это в промежутке. Двадцать шесть метров. Франк за метр, понимаете!
– Держите, – сказала с удивлением мадам Бурделе. – Что вы хотите сделать?
– Ну, я пока не знаю… Но он с таким забавным рисунком!
В этот момент, когда она подняла глаза, она увидела лица своего объятого ужасом мужа. И вся его личность выражала тоску бедного смирившегося человека, который принимает участие в разорении его жалованья. Каждый новый отрезок кружев был для него катастрофой, горькими днями, потопленными в профессорской работе, в курсах с отпечатками мучительной грязи, в непрерывных усилиях его завершающейся жизни, приводящих к тайному смущению адом необходимой совместной жизни.
Из страха встретиться взглядом с мужем мадам Марти хотела снова схватить платок, вуалетку, галстук, она лихорадочно прогуливалась по ним руками и с неловким смехом повторяла:
– Меня будет ругать мой муж… Я тебя уверяю, мой друг, что я была еще очень умеренна, так как имелась еще крупная купюра в пятьсот франков, о! удивительно!
– Почему же вы не купили? – спокойно спросила мадам Жибаль. – Мосье Марти – самый галантный из мужчин.
Профессор должен был склонить голову и сказать, что его жена совершенно свободна. Но от мысли об опасности этой большой купюры холодный лед пробежал по его спине. И так как Мюре всегда утверждал, что новые магазины повышают благосостояние средней буржуазии, он пронзил Мюре ужасным взглядом, освещенным робкой ненавистью, которая не осмеливается задушить.
Впрочем, эти дамы не оставляли кружев. Они опьянились. Отрезки кружев переворачивались, разворачивались, передавались от одной к другой, вновь приближались, сияли легкими нитями. Когда их руки виновато запаздывали, нежная ткань чудесной тонкости была у них на коленях. И они еще более тесно, как узника, окружили Мюре, ставя перед ним новые вопросы. Поскольку день постепенно гас, минутами они склоняли головы, и он касался своей бородой их волос, чтобы проверить ткань, отметить рисунок. Но в этом наслаждении мягких сумерек, посреди разгоряченного запаха их плеч, он оставался их мэтром, окруженный восхищением, которое он так любил. Он был женщиной, они чувствовали себя пронзенными и соблазненными его нежным чувством, он владел тайной их существа, и они, обольщенные, сдавались в плен; а он, уверенный в своей благодарности, появлялся, безжалостно царствуя над ними, как деспотичный король тряпок.
– О мосье Мюре, мосье Мюре! – бормотали они, шепча и замирая в глубине сумрачной гостиной.
Белизна гаснущего неба затихла в медных украшениях мебели. И только кружева хранили снежные отражения на темных коленях дам, чья смущенная группа, казалось, сбилась вокруг молодого человека волнами набожного коленопреклонения. Последний луч просиял на боку чайника. Короткий и живой огонек ночника горел в алькове, притягивающем ароматом чая. Но вдруг с двумя лампами вошел слуга, и все очарование прервалось. Гостиная проснулась, ясная и веселая. Мадам Марти разместила кружева в глубине своей небольшой сумочки. Мадам де Бове еще ела ромовую бабу, пока Генриэтта, поднявшись, вполголоса заговорила с бароном.
– Он очарователен, – сказал барон.
– Не правда ли? – ей хотелось пуститься бежать, с непроизвольным влюбленным женским возгласом.
Он улыбнулся и посмотрел на нее с отцовской снисходительностью. Это был первый раз, когда он почувствовал себя побежденным и слишком снисходительным для страдания; он просто проявил сочувствие, видя руки этого бравого молодца, такие нежные и столь безупречно прохладные. И он посчитал своим долгом предупредить ее и пробормотал шутливым тоном:
– Осторожнее, моя дорогая, он у вас съест всё.
Пламя ревности засветилось в прекрасных глазах Генриэтты. Она, без сомнения, знала, что Мюре просто использует ее, чтобы приблизиться к барону. И она поклялась свести его с ума от любви, его, для кого любовь была легким очарованием песни, брошенной всем ветрам.
– О! – ответила она, возбужденная его шутливым тоном. – Это всегда агнец, готовый съесть волка.
Тогда очень заинтересованный барон сделал ободряющий знак головой. Может быть, она была женщиной, которая должна была прийти и отомстить.
Когда Мюре, после того как повторил Валлогноску, что хочет показать свою «машину» в рывке, подошел к барону, чтобы попрощаться, тот удержал его у светящегося окна, лицом к темному, сумрачному саду. Увидев молодого человека посреди этих дам, барон, наконец, уступил соблазну, к нему пришла вера в Мюре. Они оба на мгновение заговорили вполголоса. Потом банкир провозгласил:
– Хорошо, я проверю дела… Контракт будет заключен, если ваши продажи в понедельник примут тот важный оборот, о котором вы говорите.
Они пожали друг другу руки, и Мюре ушел в восхищении; он плохо ужинал, если не заходил вечером окинуть взглядом выручку «Дамского счастья».






