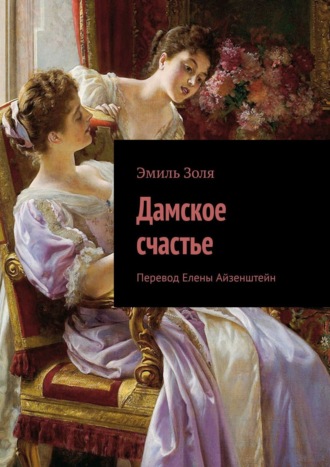
Эмиль Золя
Дамское счастье
Глава 2
Назавтра, в полвосьмого, Дениза уже стояла перед входом в «Дамское счастье». Она хотела представиться до того, как проводит Жана к его хозяину, который жил далеко, на высокой окраине, рядом с храмом. Но, сделав обычные утренние приготовления, она слишком поторопилась появиться: продавцы только пришли, и, боясь показаться смешной, полная робости, какие-то мгновения она еще топталась на площади Гэйон.
Свистящий холодный ветер уже высушил мостовую. Со всех улиц, светящихся недолгим бледным днем под пепельным небом, продавцы живо шли, подняв воротники своих пальто, прятали руки в карманах, удивленные первым веяньем зимы. Большая часть пребывала в одиночестве, скрытая в глубине магазина, ни адресуя ни слова, ни даже взгляда своим коллегам, ступавшим вокруг них; другие входили по двое или по трое, живо разговаривая и растянувшись во всю ширину тротуара, и все, прежде чем войти, одним и тем же движением бросали свои сигары и сигареты в канаву. Дениза заметила, что некоторые из этих мосье разглядывали ее, проходя. Тогда ее робость возросла, она уже не чувствовала в себе силы войти, и она, в свою очередь, решила, что не пойдет, когда вход сотрудников закончился, покраснев от мысли, что ее вытолкают за дверь, на виду у всех людей. Но вход продолжился, и, чтобы избежать чужих взглядов, она медленно обошла площадь. Когда вернулась, она обнаружила стоящего перед «Дамским счастьем» высокого молодого человека, бледного и долговязого, который, казалось, ждал, как она, в течение четверти часа.
– Мадмуазель, – пролепетал он невнятно, – вы, может быть, продавщица в магазине?
Она так разволновалась, что слышит от этого незнакомого парня адресованные ей слова, что поначалу не смогла ничего ответить.
– Видите ли, – продолжил он, путаясь еще больше, – у меня мысль, могут ли меня взять, не могли бы вы мне что-то посоветовать.
Он был такой же робкий, как она, и рискнул подойти к ней, потому что чувствовал, что она дрожит так же, как он.
– Я бы с удовольствием, мосье, – ответила она, наконец. – Но я продвинулась не дальше, чем вы, и я здесь для того, чтобы устроиться на работу.
– Ах, очень хорошо, – растерянно сказал он.
И они оба покраснели, и две их робости на мгновение оказались лицом к лицу, растроганные родственностью их ситуаций, не осмеливаясь пожелать себе всей высоты успеха. Потом, когда оба ничего не добавили и только больше и больше стеснялись, они неловко расстались и начали ждать каждый отдельно, в нескольких шагах друг от друга.
Продавцы постоянно входили. И теперь Дениза с удовольствием наблюдала, как они проходили перед ней, кидая на нее косые взгляды. Поскольку ее смущение грозило быть отмеченным окружающими, она решила вновь обойти квартал, что заняло около получаса, когда ее еще на минуту остановил взгляд молодого человека, быстро приближавшегося по улице Порт-Маон. Очевидно, он был руководителем отдела, так как его стали приветствовать продавцы. Он был высокий, белокожий, с аккуратной бородкой. У него были глаза потускневшего золота, с бархатной нежностью, остановившиеся вдруг на ней в тот момент, когда он пересекал площадь. Уже когда он вошел в магазин, безразличный к тому, что она неподвижно стояла на месте, она обернулась на этот взгляд, полный неповторимых эмоций, где было больше беспокойства, чем очарования. Очевидно, страх возобладал, и она решила медленно спуститься на улицу Гэйон, потом на Сэн-Рош, ожидая, что смелость вновь вернется к ней.
Это был больше, чем шеф отдела, это был сам Октав Мюре, собственной персоной. Он не спал этой ночью, так как провел ночь с биржевым агентом, ужинал с другом и двумя женщинами, снятыми в кулисах маленького театра. Его застегнутое пальто скрывало его костюм и белый галстук. Он живо поднялся к себе, умылся, переоделся, и, когда сел за рабочий стол, в своем кабинете на антресолях, у него был твердый, живой взгляд, свежая кожа, он весь ушел в работу, как если бы проспал десять часов. Кабинет был огромный, заставленный мебелью из старого дуба, покрытой зеленым репсом, единственным украшением которого был портрет мадам Эдуин, о которой еще говорил квартал. С тех пор как ее больше не стало, Октав хранил нежные воспоминания о ней; он испытывал признательность ее памяти за судьбу, которую она даровала ему, после того как он женился на ней. Поэтому, перед тем как подписывать свои договоры из бювара, он адресовал портрету улыбку счастливого человека. Разве не перед ней он всегда работал, когда возвращался в офис, после побега от молодой вдовы, выйдя из спальни, где его сбивала с толку необходимость удовольствия?
Постучали, и, не ожидая позволения, вошел молодой человек, высокий и худой, с тонкими губами, с острым и очень правильным носом и с приглаженными волосами, среди которых показались уже седые пряди. Мюре поднимает глаза, потом продолжает подписывать бумаги:
– Вы хорошо спали, Бурдонкль?
– Спасибо, очень хорошо, – отвечает молодой человек, маленькими шагами шагая около патрона.
Бурдонкль, сын бедного фермера из предместья Лиможа, некогда начал работу в «Дамском счастье», в то же самое время, когда и Мюре (тогда магазин занимал угол площади Гэйон). Очень умный, очень активный, казалось, он должен был беспрепятственно вытеснить менее серьезного своего товарища, имел способности для быстрого ведения дел, головокружительных историй с роковыми женщинами, но он в нем не было жилки гениальности этого страстного провансальца, ни его дерзости, ни его победной грации. Впрочем, по инстинкту умного человека, с самого начала, послушно, без борьбы он преклонялся перед Мюре. Когда Мюре посоветовал своим работникам вложить деньги в магазин, Бурдонкль выполнил это одним из первых, он доверил патрону даже неожиданное наследство тетушки; и понемногу, пройдя все стадии, продавца, потом второго продавца, потом руководителя шелкового отдела, стал одним из заместителей Мюре, самым дорогим и послушным, одним из шести, кто помогал управлять «Дамским счастьем», это было что-то вроде совета министров при абсолютном монархе. Каждый из них работал, осуществляя надзор за своей «провинцией». А Бурдонкль был ответственен за главный надзор.
– А вы? – запросто произнес Бурдонкль, – как вы спали?
Когда Мюре ответил, что он вообще не ложился, тот покачал головой, пробормотав:
– Плохой режим.
– Почему? – с веселостью спросил Мюре. – Я меньше устал, чем вы, мой дорогой. У вас глаза опухли от сна, вы все усложняете, пребываете таким рассудительным… Радуйтесь, однако, это подстегнет ваши мысли!
Это всегда было их дружеским спором. Бурдонкль вначале сражался с его любовницами, потому что, как он говорил, они мешали Мюре спать, а теперь он сделался профессиональным женоненавистником, без сомнения, за пределами встреч, о которых не рассказывал, так мало места они занимали в его жизни; в магазине он довольствовался эксплуатацией клиенток, с огромным презрением к их фривольности, к обрушивающейся женской глупости. Мюре, напротив, оставаясь с женщинами восхищенным и ласковым, впадал в экстаз, постоянно вступал в новые любовные отношения, и удары его сердца стучали, как реклама на ветру, о нем говорили, что весь женский пол он обволакивал нежностью, чтобы лучше оглушить и держать в своем подчинении.
– Я видел нынче ночью мадам Дефорж, – произнес он. – На балу она была усладительна.
– Не с ней ли вы затем ужинали? – спросил партнер.
Мюре вздохнул.
– К примеру, она очень искренна, мой дорогой. Нет, я ужинал с Элоизой, младшей Де Фолье. Глупа, как гусыня, но как смешна!
Он взял другую пачку договоров и продолжил подписывать. Бурдонкль сделал несколько коротких шагов. Он кинул взгляд на улицу Нов-Сэн-Огюстан, на высокие стекла витрин, а потом, повернувшись, сказал:
– Вы знаете, что они мстят.
– Кто? – спросил Мюре, от которого ускользнул смысл.
– Ну, женщины.
Тогда он более оживился, разгадав глубину его жестокости, скрываемой под чувствительным обожанием. Пожав плечами, он заявил, что бросает всех на землю, как пустые мешки, с того дня, как они помогали ему построить его состояние. Настырный Бурдонкль повторил холодным тоном:
– Они отомстят… И будет одна, которая победит других, это судьба.
– Как не бояться! – закричал Мюре со своим провансальским акцентом. – Такая еще не родилась, мой хороший. И если она придет, знаете…
И он взял свою ручку и указал ею в пустоту, как если бы хотел пронзить ножом невидимое сердце. Партнер повторил свое движение по комнате, преклоняясь, как всегда, перед превосходством патрона, в чьем таланте было полно сбивающих с толку прорех. Он, такой цельный, такой логичный, бесстрастный, без возможности грехопадения, понимал сторону женского успеха, Париж отдает свои поцелуи самому дерзкому.
Воцарилось молчание. Был слышен скрип пера Мюре. Потом, путем смело поставленных вопросов, Бурдонкль предоставил информацию о большой распродаже зимних новинок, которая будет иметь место в следующий понедельник.
Это была очень большая сделка, от которой торговый дом мог выиграть состояние, шум в квартале имел на дне истину, и Мюре поэтично бросился в этой игре так скоро, с такой потребностью колоссального, что все трещало рядом с ним. Здесь росло новое чувство торговли, ощущение коммерческой фантазии, которая когда-то беспокоила мадам Эдуин и которая сегодня еще, несмотря на первый успех, иногда тревожила заинтересованных лиц. Шепотком обвиняли патрона, который двигался слишком быстро. Обвиняли его за опасное увеличение магазина, перед тем как посчитать достаточность прибыли; трепетали, видя, как одним ударом все деньги оказываются в кассе, как прилавки заполняются товарами, а магазин не откладывает ни су в резерв. Также по этой выставке-продаже после значительных сумм, выплаченных вкладчикам, капитал целиком находился вне, и каждый раз больше, и либо побеждал, либо умирал. И, посреди этого смятения, Мюре держит торжествующее оживление, уверенность в миллионах; в человеке, обожающем женщин, не может быть предательства. Когда Бурдонкль позволил себе сказать о некоторых страхах насчет чрезмерного развития отдела, чей товарооборот остается сомнительным, со смешливой уверенностью Мюре воскликнул:
– Однако, мой дорогой, оставьте, торговый дом слишком мал!
Другие казались изумленными, объятыми страхом, что не будет больше тайных дел. Дом торговли слишком мал! Дом новинок, где насчитывается девятнадцать отделов и четыреста три служащих!
– Но, без сомнения, – произнес Мюре, – ранее, чем через восемнадцать месяцев мы будем вынуждены расширяться. Я это серьезно говорю. Этой ночью мадам Дефорж пообещала устроить завтрашнюю встречу с одной персоной… Наконец-то мы поговорим, когда мысль созреет.
Закончив подписывать бумаги, он поднялся и пошел, чтобы похлопать по плечу заинтересованных лиц, которые трудно сдавались. Этот страх осторожных людей вокруг него его развлекал. С достаточно резкой откровенностью, которой Мюре иногда подавлял знакомых, он заявлял, что в глубине натуры более еврей, чем все евреи мира. Он унаследовал это от своего отца, которого напоминал и физически, и морально; молодца, который знал цену деньгам. А от его матери у него была нить нервной фантазии, самая ясная его удача, так как он чувствовал непобедимую силу благодати и мог всего достигнуть.
– Вы знаете, что мы идем до самого конца, – заключил Бурдонкль.
Затем, прежде чем спуститься в магазин, чтобы окинуть все привычным взглядом, оба обговорили еще раз некоторые детали. Они осмотрели образец в маленькой тетради, и Мюре придумал, как использовать это в торговле. Основываясь на наблюдении за новой торговлей, этот последний заметил, что старые товары – это соловьи, удалявшиеся тем более быстро, чем выше процент с продаж, отдаваемый продавцам. В дальнейшем он заинтересовывал своих продавцов реализацией всех товаров. Он согласовывал с ними свои действия и давал проценты за малейший кусок ткани, даже за маленькую вещь, проданную ими – механизм, кипевший новизной, создававший между продавцами борьбу за существование, давал возможность начальникам извлекать прибыль. Эта борьба в его руках стала его любимой формой работы, организационным принципом, который он постоянно использовал. Он оставил страсти и положил силы на реальное дело, заменив большой обед завтраком и откармливался в этой баталии интересов. Пробный образец из тетради был одобрен: сверху выделялось замечание, находился отдел и номер продавца, то же самое повторялось с обеих сторон тетради учета, имелись колонки для метража, товара и цены. Продавец постоянно регистрировал продажи в тетради, перед тем как передать кассиру. Благодаря такому способу, контроль был самым удобным, достаточно было сверить денежные отчисления в кассе с теми, что находились в бюро учета, а также с теми, что оставались на руках продавцов. Каждую неделю последние без возможных ошибок получали свои проценты с продаж.
– У нас меньше украдут, – с удовлетворением заметил Бурдонкль. – Это была отличная идея.
– Я мечтал этой ночью о других вещах, – объяснил Мюре. – Да, мой дорогой, этой ночью, за ужином… Я желаю дать служащим офиса учета небольшую премию за каждую ошибку, которую они найдут в тетрадях продаж, сверяя их… Вы понимаете, некоторые из них не упустят из виду ничего, так как они сразу будут изобретательны.
Он улыбнулся, пока его коллега смотрел на него в восхищении. Это новая практика борьбы за существование очаровывала, он был гением административной механики, он мечтал организовать свой дом торговли таким способом, чтобы эксплуатировать чужой аппетит, для спокойного довольства и удовлетворения собственных нужд. Когда мы хотим возместить людям их усилия, – часто говорил он, – даже получить от них немного честности, нужно вначале узнать их потребности.
– Хорошо! Спустимся, – сказал Мюре. – Нужно заняться товарами на продажу. Шелк привезли вчера, не так ли? И Бутмонт должен быть в приемной.
Бурдонкль последовал за ним. Служба приема находилась в подвале, со стороны улицы Нов-Сэн-Огюстан. Там, на краю тротуара, открывалось зарешеченное стекло, где рабочие выгружали товары. Товары взвешивались, потом переходили на скользящую дорожку, где сияли, отполированные трением тюков и ящиков, дуба и фурнитуры. Все привозилось в эту сияющую дверцу. Это непрерывное зрелище, водопад тканей, которые падают с речным гулом. Во время больших продаж лента выпускала в подвал неистощимый поток: шелка Лиона, английскую шерсть, полотно Фландрии, эльзасский трикотаж, индийскую ткань из Руана, и иногда телеги становились в очередь, пакеты бежали вниз, в глубину отверстия, с глухими звуками камня, брошенного в глубокую воду.
Войдя, Мюре на мгновение остановился перед движущейся лентой. Она функционировала, ящики с товарами спускались сами, и видно было людей, чьи руки сталкивали их наверху, поэтому казалось, они двигались сами, дождем струясь из источника наверху. Потом появились тюки, поворачиваясь сами, как обкатанные камни. Мюре смотрел, не произнося ни слова, но этот ледоход товаров, падавших перед ним, этот поток ценой в тысячи франков в минуту вызывал в его ясных глазах короткий огонек. Никогда еще у него не было осознания такой четкости начатого сражения. Это был ледоход товаров, который возник от того, что он запустил это движение из четырех районов Парижа. И, не раскрывая рта, он продолжил свое наблюдение.
Серый день пришел с широким вздохом; команда работников получала грузы, другие под наблюдением начальника отдела сбрасывали ящики и разворачивали тюки. Оживление наполняло глубину подвала, где чугунные столбы поддерживали своды, а обнаженные стены были покрыты цементом.
– Вы все получили, Бутмонт? – спросил Мюре, приблизившись к молодому человеку с сильными плечами, пытавшегося проверить содержимое ящика.
– Да, все должно быть там, – ответил последний. – Но я на утро рассчитывал.
Начальник отдела взглядом оценивал фактуру, стоя перед прилавком, на котором продавец один за другим выкладывал из ящика куски шелка. За ними выстроились другие прилавки, также загроможденные товарами, которые проверяли младшие продавцы. Это была главная распаковка, беспорядочное появление тканей, изучаемых, разворачиваемых, маркируемых, посреди жужжания голосов.
Бутмонт, который славился на своем месте, имел круглое радостное приятельское лицо, с черной чернильной бородкой и прекрасные карие глаза. Родившийся в Монпелье, гуляка и крикун, он был посредственностью в торговле; но в покупках ему не было равных. Посланный в Париж отцом, державшим здесь магазин новинок, он абсолютно отказался от возвращения родные края, наконец, пожилой отец сказал себе, что парень знает достаточно, чтобы заниматься торговлей. И когда возросло соперничество между отцом и сыном, первый, со своей маленькой провинциальной торговлей, был возмущен троекратным выигрышем простого продавца, по сравнению с тем, что мог взять он сам, а второй смеялся над старой рутиной, трезвонил о своей прибыли, волнуя этим торговый дом, каждый из его пассажей. Как и другие начальники бухгалтерии, этот с тремя тысячами франков фиксированного дохода, имел процент с продаж. Монпелье удивленно и уважительно повторил, что сын Бутмонта имел в предшествующем году в кармане почти пятнадцать тысяч франков; люди предсказывали раздраженному отцу, что эта цифра еще будет расти.
Между тем Бурдонкль взял один отрез шелка, который начал изучать внимательным взглядом компетентного человека. Это был дефект голубой и серебряной кромки знаменитого «Счастья Парижа», которым, как считал Мюре, он мог нанести решительный удар.
– Поистине ткань очень добротна, – бормотало заинтересованное лицо.
– Она более эффектна, чем добротна, – сказал Бутмонт. Не такую ли Демонте создал для нас… В мою последнюю поездку, когда я ругался с Гожаном, тот хотел взять сто метров такого образца, но потребовал на двадцать пять сантимов больше за метр.
Почти все месяцы Бутмонт ездил на фабрику, днями жил в Лионе, ночевал в случайных отелях, заключая договоры с производителями на открытой бирже. Он пользовался абсолютной свободой, покупая то, что казалось ему хорошим, при условии, что каждый год он будет повышать заранее оговоренную сумму товарооборота своего отдела. И для этого увеличения он даже коснулся своих процентов. В общем, его положение в «Дамском счастье», по сравнению со всеми начальниками, его коллегами, в торговом отношении, в ансамбле разных служащих этого огромного города торговли было особым.
– Итак, это решено, – произнес он, – мы оценим ткань в пять франков шестьдесят… Вы знаете, это почти цена покупки.
– Да, да, пять франков шестьдесят, – живо сказал Мюре, – Если бы я был один, я оказался бы в убытке.
Шеф отдела рассмеялся.
– О! я не прошу большего… Это утроит продажи, и, в моих собственных интересах, принесет большую выручку.
Но Бурдонкль оставался серьезным, со сжатыми губами. Это касалось процентов от общей прибыли, и его дело было не снижать цены. По правде говоря, контроль, на котором он пытался настаивать, на контроле марки, а Бутмонт уступал единственному желанию увеличить выручку от продаж, не продавая со слишком маленькой прибылью. В остальном повторялось старое беспокойство о рекламных комбинациях, которых он избегал. Он осмелился показать свое неприятие, сказав:
– Если мы им дадим за пять шестьдесят, это все равно нам в убыток, потому что нужно взимать наши значительные расходы. Станем иногда продавать по семь франков.
Вдруг Мюре разозлился. Своей раскрытой рукой он застучал по шелку, нервно воскликнув:
– Но я это знаю, вот почему я желаю сделать подарок нашим клиентам… На самом деле, мой дорогой, у вас никогда не было понимания женского ума. Поймите, однако, они будут хватать его, этот шелк!
– Без сомнения, – вмешалось упрямившееся заинтересованное лицо, – чем больше они будут хватать, тем больше мы потеряем.
– Мы потеряем несколько сантимов с одного артикула, я это хорошо знаю. А потом? Прекрасная неудача, если нам нравятся все женщины и если мы держим их в своей воле, очарованных, обезумевших перед нагромождением наших товаров, с опустошенными кошельками. Все, мой дорогой, из их сияния, и нужно это для товара, который нравится и создает эпоху. Вдруг мы сможем продать другие, такие же дорогие товары еще более, они верят, что заплатят вам по лучшей цене. К примеру, наша «Золотая кожа», тафта за семь франков пятьдесят, которая повсюду продается по этой цене, будет идти по экстраординарной возможности, и этого будет достаточно, чтобы покрыть потери от «Счастья Парижа»… Вы увидите, вы увидите!
Он становился красноречив.
– Понимаете! Я хочу, чтобы в восемь дней «Счастье Парижа» перевернуло площадь. Это дар судьбы для нас, то, что нас спасет и откроет перед нами возможности. Будут говорить только о нем, голубая и серебряная кромка будет известна от одного конца Франции до другого… И вы услышите яростные жалобы наших конкурентов. Маленькая торговля оставит там еще одно свое крыло. Все похороненные перекупщики будут страдать в своих подвалах от ревматизма!
Продавцы, которые проверяли партию товаров, слушали патрона с улыбкой. Он любил поговорить и имел на это право. Бурдонкль опять уступил. Однако ящик опустошили, и два человека отошли к другому.
– Эта работа не смешна! – сказал Бутмонт. В Лионе они ополчились против вас и хотят, чтобы ваши продажи по скидкам рухнули… Вы знаете, что Гожан определенно объявил мне войну… он поклялся открыть большие кредиты для маленьких торговых домов, вместо того чтобы принять мои цены.
Мюре пожал плечами.
– Если Гожан недальновиден, – ответил он, – останется ни с чем. На что они жалуются? Мы платим им немедленно, мы берем все, что они производят, это много лучше, чем работа по выгодному счету. Кроме того, достаточно, чтобы этим воспользовались покупатели.
Продавцы опустошили второй ящик, пока Бутмонт указывал на куски ткани, консультируясь насчет фактуры. Другой продавец на краю прилавка пометил определенные цифры, и проверка закончилась; квитанция, подписанная руководителем отдела, должна была оказаться в центральной кассе. Еще мгновение Мюре смотрел на эту работу, на всю эту деятельность вокруг распаковки товаров, которая поднималась и угрожала затопить подвал; потом, не добавив ни слова, с видом капитана, удовлетворенного своей командой, он удалился, следуя за Бурдонклем.
Медленно они прошли через весь подвал. Вздохи света, с места на место кидали бледную ясность. И в глубине темных углов, узких длинных коридоров постоянно горели клювы газовых фонарей. Это было в том коридоре, где находились резервы, подвал с решетками в палисадник, где разные отделы держали в тесноте свои товары. Проходя, глава торгового дома бросил взгляд на калорифер, который в первый раз включили в понедельник, и на маленькую пожарную станцию, содержавшую гигантский счетчик, находившийся за железной решеткой. Здесь были кухня и столовая, старые подвалы превратились в маленькие залы и были слева, на углу площади Гэйон. Наконец, с другого края подвала он добрался до службы отправки. Пакеты, не востребованные клиентами, были спущены сюда, рассортированы на столах, разобраны на секции, каждая из которых представляла один из парижских кварталов. Потом, спускаясь по широкой лестнице прямо до самого «Старого Эльбёфа», можно было взять карету, припаркованную рядом с тротуаром. В механическом существовании «Дамского счастья» эта лестница на улицу Мишудьер, не ослабевая, извергала товары, потопленные скольжением с улицы Нов-Сэн-Огюстан, после чего они проходили наверх, через зубчатые колеса прилавков.
– Кампьон, – сказал Мюре шефу отдела доставок, старому человеку с тощей фигурой, – почему шесть пар простыней, купленных дамой вчера около двух часов, не были отправлены ей вечером?
– Где живет эта дама? – спросил служащий.
– Рю де Риволи, на углу рю Алжер… Мадам Дефорж…
В этот час прилавки сортировки были пусты. Помещение не содержало ничего, кроме нескольких пакетов, оставленных ранее. Пока Кампьон копался в пакетах, изучая книгу записей, Бурдокль посмотрел на Мюре, воображая, что этот человек-дьявол знает все, занимается всем, даже за ужином в ресторане и в алькове с любовницами… Наконец, шеф доставки обнаружил ошибку: на ящике оказался неправильный номер, и пакет вернули.
– Из какой кассы? – спросил Мюре. – Ну? Вы говорили о кассе 10…
И, повернувшись, с интересом:
– Касса 10, это Альберт, не правда ли? Мы ему скажем пару слов.
Но прежде чем сделать обход магазина, он хотел подняться в службу отгрузки, которая занимала несколько комнат на втором этаже. Туда стекались все заказы из провинции и из-за заграницы, и каждое утро он заходил просмотреть корреспонденцию. Уже два года эта почта росла день за днем. И сервис, в котором был занят десяток служащих, нуждался уже более, чем в тридцати. Одни вскрывали письма, другие читали, с двух сторон одного и того же стола, третьи классифицировали и давали каждому свой порядковый номер, который записывался на шкафчике. И потом, когда письма распространялись по отделам, а отделы доставляли товары, следили за количеством и размерами этих отправок, исходя из порядкового номера, и оставалось только проверить и упаковать их в глубине соседней комнаты, где команда рабочих с утра до вечера забивала и связывала посылки.
Мюре задал свой обычный вопрос:
– Сколько с утра писем, Левасёр?
– Пятьсот тридцать четыре, сэр, – ответил шеф отдела. – После продаж понедельника, боюсь, нам не хватит людей. Вчера было много проблем.
Бурдонкль удовлетворенно закивал головой. Во вторник он не насчитал пятисот тридцати четырех писем. Вокруг на столах служащие вскрывали конверты и читали, с непрерывным шумом разрезаемой бумаги, а перед ящиками тут и там находились различные товары. Это был самый сложный и важный отдел во всем торговом доме: здесь жили под ударом бесконечной спешки, так как постоянно нужно было, чтобы все утренние заказы отправлялись вечером.
– Мы дадим необходимых вам людей, Левасёр, – заключил Мюре, взглядом констатируя хорошую работу отдела. – Вы знаете, когда есть работа, мы не отказываем в людях.
Наверху, на чердаке, находились комнаты, где сидели продавцы, но он спустился вниз и вошел в центральную кассу, расположенную рядом с его кабинетом. Это была закрытая стеклом комната, с медным окошком, в которое можно было видеть огромный сейф, прочно прикрепленный к стене. Два кассира собирали чеки, и каждый вечер поднимался Лём, первый кассир по продажам, и занимался расходами, платил фабрикантам, каждому отдельно, и всему маленькому миру, который находился в торговом доме. Касса соединялась с другой комнатой, заполненной зелеными коробками, где десять служащих проверяли счета. Далее шло еще одно бюро – бюро вычета: шесть молодых людей, склонясь к черным конторкам, держали перед собой регистрационные книги о денежных сборах, там закрывали процент продавцов, склеивали книги сбыта. Этот совсем новый отдел работал плохо.
Мюре и Бурдонкль прошли в кассу и в отдел проверок. Когда они отошли в следующий отдел, молодые подчиненные, задрав нос, удивленно смеялись. Тогда Мюре без упреков объяснил им систему маленькой премии, пообещав, что им будут платить за каждую ошибку, которую они найдут в приходо-расходных книгах. И когда он вышел, работники, перестав смеяться и как бы подхлестнутые этим, со страстью вернулись к работе, выискивая ошибки.
На первом этаже магазина справа Мюре подошел к кассе номер десять, где Альберт полировал свои ногти, ожидая клиентов. Обычно говорили «Династия Лёма»; с тех пор как мадам Орелия, первая продавщица в «Готовом платье», толкнула мужа на пост первого кассира, ей удалось получить кассу для своего сына, большого бледного и порочного парня, который не ничего не умел и вызывал самые сильные опасения. И, глядя на молодого человека, Мюре нахмурился; он испытывал отвращение к тому, чтобы компрометировать свое доброе имя, становясь жандармом; по вкусу и тактике он держался своей роли любимого бога. Локтем он легко коснулся Бурдонкля, человека цифр, который обычно устраивал разборки.
– Мосье Альберт, – строго сказал последний, – вы опять плохо написали адрес, пакет вернулся… Это выходит за все границы…
Кассир понял, что ему надо защищаться, и позвал в свидетели мальчика, который делал посылку. Этот мальчик по имени Жозеф, принадлежал, как и он, к той же династии, так как был молочным братом Альберта и занимал свое место благодаря влиятельности мадам Орелии. Поскольку молодой человек попытался сказать, что ошибка произошла по вине клиента, Альберт бормотал, щипал себя за бороду, удлинявшую его шитое лицо, в котором шла борьба между совестью старого солдата и благодарностью своим покровителям.
– Оставьте Жозефа в покое, – закончил кричать Бурдонкль, – и сразу не отвечайте далее… Ах! Ваше счастье, что мы уважаем заслуги вашей матери!
Но в этот момент подбежал Лём. Из его кассы, расположенной рядом с дверью, он приметил своего сына, находившегося в отделе перчаток. Уже весь седой, уставший от своей сидячей жизни, он имел вид мягкий, бесцветный, потрепанный, как деньги, которые он неустанно считал; его ампутированная рука ничуть не мешала в этой его работе, и даже любопытно было видеть, как он проверяет счета, а билеты и монеты быстро скользили в левую руку, единственную, которая у него осталась. Сын коллектора из Шабли попал в Париж как канцелярский служащий к торговцу из Порт-о-ван. Потом, поселившись на улице Кувьер, женился на дочери своего консьержа, маленькой эльзасской портнихе. И с этого дня оставался покорен своей жене, чьи коммерческие способности внушали уважение. В «Готовом платье» она сделала более двенадцати тысяч франков, тогда как он – только пять тысяч франков. И почтительность к ней, принесшей такую сумму в хозяйство, распространялась и на общего сына.
– Однако, – проговорил Альберт, – это ошибка?
Тогда в своей обычной манере на сцену вернулся Мюре, чтобы сыграть роль доброго принца. Когда Бурдонкль пугал, Мюре излечивал своей популярностью.
– Пустяк, – пробормотал он. – Мой дорогой Лём, Ваш Альберт ошеломлен, что ему приходится брать пример с вас.
Потом, переменив разговор, он сделался еще более дружелюбным:
– А концерт в тот день? У вас было хорошее место?
Краска залила лицо старого кассира. Это был его единственный грех, музыка, тайная страсть, которую он одиноко удовлетворял, спеша в театры, на концерты, на приемы; несмотря на свою ампутированную руку, он, благодаря специальным зажимам, играл на валторне. И так как мадам Лём ненавидела шум, он покрывал свой инструмент сукном, и вечером сам был почти в экстазе, восхищенный приглушенными звуками, которые издавал. Из-за вынужденного бегства от семейного очага он сотворил из музыки необитаемый остров. Музыка и деньги из его кассы – он не знал ничего другого, помимо восхищения своей женой.






