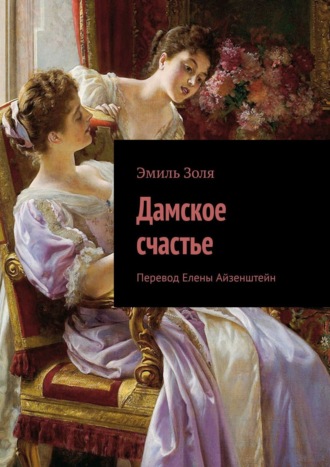
Эмиль Золя
Дамское счастье
Глава 3
Каждую субботу, с четырех до шести, мадам Дефорж предлагала чашку чая с пирожными своим близким друзьям, которые очень хотели с ней повидаться. Квартира ее находилась на третьем этаже, на перекрестке улиц Риволи и Алжер, и окна двух ее гостиных выходили на Жардан де Тюильри. Именно в эту субботу, когда слуга проводил его в большую гостиную, Мюре заметил через прихожую, через дверь, остававшуюся открытой, мадам Дефорж, шедшую по маленькой гостиной. Она остановилась, увидев его, вошла, и он торжественно приветствовал ее. Потом, когда слуга закрыл дверь, он живо схватил руку молодой женщины, чтобы с нежностью поцеловать.
– Посмотри, там люди, – сказала она тихо, указав жестом на дверь большой гостиной. – Я пойду поищу веер, чтобы показать им.
И кончиком веера она весело слегка ударила его по лицу. Она была брюнетка, немного крепкая, с большими ревнивыми глазами. Но он следил за ее рукой и спросил:
– Он придет?
– Без сомнения, – ответила она. – Он мне обещал.
Они говорили о бароне Артмане, директоре Кредитов недвижимости. Мадам Дефорж была дочерью государственного советника, биржевого маклера, который оставил ей состояние, отрицаемое одними и раздуваемое другими. На всю жизнь, скажем мы, она была благодарна барону Артману, чьи советы великого финансиста использовала для ведения дел; и позднее, после смерти мужа, связь их продолжалась, но всегда тайно, без безрассудства и без срывов. Никогда мадам Дефорж не афишировала ее, повсюду, в среде высокой буржуазии, где она выросла, мадам принимали.
Даже сегодня, когда ее страсть к банкиру, человеку скептическому и изысканному, обернулась простым отеческим чувством, она позволяла себе иметь любовников, а он был терпим к этому; она вносила в жизнь своего сердца такую деликатную меру и такт, столь ловко владея светской этикой, что никто не позволил бы поставить под сомнение ее благородное имя. Встретив Мюре у общих друзей, она сначала возненавидела его, потом отдалась ему, как бы поддавшись внезапной любви, которой он атаковал ее, и затем устроилось так, что, держа рядом с собой барона, она все больше и больше начала испытывать к Мюре глубокую и подлинную нежность, она его обожала со страстью женщины тридцати пяти лет, не признававшейся и в двадцати девяти, отчаявшись почувствовать себя более молодой, трепеща от страха быть брошенной.
– И он в курсе? – спросил Мюре.
– Нет, вы ему сами объясните, в чем дело, – ответила она, перестав тыкать в него веером.
Она посмотрела на него и подумала, что он не должен ничего знать, чтобы держать его возле барона, чтобы Мюре считал того просто ее старым другом. Но он постоянно держал ее за руку и называл своей доброй Генриэттой, и она чувствовала, как тает ее сердце. В молчании она сжала свои губы, потом тихо сказала:
– Тсс… меня ждут. Входите после меня.
Два легких голоса звучали в большой гостиной, приглушенные драпировкой. Она толкнула дверь, оставив обе створки открытыми, и оказалась в окружении четырех дам, сидевших посреди комнаты.
– Держите, вот, – сказала она. – Не знаю, моя служанка никогда не нашла бы его.
И, обернувшись, она добавила веселым тоном:
– Однако входите, мосье Мюре, пройдите в маленькую гостиную. Это будет менее церемонно.
Мюре приветствовал дам, которых он знал. Гостиная в стиле Людовка XVI, с полупарчой букетов, с позолоченной бронзой, с большими зелеными растениями, носила отпечаток нежной интимности женщины, несмотря на высокие потолки. Из двух окон можно было видеть каштаны Тюильри, с которых октябрьский ветер сметал листья.
– Но это совсем не гадко; это шантильское кружево! – воскликнула мадам Бурделе, держа веер.
Это была маленькая тридцатилетняя блондинка, с тонким носом и живыми глазами, подруга Генриэтты по пансиону, которая вышла замуж за заместителя начальника министра финансов. Родом из старинной буржуазной семьи, она вела хозяйство и растила своих троих детей с оживлением и прекрасной грацией, с изысканным чутьем к практической жизни.
– И ты заплатила за этот лоскут двадцать пять франков? – повторила она, изучая каждый элемент кружева. – Ну? Ты говорила о Люке, о местной работнице. Нет, нет, это недорого. Но нужно, чтобы его сделали.
– Без сомнения, – ответила мадам Дефорж. – Подвеска мне обошлась в двести франков.
Тогда мадам Бурделе принялась смеяться. И это Генриэтта называет оказией! Двести франков! Простая вещь из слоновой кости, с вензелем! Для кусочка шантильского кружева, который сэкономит сто су! Найдем за сто двадцать франков те же самые веера, что у всех. Она указала на улицу Пуассоньер.
Однако веер был осмотрен всеми дамами. Мадам Жибаль едва взглянула на него. Она была высокая и тонкая, с рыжими волосами, с лицом, залитым безразличием, и серые ее глаза минутами смотрели безучастно или с ужасным эгоистическим желанием. Ее никогда не видели в сопровождении мужа, известного адвоката Дворца правосудия, который, как говорили, вел свободный образ жизни, со всеми развлечениями и удовольствиями.
– О! – пробормотала она, – протягивая веер мадам де Бове, – я бы в жизни не купила два. – Вам всегда дают слишком…
Графиня ответила с тонкой иронией:
– Вы счастливы, моя дорогая, иметь галантного мужа.
И, наклонившись к своей дочери, высокой девушке двадцати с половиной лет:
– Посмотрите на вензель, Бланш, какая красивая работа! Этот вензель должен прирастать к оправе.
Мадам де Бове подошла к сорока годам. Это была гордая женщина с видом богини, с большим правильным лицом и сонными глазами, так что ее муж, главный инспектор по коннозаводству, женился на ней за ее красоту. Она казалось взволнованной нежностью вензеля, как нахлынувшим желанием, и от этого чувства побледнел ее взгляд. И вдруг:
– Скажите мне ваше мнение, мосье Мюре. Не слишком ли дорого, двести франков за эту оправу?
Мюре оставался стоять посреди пяти женщин, улыбаясь, интересуясь тем, что их интересовало. Он взял веер, рассмотрел его и уже собирался высказаться, когда слуга открыл дверь, сказав:
– Мадам Марти.
Вошла худая уродливая дама, чье лицо было изъедено оспой, обладавшая особенной элегантностью в одежде. Она была без возраста, ей в ее тридцать пять, можно было дать и сорок, и тридцать, по нервной лихорадке, с которой она двигалась. Сумочка из красной кожи, которую она не оставила, висела на ее правой руке.
– Дорогая мадам, – сказала она Генриэтте, – вы меня простите с моей сумочкой… Представьте, ехала вас повидать и зашла в «Счастье», и какая я делаюсь безумная, я не хотела оставить это внизу, в моем фиакре, из страха, что могут украсть…
Но тут она увидела Мюре и, смеясь, произнесла:
– Ах, мосье, это не для того чтобы сделать вам рекламу, потому что я не обращаю внимания на то, что вы там работаете… В данный момент у вас там фантастические кружева…
Это вернуло внимание к вееру, который молодой человек положил на стол. И теперь дамам было необходимо увидеть, что же купила мадам Марти. Все знали за ней страсть к расходам, она была бессильна перед искушением; честная женщина, не умела уступить любовнику, но сразу трусила и покорялась за малейший кусочек тряпки. Дочь маленького клерка, она разорила своего мужа, пятого профессора в лицее Бонапарта, который должен был удвоить шесть тысяч франков, чтобы удовлетворить постоянно растущий бюджет домашнего хозяйства. И она не открывала сумочку, она держала ее на коленях, говоря о своей дочери Валентине, четырнадцати лет, одной из самых дорогих кокеток, так как та жила, как мать, со всеми новинками моды, неотразимому обольщению которых поддавалась.
– Вы знаете, этой зимой молодые девушки будут носить платья, украшенные миленьким кружевом… Правда, я видела очень красивое валансьенское… – объяснила дочь.
Мать, наконец, решилась открыть сумочку. Дамы вытянули шеи, когда в молчании послышался колокольчик из прихожей.
– Это мой муж, – пролепетала мадам Марти, полная замешательства. – Он должен был отыскать меня, когда вышел из «Бонапарта».
Она живо закрыла сумочку и инстинктивно растворилась в кресле. Все дамы рассмеялись. Тогда она покраснела от своей поспешности, вернула сумочку на колени и сказала, что все мужчины никогда не понимают и не знают, что им следует знать.
– Мосье де Бове, мосье де Валлогноск, – объявил слуга.
Это вызвало удивление, даже мадам де Бове не рассчитывала на приход супруга. Этот последний, красавец, с императорскими усами, в военном духе, любимом в Тюильри, поцеловал руку мадам Дефорж, которую знал еще молодой в доме ее отца. И отошел в сторону для другого посетителя, бледного высокого малокровного молодого человека, который смог, в свою очередь, поприветствовать хозяйку дома. Когда разговор возобновился, мужчины вдруг, слегка вскрикнули:
– Как! Это ты, Поль?
– Ну! Октав!
Мюре и Валлогноск пожали друг другу руки. В свою очередь, мадам Дефорж выразила удивление. Неужели они знакомы? Конечно, они росли рядом, в коллеже де Пляссан, и случайность, что еще ни разу они не встретились у нее.
Однако их руки постоянно сходились, они шутили в маленькой гостиной в тот момент, когда слуга на серебряном подносе, сделанном в Китае, принес чай, который был поставлен рядом с мадам Дефорж, посреди мраморного столика с легкой медной оправой. Дамы приблизились, стали более громко разговаривать, все их слова без конца были об одном и том же. Пока мосье де Бове, инстинктивно склоняясь перед ней, что-то говорил со своей чиновничьей галантностью. Огромная комната, так весело и нежно меблированная, еще более оживилась от этих болтающих голосов, заливающихся смехом.
– Ах! Это старик Поль! – повторял Мюре.
И он сел на канапе рядом с Валлогноском. Одни в глубине маленькой гостиной, в очень кокетливом будуаре, затянутом шелком с золотой ручкой, вдали от чужих ушей и даже не видя дам иначе, как через открытую дверь, положив ладони на колени, они говорили глаза в глаза. Вся их юность проснулась, старый коллеж Пляссан, с двумя дворами, с влажными классами, столовая, где они ели так много трески, дортуар, где подушки летели от кровати к кровати, как только храпел «пешка». Поль, из старой семьи парламентера, маленького дворянина, разорившегося и угрюмого, был сильным в теме, всегда первым учеником, постоянным примером в глазах профессора, предсказывавшего ему блестящее будущее. А Октав тащился в хвосте, мог гнить среди балбесов, счастливцев и толстяков, чрезмерно растрачивая себя вне учебных стен на удовольствия.
Несмотря на разницу натур, тесное товарищество их, однако, было неразделимо до самого бакалавриата, из которого они вышли: один – со славой, другой – после двух неудачных испытаний. Потом жизнь из разлучила, и они встретились десять лет спустя уже изменившимися и постаревшими.
– Посмотрим, – сказал Мюре, – что с тобой сталось?
– Я никем не стал.
Валлогноск, в радости их встречи, сдерживал свои утомление и разочарование, и, как и его друг, Мюре поражался, настаивал, говоря:
– Наконец, ты сделал что-то хорошее…
– Ничего, – отвечал тот.
Октав принялся смеяться. Ничего – этого недостаточно. Фраза за фразой, – и он получил историю Поля, общую историю бедных молодых людей, веривших, что с рождения их долг – оставаться в свободной профессии, похоронить себя в глубине тщеславной посредственности, счастливых тем, что они не пухнут от голода, с дипломами, наполнявшими ящики. По обычаям семьи, он сохранил свои права, потом оставался жить на иждивении своей матери-вдовы, которая уже не знала, как устроить своих двух дочерей. Наконец, стыд взял верх, и, оставив трех женщин трудно жить на обломках судьбы, он приехал, чтобы занять маленькое место в министерстве внутренних дел, где был погребен, как крот – в своей норе.
– И сколько ты зарабатываешь? – спросил Мюре.
– Три тысячи франков.
– Ну, это жалкие деньги. Ах, мой бедный старик, чтобы мне сделать для тебя. Как! Такой сильный мальчик, который всех нас мог скрутить. И они не дали тебе ничего, кроме трех тысяч франков, после того как тебя дурачили в течение пяти лет! Нет, это несправедливо!
Он прервался и вернулся к самому себе.
– Я боюсь отрекомендоваться. Знаешь, кем я стал?
– Да, – сказал Валлогноск. – Мне говорили, что ты в коммерции. У тебя большой торговый дом на площади Гэйон, не правда ли?
– Это правда. Коленкор, старик.
Мюре поднял голову, постучал ладонью по колену и повторил с твердой веселостью молодца профессию, от которой разбогател.
– Сплошь коленкор. Но честное слово, – радостно сказал Мюре. – я вряд ли понимал их механику, но в глубине я вряд ли судил глупее, чем другие. Когда я проходил моей маленькой лодкой, чтобы удовлетворить мою семью, я отлично мог стать адвокатом или врачом, как товарищи, но эти профессии вызывали у меня страх, так видим мы людей, обретших язык. Тогда, мой Бог, я кинул ослиную кожу на ветер, о! без сожаления, я с головой ушел в бизнес.
Валлогноск смущенно улыбнулся. Он закончил, пробормотав:
– Дело в том, что твой диплом бакалавра не мог тебе помочь в торговле тканями.
– Моя вера! – радостно ответил Мюре. – Все, что я прошу, чтобы это меня не смущало. – Ты знаешь, когда мы имеем глупость ходить со спутанными ногами, нелегко выпутаться. Идем в жизни черепашьими шагами, хотя другие, босыми ногами, бегут, как безумцы.
Потом заметив, что друг, кажется, страдает, он, протянув ему руку, добавил:
– Видишь, я не хочу причинить тебе боль, но признай, что твой диплом не удовлетворяет твоих запросов… Знаешь, мой начальник отдела шелка получил более двенадцати тысяч франков в этом году? Отлично! Мальчик с очень четким умом, который тверд в орфографии и четырех правилах… обычные продавцы у меня имеют три-четыре тысячи франков, больше, чем зарабатываешь ты сам, и они не стоят твоих новых инструкций, они не были призваны в мир с обещанием его завоевать… без сомнения, зарабатывать деньги – это еще не все. Просто между бедными дьяволами науки, заполняющими либеральные профессии, без еды из голода, есть практичные мальчики, приспособленные к жизни, знающие до глубины свое дело, честное слово! я не колеблюсь, я за этих против тех, я считаю, что парни понимают красоту их эпохи!
Его голос звучал горячей. Генриэтта, разливавшая чай, повернула голову. Когда он ей живо улыбнулся, в глубине большой гостиной, он заметил двух других дам, навостривших ухо, и он оживился от первой фразы.
– Наконец, старина, весь коленкор сегодня – это начало кожи миллионера.
Валлогноск мягко повернулся на канапе. Он наполовину прикрыл глаза в усталой и презрительной позе, где оттенок чувства добавился к реальному утомлению его породы.
– Ба! – пробормотал он. – Жизнь не стоит такого труда. Ничто не смешно.
И поскольку возмущенный Мюре с выражением удивления посмотрел на него, он добавил:
– Все приходит и ничто не приходит. Остается только скрестить руки.
Тогда он заговорил о своем пессимизме, о посредственностях и о неудачах существования. В какой-то момент он мечтал о литературе, и от этого ему досталось общение с поэтами, полными отчаяния. Всегда он замечал бесполезность усилий, равномерную скуку пустых часов, в окончательной глупости мира. Наслаждения упускались, и не было радости даже от злых дел.
– Ну, тебе забавно? – закончил вопросом Валлогноск.
Мюре застыл в возмущении. Он воскликнул:
– Как! Если мне забавно! Ах! что ты поешь? Ты там, старина!.. Но, без сомнения, я веселюсь, даже когда вещи трещат, потому что тогда я злюсь, слыша, что они трещат. Я пылок, я не принимаю спокойной жизни, это то, что меня в ней интересует, может быть.
Он кинул взгляд на гостиную и понизил голос.
– Есть женщины, которые мне очень надоели, я в этом признаюсь. Но когда я обнимаю одну, я ее обнимаю, как дьявол! И это никогда не упускается, я никому не уступлю моей части, я тебя уверяю. Кроме того, это не женщины, над которыми я после всего смеюсь. Ты видишь, это из желания и возникает, это творчество, наконец… У тебя есть идея, ты разбиваешься для нее, ударом молотка ты обрушиваешься на головы людей, ты видишь ее рост и триумф… Ах, да, старик, я веселюсь.
Вся радость действия, вся веселость существования прозвенели в его словах. Он повторил, что это его эпоха. Поистине нужно быть плохо устроенным, иметь ущербными мозг и члены, чтобы отказаться от труда, от такой продолжительной работы, когда целый век бросается в будущее, и посреди огромной современной стройплощадки он высмеет отчаявшихся, не имеющих вкуса, пессимистов, все болезни наших новейших наук: плач поэтов, недовольные лица скептиков, прекрасную, чистую, умную роль – зевать от скуки во время труда других!
– Это мое единственное удовольствие, – с холодной улыбкой заключил Валлогноск, – зевать перед другими.
Вдруг страсть Мюре ушла. Он вновь стал любящим.
– Ах, это старый Поль, всегда тот же самый, всегда парадоксальный… Увы! Мы не можем поссориться. К счастью, каждый – при своих мыслях. Но нужно, чтобы я показал тебе мою машину в действии, ты увидишь, что это не так глупо… Давай, расскажи мне новости. Твоя мать и твои сестры в порядке, я надеюсь? И ты должен был жениться в Пляссанте шесть месяцев назад?
Внезапным движением Валлогноск остановился, беспокойным взглядом он словно обыскивал гостиную и, повернувшись, отметил, что мадмуазель де Бове не сводит с него глаз. Высокая и крепкая, Бланш напоминала свою мать, просто у последней на лице застыла загрунтованная маска, с грубыми чертами, неприятно жирная. Поль на сдержанный вопрос ответил, что ничего еще не сделал, может быть, даже ничего не сделает. Он познакомился с молодой девушкой у мадам Дефорж, куда много ездил прошлой зимой и где теперь редко появлялся; этим объяснялось, как он мог не встретиться здесь с Октавом. В свою очередь, де Бове его принимали, и он особенно любил отца, старого повесу, который после административной работы вышел в отставку. Впрочем, не судьба: мадам де Бове не принесла своему мужа ничего, кроме своей красоты Юноны (семья проживала на старой заложенной ферме), к тонкой природе которой счастливо добавились девять тысяч франков, полученных графом как главным инспектором по коневодству. И эти дамы, мать и дочь, очень нуждались в средствах, которые пожирали нежные похождения графа, и иногда им приходилось самим перешивать свои платья.
– Но почему? – просто спросил Мюре.
– Боже мой! Лучше мы закончим, – сказал Валлогноск с усталым движением век. – И потом, есть надежды. Мы ждем близкой смерти тетушки.
Однако Мюре, не покидавший больше взглядом мадам де Бове, сидевшую рядом с мадам Жибаль, предупредительный, с нежной усмешкой общительного человека, повернулся к своему другу и прищурился с таким значительным видом, что последний добавил:
– Нет, не эта… Пока нет, по крайней мере… Несчастьем было то, что служба звала его в четыре разных конца Франции, в загоны с жеребцами, и он имел постоянный предлог, чтобы исчезнуть. В прошлом месяце, когда его жена считала, что он в Перпиньяне, он жил в отеле, в компании с хозяйкой фортепиано, в глубине потерянного квартала.
Воцарилось молчание. Потом молодой человек, который, в свою очередь, хотел проявить любезность по отношению к графу, тихо сказал возле мадам Жибаль:
– По моему мнению, ты прав… Тем более, что милая дама не так дика, как о ней рассказывают. Есть о ней забавная история… Однако посмотри! Он комичен, манит уголками глаз… Старая Франция, мой дорогой! я обожаю этого человека! И если я женюсь на его дочери, он сможет даже сказать, что это для него.
Очень веселый, Мюре рассмеялся. Он задал Валлогноску новый вопрос, и, когда узнал, что первая мысль о браке между ним и Бланш пришла мадам Дефорж, нашел историю еще лучшей. Это добрая Генриэтта с удовольствием вдовы женила молодых людей, и, когда она одаривала девушек, ему приходилось позволять отцам выбирать друзей в его окружении. Но это было так естественно, со всем добрым изяществом, что свет никогда не мог найти в этом тему для скандала. И Мюре, любивший в людях активность и власть, имел обычай прятать свою нежность, забывая о расчетах соблазнения и чувствуя себя лишь товарищем Генриэтты.
Генриэтта вышла за дверь маленькой гостиной из-за пожилого человека примерно шестидесяти лет, появления которого не заметили двое друзей. Дамы временами говорили довольно пронзительными голосами, что сопровождало легкое позванивание ложечек в чашках китайского фарфора; и время от времени был слышен посреди короткой тишины очень живой звук блюдца, снова поставленного на мраморный столик. Показался резкий луч солнца на краю большого облака, золотивший вершины каштанов в саду, входивший в окна пылью красного золота, чье пламя сияло на полупарче обивки и мебельной меди.
– Мой дорогой барон, – сказала мадам Дефорж, – я вам представлю Октава Мюре, который имеет самое живое желание засвидетельствовать вам свое огромное восхищение.
И, повернувшись к Октаву, она добавила:
– Мосье барон Артман.
Улыбка искусно ущипнула губы старика. Это был человек маленький и энергичный, с большой эльзасской головой, чье полное лицо при малейшей складке у рта, при самом легком моргании век освещалось умным светом. Последние две недели он сопротивлялся желанию Генриэтты, которая просила его об этой встрече, не потому что он испытывал чрезмерную ревность (как умный человек, он смирился с ролью отца), но потому что это был уже третий друг, которого Генриэтта стремилась ему представить, и барон немного боялся насмешки. Кроме того, он обращался к Октаву с тайной усмешкой богатого покровителя, который, если захочет, может показать себя обаятельным, но не согласится быть обманутым.
– О, мосье! – сказал Мюре с провансальским энтузиазмом. – Последние операции Банка недвижимости были так поразительны! Вы не поверите, как я счастлив и горд, что могу пожать вашу руку.
– Очень мило, мосье, очень мило, – повторил барон, все время улыбаясь.
Генриэтта посмотрела на них без смущения, ясным взором. Она стояла между ними двумя, подняв красивую голову, глядя то на одного, то на другого в своем кружевном платье, которое покрывало ее нежную шею и запястья; у нее был восхитительный вид, и было так хорошо видеть их вместе.
– Господа, – закончила она, – я вас оставлю.
Потом, повернувшись к Полю, который стоял рядом, она добавила:
– Хотите чашку чая, мосье Валлогноск.
– С удовольствием, мадам.
И они вдвоем вернулись в гостиную.
Когда Мюре вновь занял свое место на канапе, рядом с бароном Артманом, он стал распространять новые похвалы Кредиту недвижимости. Потом он напал на тему, хранимую в сердце, и заговорил о новом взгляде на продолжение улицы Реомюр, где была открыта секция его магазина на улице Десятого декабря, между площадью Биржи и площадью Оперы. Общественное использование разрешалось на восемнадцать месяцев. Только что назначили слушание по принудительному изъятию имущества, и весь квартал взволновался от этого огромного пролета, беспокоясь о времени работ, интересуясь домами, о которых должна была идти речь. Около трех лет Мюре ждал этой работы, сначала в преддверии более активного движения дел, затем, с сильно увеличившимися амбициями, в которых не осмеливался признаться, так широка была его мечта. Поскольку улица Десятого Декабря пересекала улицу Шуазель и улицу Мишудьер, он видел «Дамское счастье» заполонившим весь сладкий кусок вокруг этих улиц и улицей Нов-Сэн-Огюстан. Он воображал уже новый вид магазина с фасадом дворца, ощущая себя властным мэтром завоеванного города. Из этого и родилось его живое желание познакомиться с бароном Артманом, когда Мюре узнал, что Кредит недвижимости, по договору с администрацией, берет на себя обязательство – прорубить и ввести в использование улицу Десятого декабря при условии, что участки с краю будут оставлены в его собственность.
– В самом деле, – произнес он, стараясь показаться наивным, – вы им передадите полностью сделанную улицу, с канавами, тротуарами и газовыми фонарями? И участки по краям будут для вас достаточной компенсацией? О, это любопытно, очень любопытно.
Наконец, он подошел к деликатному моменту разговора. Он знал, что Кредит недвижимости тайно покупает дома из того куска, где находится «Дамское счастье», не только те, которые должны были снести, но и другие, продолжавшие жить. И он пронюхал здесь проект будущего коммерческого предприятия и был очень обеспокоен этим увеличением, через которое он расширял свою мечту, и был полон страха от мысли о возможном когда-нибудь столкновении с властным «Кредитом недвижимости», который, конечно, его в свои владения не впустит. Это был страх, сразу установивший между ним и бароном связь, такую тесную между благородными людьми, которых связывала любимая женщина. Без сомнения, он мог увидеть финансиста в его кабинете, чтобы спокойно поговорить о важном деле, которое хотел ему предложить. Но у Генриэтты он чувствовал себя более уверенно, он знал, как общая связь с женщиной сближает и трогает. Быть вдвоем у нее, в этом аромате любви, быть готовым победить улыбкой, представало ему уверенностью в успехе.
– Не хотите ли вы купить отель Дювиярд, это старое здание, которое так меня поражает?
– неожиданно спросил он.
Барон Артман сначала немного смешался, потом ответил отрицательно. Но, посмотрев на него, Мюре заметил на лице барона улыбку: и с тех пор Мюре играл роль доброго молодого человека, с честным сердцем, прямого в делах.
– Смотрите, мосье барон, я имел неожиданную честь встретиться с вами, нужно, чтобы я исповедался… О! я не буду просить вас раскрыть ваши секреты. Просто поделюсь с вами моими, убежденный в том, что не окажусь в более мудрых руках. Кроме того, мне необходимы ваши советы. Долгое время я не осмеливался с вами свидеться.
На самом деле он исповедался, рассказав о своих первых шагах, и он не скрыл даже финансового кризиса, который ему пришлось преодолевать посреди его триумфа. Все текло, в последовательном увеличении, прибыль постоянно возвращалась в товарооборот, в том числе – суммы, которые вносили служащие, с каждой новой сделкой торговый дом всякий раз рисковал своим состоянием, где капитал целиком был в игре, как в картежном бою. Однако это не были деньги, которых он просил, так как он имел в своих клиентках фанатичных сторонниц. Его амбиции становились более высокими, он предлагал барону объединение, при котором Кредит недвижимости внесет колоссальный дворец, который он видел в мечтах, тогда как Мюре, со своей стороны, даст свою гениальную идею и уже созданные коммерческие фонды. Оценили бы вклады, и ничто не казалось ему более легким в реализации.
– Что вы будете делать с вашими участками земли и с вашей недвижимостью? – спросил он настойчиво. – У вас есть идея, без сомнения. Но я уверен, что ваша идея не стоит моей. Обдумайте это. Мы построим на землях торговую галерею, мы разрушим и мы приведем в порядок дома, мы откроем самые большие магазины Парижа; рынок, который сделает миллионы…
И Мюре позволил вырваться крику сердца:
– Ах, если бы я мог забыть о вас, но вы сегодня держите все! И потом… я никогда не имел необходимого превосходства… Увидим, нужно, чтобы нас услышали, это будет потрясающе.
– Как у вас все идет, дорогой мосье, – довольно ответил барон Артман. – Какое воображение!
Он покачал головой, продолжая улыбаться, решив не возвращать откровенность за откровенность. Проект Кредита недвижимости был создан на улице Десятого декабря для конкуренции с роскошно оформленным Гранд-Отелем, чье центральное расположение нравилось иностранцам. Впрочем, поскольку отель должен был занимать только землю по краям, если бы барон принял идею Мюре, он подписал бы договор на огромную площадь для остальной части домов. Но он уже финансировал двух друзей Генриэтты и немного утомился от своей роли самодовольного покровителя. Затем, несмотря на страсть к деятельности, с которой он открывал свой кошелек для всех умных и храбрых мальчиков, удар коммерческого таланта Мюре поразил его больше, чем соблазнил. Не был ли это фантастической и неосторожной операцией, этот его гигантский магазин? Не рискует ли он разориться, желая так расширить коммерческие размеры торговли новинками? Не поверив, он, наконец, отказался.
– Без сомнения, идея может прельстить, – сказал он. – Просто она достойна поэта… Где вы найдете клиентуру, чтобы покрыть подобный кафедральный собор?
Мюре посмотрел на него, на минуту замолчав, словно пораженный его отказом. Это возможно? Человек такой проницательности, который чувствует деньги со всей силой! И вдруг всего одним большим красноречивым жестом он указал на дам в гостиной и воскликнул:
– Да вот она, клиентура!
Солнце бледнело. Пыль красного золота была теперь белым свечением, чье прощание затихало в шелке занавеса и в створках мебели. Это приближение сумерек и уют погрузили большую комнату в нежную теплоту. Мосье де Бове и Поль Валлогноск говорили у окон, и глаза их терялись вдалеке сада, дамы сблизились, образовав там, посредине, тесный круг из юбок, где поднимался смех, шептались слова, раздавались вопросы и пламенные ответы, со всей женской страстью к расходам и тряпкам. Говорили о нарядах, и мадам де Бове рассказывала о бальном платье:
– Сначала прозрачный лиловый шелк, затем – старинные алансонские воланы, в тридцать сантиметров…
– О! Если бы это можно было позволить, – прервала мадам Марти. – Есть счастливые женщины.
Барон Артман, который следил за жестами Мюре, посмотрел на этих дам через дверь, остававшуюся широко открытой. Ушами он слушал, как молодой человек, воспламененный желанием победы, предавался объяснению механизмов новой коммерции. Эта коммерция теперь базировалась на непрерывном и быстром обновлении капитала, который переходил в товар в одном и том же году как можно больше раз. И в этом году его капитал в пятьсот тысяч франков прокрутился четыре раза и дал два миллиона. Гроши, впрочем, могло быть и в десять раз больше, так как он сказал, что, если кое-что сделать, позднее капитал, в некоторых секциях, вернется в пятнадцать-двадцать раз.
– Вы слышите, мосье барон, вот и вся механика. Все это очень просто, но нужно ее найти. У нас нет необходимости в крупных оборотах средств. Наше единственное усилие – очень быстрое избавление от купленных товаров, чтобы освободить место для других, мы пытаемся вернуть капитал во много раз и в свою пользу. Таким образом, мы довольствуемся и маленькой прибылью, наши общие затраты поднимаются до огромной цифры в шестнадцать процентов. Мы имеем прибыли не более двадцати процентов, однако эта прибыль на четыре процента больше; просто это заканчивается ковкой миллионов, если мы будем иметь дело с качественными товарами, которые будут без конца обновляться… Вы следите за рассуждением? Не правда ли, нет ничего более ясного.






