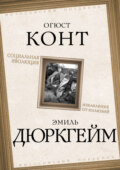Эмиль Дюркгейм
Моральное воспитание
«Коллективное возбуждение» и аномия
В последние два-три десятилетия наблюдается настоящий бум интереса исследователей к понятию «коллективное возбуждение» (“effervescence collective”) в дюркгеймовской теории, что нашло выражение в большом числе публикаций на данную тему[131]. И это притом, что ранее, на протяжении длительного времени экзегеты Дюркгейма практически не обращали внимания на это выражение. Можно сказать, что в последнее время идея «коллективного возбуждения» вызвала настоящее коллективное возбуждение у социологов, изучающих его творчество. Это последнее возбуждение достигло такой степени, что некоторые даже увидели в Дюркгейме одного из создателей «потаенной» (“concealed”) социологии толпы[132]. В категории «возбуждение» стали видеть ключ к пониманию не только его социологии морали и религии, но и чуть ли не всей его социологии в целом. Из «социолога аномии» par excellence, которым он некогда считался многими аналитиками, благодаря усилиям некоторых интерпретаторов он все больше превращается в «социолога возбуждения».
Вероятно, отчасти рост интереса к данной проблематике у Дюркгейма был вызван общим усилением внимания социологов к теме эмоционального начала в социальной жизни и развитием проблемной области социологии эмоций. Кроме того, в данном случае, по-видимому, определенную роль сыграли и вненаучные факторы, такие как социальные движения на постсоветском пространстве, в других странах бывшего соцлагеря и события «арабской весны» 2011 г.
Как отмечалось выше, понятие возбуждения (effervescence) мы встречаем уже у Гюйо в «Иррелигиозности будущего» (1887), где автор пишет: «Чтобы достигнуть своего наивысшего развития, искусство и наука требуют значительного расходования сил; они поэтому истощают, изнуряют народ, у которого они имеют место. После этих эпох возбуждения (effervescence) наступают другие, когда нация отдыхает, накапливает силы; это, так сказать, эпохи парования в интеллектуальной культуре»[133]. Данной темы Дюркгейм часто касается применительно и к современным индустриальным обществам (например, в «Самоубийстве», 1897), и к австралийским аборигенам («Элементарные формы религиозной жизни», 1912).
Наиболее глубокую и основательную интерпретацию «социального возбуждения» в теории Дюркгейма в связи с темами социальной регуляции, интеграции, аномии и идеалов можно, на наш взгляд, найти в указанных выше работах Филиппа Штайнера (см. сн. 131 наст. изд.). В них он опирается на скрупулезный анализ текстов классика и продолжает исследования данной проблематики, начатые Филиппом Бенаром. Штайнер констатирует, что хотя Дюркгейм всегда негативно оценивал аномию в сфере экономики, в целом его оценка этого явления с течением времени неявно становилась более позитивной. Не случайно последние 15 лет жизни он вообще не использовал понятие аномии (хотя и не отказался от него), а у его последователей, участников Французской социологической школы, это понятие практически не встречается, за исключением одного его упоминания Франсуа Симианом. Именно в периоды коллективного возбуждения происходит массовый эмоциональный подъем, а вместе с ним – усиление общения, создание и воссоздание социальных идеалов. Хотя такие моменты сопровождаются краткосрочной дерегуляцией, аномией и разгулом страстей, в долгосрочной перспективе они, согласно Дюркгейму, плодотворны, так как в конечном счете усиливают и регулятивную, и интегративную системы общества. Разрушая на короткое время повседневные правила, возбужденная социальная среда освобождает путь «для более высокой степени социальной интеграции, повышая уровень теперешней эмоциональной жизни и обеспечивая идеал, благодаря которому в долгосрочной перспективе интеграция и регуляция в результате окажутся усиленными»[134].
Необходимо иметь в виду, что Дюркгейм не разрабатывал некую специальную, самостоятельную и целостную теорию коллективного (социального) «возбуждения» (“effervescence”). Его рассуждения на эту тему носят довольно разрозненный и противоречивый характер. При этом они оказываются либо включенными в более широкие теоретические рамки (концепции морали, религии, социальной регуляции, социальной солидарности, роли эмоциональных факторов социальной жизни, идеала, традиции, сакрального, аномии и т. д.), либо тесно связанными с ними. Более того, трактовка Дюркгеймом «коллективного возбуждения» является составной частью его философско-исторических воззрений. Как мы пытались показать в некоторых прежних работах, все это имеет важнейшее значение для понимания истинной роли данного феномена в его социологии[135].
В своем известном докладе на философском конгрессе в Болонье (1911) Дюркгейм кратко формулирует своего рода философию истории, в которой слышны отголоски идей Сен-Симона и Конта относительно чередования в истории «органических» и «критических» эпох. В этом докладе, как и в некоторых других работах, он утверждает, что в развитии обществ чередуются периоды «креативные» (“créatrices”), или «новаторские» (“novatrices”), и «обычные». В креативные периоды индивиды общаются более тесно, отношения между ними становятся более длительными, обмен идеями – более активным, эгоистические и повседневные интересы вытесняются альтруистическими. Это время коллективного возбуждения, эмоционального подъема, разгула страстей. Именно в такие периоды создаются «великие идеалы, на которых базируются цивилизации»[136]. При этом необходимо отметить, что, согласно Дюркгейму, создание и воссоздание идеалов – императив социальной жизни и социального развития: «Общество не может ни создаваться, ни воссоздаваться без одновременного создания идеала»[137].
Особенность креативных периодов, в которые создаются идеалы, по Дюркгейму, состоит в следующем: «Идеальное тогда стремится слиться в одно целое с реальным; вот почему у людей возникает впечатление, что совсем близки времена, когда идеальное станет самой реальностью, и Царство Божие осуществится на этой земле. Но иллюзия никогда не бывает продолжительной, потому что сама эта экзальтация не может длиться долго: она слишком утомительна»[138]. В одной из своих ранних работ он отмечал такую черту креативных эпох, веков «новой и дерзкой веры», как «вкус к абсолютному»[139]. В качестве примеров таких новаторских периодов Дюркгейм приводил, в частности, возникновение христианства, Реформацию и Возрождение, эпоху Французской революции, социалистическое движение в XIX в. и т. д.
Когда «критические» периоды завершаются, социальная жизнь, согласно Дюркгейму, становится менее интенсивной, интеллектуальное и эмоциональное возбуждение ослабевает и индивиды возвращаются к своей обычной жизни. Но все сделанное, продуманное, прочувствованное в период, по его выражению, «плодотворной бури» не исчезает; оно сохраняется, но в форме воспоминаний. Идеалы, хотя и сохраняют свое очарование, но уже не смешиваются с реальностью. Они бы исчезли, если бы периодически не оживлялись в форме разного рода праздников, церемоний, проповедей, манифестаций, как религиозных, так и светских. «Это как бы частичное и слабое возрождение эмоционального возбуждения творческих эпох»[140], – говорил Дюркгейм. Происходит традиционализация идеалов, их превращение в традиционные формы социальной регуляции. Со временем наступает новый креативный период, когда идеальное снова актуализируется, снова стремится к соединению с реальностью, затем этот период снова сменяется обычным и т. д. Чередование отмеченных «креативных» и «обычных» периодов в трактовке Дюркгейма выступает как своего рода закон социального развития.
Эти идеи Дюркгейма позволяют, на наш взгляд, лучше понять идейную эволюцию большевизма, его отношения к традиции, его восприятия времени и коммунистического идеала. Этот идеал, казавшийся В.И. Ленину и его соратникам совсем близким, способным осуществиться буквально в течение полутора десятков лет, в советское время постепенно подвергся традиционализации. В период «застоя» слово «коммунизм» практически исчезло из пропагандистского лексикона советских идеологов, провозгласивших вместо коммунизма длительный период «развитого» («зрелого») социализма и обратившихся к воспитанию трудящихся на революционных, боевых и трудовых традициях[141].
В предыдущих работах мы выделили и кратко охарактеризовали три разновидности «коллективного возбуждения» у Дюркгейма: «новаторское», «креативное» возбуждение, при котором в соответствующие периоды происходит создание новых идеалов; «обычное», «традиционное», имеющее место в обычные периоды, когда эти идеалы традиционализируются и выступают в форме разного рода ритуалов, праздников, церемоний и т. п.; наконец, те формы возбуждения, которые не обязательно носят ритмический, периодический характер[142]. Последние связаны с тем, что Дюркгейм характеризует как «болезнь беспредельного» (“le mal de l’infini”), «беспредельность мечтаний» (“l’infini du rêve”), «беспредельность желания» (“l’infini du désir”) или «страсть к беспредельному» (“la passion de l’infini”)[143]; они могут поражать не только индивидов, но и группы, и быть более или менее постоянными. Эти проявления возбуждения относятся, по Дюркгейму, и к хроническому состоянию аномии в сфере экономики, и к самоубийствам, как «эгоистическим», так и к «аномическим»[144]. Если у «эгоистических» самоубийц «болезнь беспредельного» поражает главным образом интеллект, то у «аномических» – эмоциональную сферу[145].
Следует уточнить, что отмеченная «болезнь беспредельного» связана с одним из проявлений «двойственности человеческой природы», которой Дюркгейм посвятил две свои широко известные работы 1913 и 1914 гг.[146] Согласно изложенной в этих работах своеобразной философско-антропологической концепции, человек по своей природе – это homo duplex, человек двойственный. В нем сосуществуют, взаимодействуют, борются как бы два различных человеческих существа: индивидуальное и социальное. Первое выражает биопсихическую природу человека, представленную в разного рода импульсах, потребностях, аппетитах, желаниях, эмоциях и т. п.; последнее – его социальную природу, выступающую в социальных, прежде всего моральных правилах и нормах. «Болезнь беспредельного» возникает тогда, когда первое из этих существ не ограничивается, не сдерживается, не регулируется последним. Как и у Фрейда, биопсихическая природа человека в дюркгеймовской трактовке выступает как мустанг, как дикая необузданная лошадь, которая при отсутствии всадника в лице социальных норм находится во власти сил саморазрушения, несущих ее вскачь куда попало, навстречу гибели. Речь здесь идет об отсутствии нормативной регуляции, т. е., по существу, об аномии. Характерно, что данная концепция двойственности человеческой природы изложена уже «поздним» Дюркгеймом. Это еще раз свидетельствует о том, что хотя он с 1902 г. и перестал использовать термин «аномия», он отнюдь не отказался от идеи аномии и своей первоначальной ее интерпретации.
Эта третья из выделенных нами в дюркгеймовских трудах разновидностей «возбуждения», основанная на обострении «болезни беспредельного», целиком связана с дерегуляцией и снижением уровня солидарности, т. е. носит заведомо социально-деструктивный характер. Что касается двух других его разновидностей: «креативного», создающего идеалы, и «обычного», воспроизводящего их, то они, по Дюркгейму, хотя и сопровождаются дерегуляцией, все же являются в целом позитивными и плодотворными в социальном отношении.
Это относится прежде всего к первому из выделенных нами у Дюркгейма, «креативному возбуждению», возникающему в новаторские периоды социального развития (приводимые им примеры из истории Европы перечислены выше). Но и в «обычные периоды», когда происходит традиционализация идеалов, «коллективное возбуждение», согласно Дюркгейму, также имеет место в разного рода праздниках, ритуалах, церемониях и т. п., причем степень возбуждения в данном случае очевидным образом ниже, чем в «креативные» периоды.
Необходимо подчеркнуть в связи с этим, что в церемониях корробори, периодически практикуемых австралийскими аборигенами, согласно дюркгеймовской логике, имеет место вторая из выделенных нами разновидностей «возбуждения». Здесь происходит не создание, а воссоздание идеалов, которые носят традиционный характер, а потому степень эмоционального подъема здесь ниже, чем в периоды их создания. Точно так же, следуя той же логике, степень эмоционального возбуждения, испытываемого французскими гражданами ежегодно 14 июля, в день взятия Бастилии, явно ниже той, что испытывали французы непосредственно в момент революции, в частности, в 1789 г., когда это взятие произошло.
Дюркгейм постоянно подчеркивает плодотворный и стимулирующий характер первых двух видов социального «возбуждения». Он постоянно делает акцент на том, что эти процессы сопровождаются усилением социальной интеграции, солидарности и альтруизма, но оставляет в тени тот факт, что речь чаще всего идет об интеграциях и солидарностях во множественном числе, что они ограничены рамками определенных групп, часто выступают в форме «групповых эгоизмов» и сопровождаются межгрупповыми конфликтами, нередко носящими ожесточенный характер.
Правда, Дюркгейм так или иначе признавал противоречивый характер всех форм «коллективного возбуждения», выраженного в разгуле необузданных страстей и эмоций, отмечая, что оно реально и потенциально несет с собой немалый разрушительный заряд. Его деструктивный характер он констатировал и применительно к созданию новых идеалов в истории европейских обществ, и применительно к воссозданию традиционных идеалов (обычаев) у австралийских аборигенов. Дюркгейму было, разумеется, хорошо известно, что приводимые им примеры «новаторских» периодов, включая наиболее важный для него пример Французской революции, отличались не только «креативностью», благородными стремлениями и плодотворным идеализмом, но и массовыми проявлениями кровавого насилия и варварства[147]. И у австралийских аборигенов, совместно праздновавших корробори, межклановые отношения, как и отношения между индивидами, были далеки от солидаристской идиллии.
Дюркгейм отмечал, что эта возбужденная креативность неразрывно связана с социальной дерегуляцией, с ослаблением и исчезновением всех и всяческих правил. Под воздействием «общего возбуждения, характерного для революционных или креативных эпох», человек становится совершенно иным, чем в обычные времена: «Обуревающие его страсти настолько неистовы, что могут удовлетворяться только посредством насильственных, необузданных действий, в которых проявляются сверхчеловеческий героизм или кровавое варварство. Именно этим объясняются, например, крестовые походы и множество эпизодов Французской революции, иногда величественных, иногда диких. Мы видим, как под влиянием общей эмоциональной экзальтации совершенно незаметный, безобидный обыватель превращается либо в героя, либо в палача»[148].
Подобные эксцессы, связанные с дерегуляцией, Дюркгейм констатировал и в отмеченных праздниках корробори у австралийских аборигенов. Поведение их участников, согласно его характеристике, отличается такими чертами, как «бурные страсти, лишенные всякого контроля», «суматоха», «сексуальные связи вне всяких правил, которые бы ими управляли», «инцесты», «бред и патологическая нервозность» и т. п.
Тем не менее, как уже отмечалось выше, Дюркгейм в целом оценивает первые две разновидности коллективного «возбуждения», особенно «новаторскую», как позитивные. Его не смущают ни реальные конфликты, ни дерегуляция, т. е. аномия, ни разгул иррациональных страстей, во власти которых оказываются общества и индивиды в «креативные», или «революционные» периоды, когда создаются новые социальные идеалы. Он интерпретирует «креативные» периоды как времена торжества, как праздники социальных инноваций и социального творчества. Здесь напрашивается сравнение с одним широко известным высказыванием молодого Ленина: «Революции – праздник угнетенных и эксплуатируемых. Никогда масса народа не способна выступать таким активным творцом новых общественных порядков, как во времена революции. В такие времена народ способен на чудеса…»[149].
Любопытно, что Дюркгейм позитивно оценил вклад Рабле в революционные идеи в педагогике и в институт школьного образования в эпоху Ренессанса. А ведь Рабле был как раз своего рода идеологом аномии и неконтролируемых эмоций, желаний и страстей. Такое состояние, по Дюркгейму, оказывается условием и фактором создания нового, взамен существовавшего и реализованного ранее, педагогического идеала.
Чем же объяснить тот факт, что вопреки осознанию и признанию Дюркгеймом негативных последствий «коллективного возбуждения», необузданного разгула страстей и ослабления регулятивной системы, он все-таки оценивал данные явления позитивно? Можно предположить, что в данном случае он, по-видимому, находился все-таки в плену своей общей интегративно-солидаристской модели общества и в значительной мере выдавал желаемое за действительное. Вера в грядущий прогресс и укрепление социальной интеграции и регуляции под воздействием создаваемых в «креативные» эпохи новых идеалов делала его оптимистом в оценке аномических состояний, несмотря на понимание связанных с ними опасностей и деструктивных тенденций. Согласно логике Дюркгейма, «возбуждение» призвано освобождать пространство ценностей и идеалов от отживших, устаревших, нежизнеспособных принципов, создавая условия для новых, перспективных правил и порождая их. Допуская возможность временного ослабления регулятивной системы, он предполагал, что в долгосрочной перспективе новые идеалы все-таки стимулируют ее укрепление, так же как и будущее усиление социальной солидарности.
В общем, Дюркгейм всегда осознавал двойственный и противоречивый характер «коллективного возбуждения» и аномии, неразрывно с ним связанной. Он отмечал и креативный, и деструктивный аспекты и последствия этих явлений. Но к концу жизни он гораздо меньше опасался их деструктивных последствий и возлагал больше надежд на результаты конструктивные и креативные. Соответственно, его оценка «коллективного возбуждения» с социологической точки зрения стала более позитивной, чем в начале его творческого пути. Вместе с тем неявно его негативизм в отношении аномии уменьшился.
Наконец, такого рода позитивная оценка отчасти была вызвана его диагнозом морального состояния современных ему европейских обществ. Дело в том, что, согласно дюркгеймовскому диагнозу, они страдают не столько от низкого уровня или «качества» морали, сколько от ее «атонического», апатичного, «замороженного» состояния, вызванного отсутствием идеалов, их стагнацией или слабым воздействием на индивидов. Как подчеркивалось выше, создание и воссоздание идеалов, по Дюркгейму, – настоятельный императив социального развития: без них общества существовать не могут. Но в сфере идеалов он констатирует пустоту, застой или неэффективность. А отсюда и отсутствие «стимулирующего», «тонизирующего», «динамогенического», по его выражению, начала, способного привести в движение застывшую в замороженном состоянии мораль рубежа ХIХ – XX вв. Не случайно он характеризует ее в таких выражениях, как «моральный холод» (“froid moral”), «моральная посредственность» (“médiocrité morale”), «моральное недомогание» (“malaise moral”), «моральная индифферентность», «неопределенность» (“incertitude”), «смутное беспокойство» (“agitation confuse”). На этом фоне эмоциональный, возбуждающий «разогрев» морального климата современной ему эпохи, пробуждение морального энтузиазма постепенно стали представляться ему все более благотворными и желательными.
Как отмечалось выше, на рубеже XIX – ХХ вв. во Франции, как и в ряде других стран Европы, происходил активный процесс «изобретения», возрождения и пропаганды разного рода традиций и ритуалов[150]. Во французском обществе в различных формах происходила традиционализация идеалов Революции, что, по замыслу идеологов Третьей республики, должно было оживить моральное состояние общества и заполнить в нем ценностно-нормативный вакуум. Дюркгейму этот процесс был чрезвычайно близок. И все же он считал его недостаточным с социологической точки зрения. Он полагал, что Франция, как и другие европейские общества, испытывает потребность в новом «креативном» периоде, несмотря на то, что он осознавал опасности и угрозы, связанные с подобными трансформациями. Отсюда и ясно выраженная Дюркгеймом надежда на наступление такого состояния общества, которое породит новые идеалы: «Придет день, когда наши общества снова познают моменты креативного возбуждения, когда появятся новые идеалы, будут обнаружены новые решения, которые в течение какого-то времени будут служить ориентиром для человечества…»[151].
В целом можно сделать вывод о том, что к концу жизни Дюркгейм опасался аномии и связанного с ней неконтролируемого разгула страстей в социальной жизни гораздо меньше, чем в ранний период его научного творчества. В то же время оценка «коллективного возбуждения» и его социально-креативного потенциала выросла. Таким образом, в данном отношении в его взглядах наблюдается определенное сближение с позициями Гюйо.