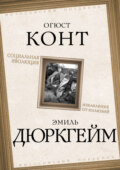Эмиль Дюркгейм
Моральное воспитание
Именно тот факт, что общество имманентно по отношению к индивидам, составляет его преимущество в сравнении с Богом как другой фундаментальной сущности, санкционирующей моральные правила и идеалы. Возражая критикам, указывавшим на то, что общество слишком несовершенно, чтобы быть источником идеала и морального авторитета, Дюркгейм утверждал, что и самого Бога можно было упрекнуть в чем-то подобном, так как созданный им мир полон всякого рода несовершенств и изъянов.
Дюркгейм всегда подчеркивал факт разнообразия и изменчивого характера моральных систем, отмечая, что существует не мораль, а морали во множественном числе, в зависимости от различий в типах обществ и институтов. Исходя из этого, он различал такие виды морали, как «гражданская мораль» (“morale civique”), связанная с такими институтами и группами, как государство, родина, демократия; «профессиональная мораль»; «семейно-домашняя мораль» (“morale domestique”); «контрактная мораль» и т. п. Помимо этого, он выделял также и «наиболее общую» сферу морали, не зависящую от связи с какой-либо групповой или иной локальной принадлежностью; она же является «наиболее возвышенной» в сравнении с другими. Существование данной сферы – характерная черта современных развитых обществ. В них «чувства, имеющие своим объектом человеческую личность, становятся очень сильными, тогда как чувства, привязывающие нас непосредственно к группе, отходят на второй план»[101].
Любопытно, что эти слова написаны примерно в то же время (1898–1900), что и «Моральное воспитание» (1898–1899), в котором «привязанность к социальным группам» трактуется как второй базовый элемент морали. Как же объяснить эту видимую противоречивость в высказываниях автора? Дело в том, что «привязанность к группам» составляет, по Дюркгейму, общий признак простейшей, элементарной морали, тогда как моральный универсализм, в его трактовке, характерен для развитых обществ. С его точки зрения, «мораль …начинается там, где начинается привязанность к группе, какой бы ни была последняя»[102]. С этого она начинается, но на этом, в дюркгеймовской интерпретации, не заканчивается! Более высокие формы морали в данной интерпретации предполагают выход за групповые рамки. Важно в данном случае и то, что для Дюркгейма, как и для многих других классиков социальной науки, человечество – это не особая внесоциальная и надсоциальная субстанция, а расширенное до предела общество или же социальная группа: он не видит между ними принципиального различия.
Сакральное религиозное и сакральное моральное
С трактовкой общества у Дюркгейма неразрывно связано его представление о сакральном. Общество в его истолковании – источник и подлинный объект сакрального. Последнее не только наследуется из недавнего и далекого прошлого, но и продолжает рождаться сегодня, и в религии, и в морали, и в других областях: в науке, праве, политике и т. д. Дюркгейм настаивал на процессуальном характере сакрального, подчеркивая, что оно представляет собой не неподвижную или завершенную систему норм, ценностей и идеалов, а сакрализацию, т. е. процесс, который продолжается и в настоящее время и продолжится в будущем. Он утверждал, в частности: «Конечно, священное вульгарно представляют себе как нечто иррациональное, мистическое, не поддающееся научному познанию. Но в действительности мы видим, как священное постоянно создается у нас на глазах. Идея прогресса, идея демократии священны для тех, кто в них верит»[103].
Главный институт, в котором, по Дюркгейму, сосредоточено сакральное начало, – это, несомненно, религия: не случайно он определяет ее именно через это понятие. Тем не менее в его трактовке сфера сакрального гораздо шире религиозного; да и сама религиозность интерпретируется им весьма широко, охватывая всю идеологическую сферу. Помимо собственно религии, сакральное, согласно Дюркгейму, основательно присутствует и в морали. Именно это присутствие обусловливает фундаментальное единство морали и религии. Оба эти института представляют собой совокупность могучих сил, оказывающих стимулирующее воздействие на самые разные сферы социальной жизни. На протяжении веков моральное сакральное было включено в религиозное, а мораль в целом выступала как составная часть религии. В современную же эпоху прогрессирующего рационализма и секуляризации происходит своего рода эмансипация морали по отношению к религии; первая все больше отделяется и отдаляется от последней: «…Бесспорно, моральная религиозность становится все более отличной от теологической религиозности»[104].
Эта «моральная религиозность» в дюркгеймовской теории означает, что мораль обладает собственной сакральностью, автономной по отношению к сакральности собственно религиозной («теологической»). Отсюда – принципиальная возможность существования светской морали. Сакральность морали обладает теми же признаками, что и религиозная сакральность, а именно – отделенностью, дистанцией, запретностью соответствующих явлений, противостоящих светскому; вместе с тем она является объектом влечения и любви со стороны индивидов[105]. Отсюда феномен, который можно обозначить как «светское сакральное», выражение, которое на первый взгляд может показаться оксюмороном, или содержащим contradictio in adjecto. Тем не менее Дюркгейм прямо указывал на существование сакральных ценностей внутри тех, которые обычно воспринимаются как светские[106].
Правда, моральное священное, хотя и родственно религиозному священному, отличается от него тем, что не освобождает мораль от критики и свободного критического исследования. Но и сегодня, сожалеет Дюркгейм, «наши современники пока не без сопротивления решаются допустить, чтобы моральная реальность, подобно всем другим реальностям, была предоставлена людям для свободного обсуждения»[107]. Еще одна особенность современного морального сознания, которая, будучи светской, содержит сакральное начало – это «культ человеческой личности». Причем сам этот культ, согласно Дюркгейму, имеет социальное происхождение, он порожден обществом.
Учитывая вышесказанное, вопрос о взаимоотношениях морали и религии в теории Дюркгейма требует прояснения, конкретизации и уточнения. Некоторые теоретики склонны категоричным образом утверждать, что он либо вообще трактовал мораль как религиозное явление, либо пришел к такой трактовке к концу жизни, в результате идейной эволюции. Так, Ганс Йоас писал, что в «Элементарных формах религиозной жизни» Дюркгейма (1912) «наука о морали …трансформирована в науку о религии…»[108], а Стивен Тернер – что, согласно Дюркгейму, «моральные идеалы являются фундаментально религиозными или родственны религиозным»[109].
Дело, однако, в том, что Дюркгейм не только не «трансформировал» науку о морали в науку о религии, но и не собирался этого делать. Об этом свидетельствует, собственно, само его намерение в конце жизни создать упомянутый выше труд, специально посвященный именно морали и трактующий ее именно как собственно моральное, а отнюдь не религиозное явление. В принципе каждая из этих дисциплин в его интерпретации должна была сохранить свою автономию. Что касается утверждения о том, что, по Дюркгейму, мораль – явление религиозное, то оно в принципе верно, хотя и требует уточнения. Но все же, скорее всего, ему было ближе противоположное утверждение, согласно которому религия – это явление моральное. Хотя Дюркгейм всегда подчеркивал единство обоих институтов, он считал, что в современных европейских обществах сакральное начало все больше сосредоточивается в светской морали (по его терминологии – «моральной религиозности», в отличие от «теологической» религиозности), а функция познания и объяснения мира все больше переходит от религии к светской науке.
В отличие от Гюйо, Дюркгейм считал, что рациональная интерпретация религии, хотя и безусловно близкая ему, не может быть сугубо иррелигиозной: это означало бы отрицание того факта, который подлежит изучению, что противоречит научному методу. В подходе к религии он в конце жизни даже склонен был отчасти вступить в противоречие с некоторыми фундаментальными правилами, которые некогда сформулировал в «Методе социологии» (1895), а именно – исследовать социальные факты как вещи, извне, по их внешне проявляемым признакам, а также отказаться от всех предпонятий, т. е. понятий, сформировавшихся вне науки. Наоборот, в 1914 г. в одном из своих выступлений он утверждал: «…Тот, кто не привносит в изучение религии нечто вроде религиозного чувства, не может говорить о ней! Он подобен слепому, который бы говорил о цветовых особенностях»[110].
Дюркгейм полагал, что поскольку конкретные системы религиозных и моральных идей изменчивы и разнообразны, невозможно предсказать, какой именно вид они обретут в будущем. При этом он считал, что сакральные системы будущего будут отличаться такими чертами, как более высокая степень рационализма; более важное значение свободного исследования, в том числе направленного на сами эти системы; представление о высокой ценности и священном характере человеческой личности. Наконец, самое главное, в будущем, с его точки зрения, социальные истоки и социальный смысл религии и морали будут осознаваться более глубоко и непосредственно: скрывающая эти истоки и смысл символическая оболочка будет более тонкой, чем в современную и, тем более, в прошедшие эпохи. Так он думал и в начале, и в середине, и в конце своей жизни и научной деятельности, что нашло отражение в его текстах 1897, 1907 и 1914 гг.[111] «Новейшие религии – это не космологии, а моральные дисциплины»[112], – говорил Дюркгейм. Религия, согласно ему, в тех или иных формах сохранится и в будущем; сохранятся ее «динамогеническое влияние»[113], «витальная и практическая функция», а наука, призванная объяснять религию, в данном отношении заменить ее не может[114]. В любом случае, по Дюркгейму, потребность в священном, создание и стремление к реализации идеалов, в каких бы формах они ни выступали, останутся и будут существовать всегда, постольку, поскольку будут существовать сами общества.
Но в теории Дюркгейма есть одна моральная идея (и одновременно моральный идеал), которая выступает как своего рода заменитель религии в современных и будущих обществах. Это справедливость. Французский социолог исходит из того, что справедливость в развитых обществах с органической солидарностью, основанных на разделении труда и договорном праве, гораздо важнее, чем в обществах с механической солидарностью, основанных на господстве коллективного сознания. «Точно так же, как древние народы, для того чтобы жить, нуждались в общей вере, мы нуждаемся в справедливости. И можно быть уверенным, что эта потребность будет становиться все настоятельней…»[115], – писал он.
Согласно Дюркгейму, справедливость в современных индустриальных обществах – это не столько реальное, состоявшееся явление, сколько насущная социальная потребность, императив, первостепенная задача и главный идеал. Сущность справедливости, с его точки зрения, заключается во взаимности и точной эквивалентности обмениваемых индивидами и группами благ и услуг. Главным условием ее достижения он считает равенство во «внешних», т. е. социальных, условиях, в которых находятся индивиды, участвующие в конкуренции и, шире, социальных взаимодействиях: «…Недостаточно, чтобы были правила, необходимо еще, чтобы они были справедливыми, а для этого необходимо, чтобы внешние условия конкуренции были равны»[116].
Хотя Дюркгейму были близки идеи реформистского социализма и солидаризма, он, вслед за Спенсером, отмечал негативное воздействие на общество чрезмерной благотворительности. В его теории можно также обнаружить и определенную форму меритократизма. На первом этапе своего научного творчества в качестве социальной силы, обеспечивающей справедливость в социальных отношениях, Дюркгейм рассматривал профессиональные группы, хотя впоследствии не развивал эту идею. В целом реализация императива справедливости у него выступает как фактор формирования и укрепления социальной сплоченности, как фактор легитимации социальных и, в частности, моральных правил, делающий их эффективными и позволяющий преодолеть аномическое состояние современных обществ. При этом следует отметить, что вообще у Дюркгейма слово «справедливый» нередко выступает как синоним «легитимного», прежде всего по отношению к правилам (нормам), нравственным и юридическим.
Мораль и другие институты
Мораль в теории Дюркгейма тесно связана и, согласно Дюркгейму, с другими социальными институтами. Присущее ей священное начало свойственно не только собственно ей и религии, но в определенной мере и науке, на что он прямо указывал[117]. Хотя сам по себе поиск научной истины он не относит собственно к сфере морали, стремление к осуществлению благотворных в социальном отношении целей, с его точки зрения, все же превращает этот поиск в моральное явление. К тому же «моральный оттенок» в психологическом отношении приобретает самоотверженность ученого, любящего свою науку. В теории наука, по Дюркгейму, обладает «моральным характером» «косвенным и производным образом»[118], но лично для него она безусловно обладала высшим моральным авторитетом и выступала как явление сакральное.
Любопытно при этом, что, несмотря на его сциентизм, горячую веру в науку и ее возможности, он приписывает науке довольно пассивную роль, часто подчеркивая, что ее главное предназначение – не трансформация реальности, а ее отражение, что она должна очень осторожно вмешиваться в социальный мир. Этот подход контрастирует с его акцентом на активистской интерпретации морали и религии как витальных движущих сил, преобразующих реальность и создающих социальные идеалы.
Сакральное значение в современных условиях приобрели, с точки зрения Дюркгейма, социальные и политические ценности, провозглашенные Французской революцией. Ценности свободы, равенства, братства, разума, «культ человеческой личности» приобрели сакрально-традиционный характер, и фундаментальная задача социологии и интеллектуалов вообще, с его точки зрения, состоит в том, чтобы их укреплять, культивировать и пропагандировать. Порожденный современным обществом культ человеческой личности в его интерпретации стал средоточием сакрального начала как такового. Правда, Дюркгейм недооценивал в целом значение политики, за что часто подвергался обоснованной критике. Политические революции, в частности, согласно ему, как правило, носят поверхностный характер. Даже будучи радикальными и насильственными, они могут совершенно не затрагивать основ социального порядка и не вызывать трансформации социальных институтов, выступая в качестве своего рода кровавых спектаклей, после которых в социально-институциональном плане может ничего не меняться. Подлинно серьезные социальные трансформации, по Дюркгейму, часто происходят незаметно для обыденного сознания и только тогда, когда они имеют глубокие моральные основания.
Что касается взаимоотношений морали и права, то Дюркгейм всегда обосновывал положение о том, что это явления однопорядковые, и различия между ними не носят принципиального характера. Как уже отмечалось[119], моральные правила, в его понимании, – это те же правовые нормы, которые носят «диффузный», некодифицированный характер, а правовые нормы, юридические законы представляют собой моральные правила, которые формализованы, кодифицированы, кристаллизуются в виде юридических норм и опираются на специфические санкции.
Наиболее сложными в интерпретации Дюркгейма выглядят взаимоотношения между моралью и, вместе с тем, социальностью, с одной стороны, и искусством, художественной культурой – с другой. По отношению к морали и социальной жизни в целом искусство в его теории играет неоднозначную, двойственную и в большой мере негативную роль. Конечно, поведение человека, который предан искусству и готов к самопожертвованию ради него, который выходит за пределы своего я, близко к моральному поведению. «В известном смысле эстетическая культура внушает воле установку, которой моральное воспитание может затем воспользоваться для достижения своих собственных целей и, следовательно, может показаться, что искусство – это мощное средство морализации»[120], – утверждает Дюркгейм.
Тем не менее он полагает, что эстетическая культура радикально отличается от моральной, что между ними существует, по его выражению, настоящий «антагонизм». Если мораль принадлежит сфере реального, то искусство, наоборот, – это сфера образного, вымышленного, ирреального. Если мораль относится к «серьезной жизни», то искусство – это сфера игры[121]. Самое главное различие состоит в том, что искусство, в отличие от морали, в общем не выполняет социальную функцию, не поддерживает социальную солидарность и социальные нормы. Конечно, и эту сферу необходимо и возможно использовать для моральных целей, но все-таки мораль и художественная деятельность, согласно Дюркгейму, принципиально различаются между собой.
Вопросы воспитания и образования всегда играли важнейшую роль и в теории Дюркгейма, и в его практической деятельности. Это касается и морали, и образовательно-воспитательных институтов как таковых. Его интерес к данной проблематике был вызван ее огромным значением для Франции Третьей республики и явился отражением «морально-воспитательного прагматизма» французской социологии этого периода, о котором упоминалось выше. Именно в этом проявлялась социально-практическая ориентация французской социологии того времени, в отличие, скажем, от американской, сосредоточенной на проблемах индустриального труда и города.
Характерны в данном отношении сами названия кафедр, которыми руководил Дюркгейм. В Бордоском университете, где он работал с 1887 по 1902 г., это была кафедра «педагогики и социальной науки». В Парижском университете он с 1902 г. работал на кафедре «науки о воспитании»; только в 1913 г. она была переименована в кафедру «науки о воспитании и социологии» и носила это название вплоть до 1932 г. Важно иметь в виду, что на этой кафедре он первоначально был заместителем руководителя, а затем (с 1906 г.) руководителем. В этой должности он сменил выдающегося французского педагога и политика, лауреата Нобелевской премии мира Фердинанда Бюиссона. Эта замена, хотя и предполагала определенные изменения, все же отнюдь не означала полной переориентации кафедры с проблематики воспитания на социологическую.
Та же особенность, а именно «морально-педагогический уклон», прослеживается также и в названиях ряда курсов и циклов лекций, которые он читал в обоих названных университетах. Среди них мы находим, в частности, такие: «Моральное воспитание» (1887–1888, 1889–1990, 1898–1899, 1899–1900 гг.), «Французская педагогика в XVIII и XIX веках», «Интеллектуальное воспитание» (1890–1891 гг.) и т. д. (в Бордоском университете); «О моральном воспитании» (1902–1903 гг.), «Преподавание морали в школе» (1903–1904, 1904–1905, 1907–1908 гг.), «Интеллектуальное воспитание в начальной школе» (1905–1906 гг.), «Моральное воспитание в школе» (1906–1907, 1911–1912 гг.), «Наука о воспитании. Формирование и развитие среднего образования во Франции» (1906–1907, 1908–1909, 1909–1910, 1910–1911 гг.) и т. д. (в Сорбонне)[122]. Правда, в перечне курсов, читавшихся Дюркгеймом, можно найти и такие, которые носили «чисто» социологический характер, например, курс «Социология. Мораль» (1908–1909, 1909–1910, 1910–1911, 1911–1912, 1914–1915 гг.)[123]. Но таких курсов было сравнительно немного.
Дюркгейм был сторонником социальных реформ, основанных на научных, прежде всего социологических рекомендациях. Несомненно, в образовательно-воспитательной системе современной ему Франции он видел один из главных каналов, во-первых, внедрения социологии, во-вторых, реформирования морали и, шире, общества. Поэтому связь социологической тематики с педагогической была для него вполне органичной и обоснованной. В то же время отчасти она была вынужденной, так как читавшиеся им курсы должны были соответствовать тем требованиям, которые предъявляла ему тогдашняя университетская система, желавшая видеть в его преподавании практический, прикладной, т. е. в данном случае воспитательно-педагогический аспект. Во многом именно через педагогику социология проникала в эту систему, в частности в Сорбонну. Об этом свидетельствует нередко цитируемое специалистами высказывание его последователя, видного французского социолога Мориса Хальбвакса о том, что «социология была допущена в Сорбонну не сразу, но была введена в нее через узкую дверцу педагогики»[124].
Очевидно, что Дюркгейм осознавал себя главным образом не специалистом в области педагогики, не моралистом, а социологом, и именно в области социологии, ее развитии и преподавании видел свое истинное профессиональное призвание. Но в сложившейся ситуации ему приходилось идти на компромисс, объединяя этико-педагогические курсы с социологическими, или же, если угодно, выдавая последние за первые. При этом, преподавая даже несоциологические, этико-педагогические курсы, он при любой возможности всячески их «социологизировал», видя в этом, с одной стороны, перспективу развития педагогики, этики и других дисциплин, с другой – способ развития, внедрения и популяризации самой социологии.
Так или иначе, на протяжении всей жизни Дюркгейм выступал не только в роли социолога, но и в роли педагога, теоретика и практика образования и воспитания, что позволило ему стать одним из классиков французской педагогики[125]. Неудивительно, что, с его точки зрения, «воспитание состоит в методической социализации молодого поколения»[126]. В каждом обществе система воспитания выступает двояко: оно носит одновременно единый и множественный характер. В определенном смысле оно множественно, так как «существует столько видов воспитания, сколько в этом обществе существует сред»[127]. Например, в кастовом обществе оно дифференцировано в зависимости от кастовой принадлежности, в классовой – в зависимости от классовой, воспитание буржуа отличается от воспитания рабочего, а горожанина – от сельского жителя. Тем не менее система воспитания каждого общества обладает определенным единством: «Не бывает народа, не обладающего определенным множеством идей, чувств и практик, которые воспитание должно привить всем детям, независимо от того, к какой социальной категории они принадлежат»[128].
Внутри собственно моральной социализации Дюркгейм различает понятия «моральное воспитание» (“l’éducation morale”) и «моральное образование» (“l’enseignement moral”)[129]. Под первым он понимает формирование разного рода чувств и представлений, направленных на совершение практических моральных действий; под последним – стремление объяснять, делать понятным существующий порядок вещей, обращенное не столько непосредственно к воле, сколько к мышлению. В современной ему Франции он констатирует первую попытку светским образом обучать школьников морали, образовывать их в этой области. Ранее подобное образование отсутствовало. Школьников просто подвергали натаскиванию, например, заставляя заучивать катехизис. В настоящее время, по Дюркгейму, необходимо, чтобы по окончании школы ученик понимал, в чем состоят рациональные основания тех моральных обязанностей, которые он должен соблюдать. Иначе молодой человек будет находиться в плену искаженных, вульгарных, упрощенных представлений о той сложной реальности, которую представляет собой мораль: «Он будет подвергаться опасности видеть в ней, как это часто происходит, всего лишь фантасмагорию, продукт суеверий; он будет верить, что мораль изобрели правительства, чтобы лучше держать народы в узде. Во всяком случае, мы без сопротивления отдадим его воздействиям, внушаемым вульгарными полемиками и газетными аргументациями. Нам нужно поэтому вооружить его ум серьезными основаниями, противостоящими неизбежным сомнениям и возражениям»[130].
Что касается связи морали с экономикой, то, согласно Дюркгейму, подобная связь в истории существовала всегда. Но именно в современную эпоху она либо отсутствует, либо ослаблена. Здесь господствует аномия. Между тем потребность в моральной регуляции экономической деятельности, в солидарности, в утверждении справедливости в данной сфере чрезвычайно велика. Возрождение и внедрение морального начала в сфере экономических институтов Дюркгейм считал задачей первостепенной важности.