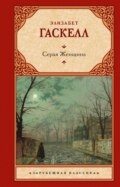Элизабет Гаскелл
Рождественные бури и штиль
Восточный ветер действительно был резкий. Мэри бежала, стараясь укрыться от него. Снеговые хлопья были тверды и, как льдом резали лицо. Ребенок плакал во всю дорогу, хотя она и закутала его в платок. Усталый и голодный муж с особенным аппетитом напустился на картофель; физические потребности в нем до такой степени были сильнее моральных, что он мрачно посмотрел на холодную баранину. Мэри воротилась домой без всякого аппетита. После некоторых усилий накормить ребенка, настойчиво отклонявшего от себя молоко и булку, она, по обыкновению, положила его на постельку, окруженную игрушками, и сама занялась приготовлением фарша на рождественский пуддинг. Рано вечером к ней принесли небольшой сверток, упакованный сначала в простую серую бумагу, потом в белую, гладкую, как атлас и, наконец, в душистую салфетку. К этому свертку приложена была записка от матери, извещавшей свою дочь, что она не забыла Рождества, и узнав, что фермер Буртон резал молодую свинью, она не замедлила воспользоваться этим случаем: Приобрела окорок и сделала из него несколько сосисок с теми специями, которые так нравились Мэри, когда она жила еще доили.
– Добрая, добрая матушка! сказала Мэри про себя. – Найдется ли в мире существо, которое с такой любовью вспоминает близких своему сердцу. Какие дивные сосиски приготовила она. Вещи домашнего приготовления имеют особенный вкус, которого не купить ни за какие деньги. Да где! таких сосисок, как матушкины, не найдешь в целом мире! Я уверена, что если б мистрисс Дженкинс попробовала сосиски моей матушки, она бы не бросилась на городские изделия, которые Фанни только что притащила.
В этом роде она продолжала размышлять о родительском крове, пока воспоминания о милом коттедже не вызвали ей улыбки на уста и ямочки на щеках; – милом коттедже, который зеленел даже теперь, среди глубокой зимы, с его месячными розами, с его остролистником и огромным португальским лавровым деревом, которым так гордилась её мать. А тропинка через огород к фермеру Буртону… о! как свежо сохранялась она в её памяти! Мерами собирала она у него незрелые яблоки и кормила свиней, пока Буртон не начинал бранить ее за то, что дает им так много дрянной зелени.
Размышления Мэри и её воспоминания внезапно были прерваны. Её крошка (я называю его крошкой, потому что так называли его отец и мать, и потому еще, что он действительно был крошка, хотя ему и минуло восемнадцать месяцев) заснул, между игрушками, тревожным, беспокойным сном; но Мэри и за это была благодарна, потому что утром он спал весьма мало и потому еще, что ей предстояло много дела. Но в это время в гортани ребенка поднялось такое странное хрипенье, как будто по каменному полу в кухне тащили тяжелый и скрипучий стул. Открытые глазки ничего не выражали, кроме страдания.
– Милашка мой, Томми! сказала Мэри, с ужасом взглянув на него, и потом взяв на руки. – Малютка мой! что ты так хрипишь, крошечка мой!.. Бай, бай, баю, бай!.. Перестань же, ангел мой! Что с тобой сделалось?
Но хрипенье становилось все сильнее и сильнее.
– Фанни! Фанни! вскричала Мэри в смертном испуге, потому что ребенок почти почернел от стеснения в горле.
Мэри не к кому было обратиться за помощью и состраданием, кроме дочери домохозяйки, маленькой девочки лет тринадцати, прислуживавшей в доме во время отсутствия матери. Фанни считалась служанкой преимущественно верхних жильцов, которые платили особо за хозяйскую кухню, потому что Дженкинс терпеть не мог запаха стряпни! Но, к счастью, теперь Фанни сидела за своим рукодельем, штопала чулки и, услышав крик мистрисс Годгсон, выражавший сильный испуг, опрометью бросилась к ней, и с разу поняла, в чем дело.
– У него круп! Ах, мистрисс Годгсов! он умрет, непременно умрет! С моим маленьким братом было то же самое, и он умер в несколько часов. Доктор сказал, что уж поздно…. ничего нельзя сделать. Нужно было бы, говорил он, с самого начала сделать теплую ванну: это бы еще могло спасти его; но… ах! Боже мой! он хуже на вид, гораздо хуже моего брата!
Фанни в словах своих бессознательно выражала чувство детской любви, которое увеличивало еще более её опасения за жизнь ребенка; впрочем, близость опасности была очевидна.
– О, мой милочка, мой крошечка! Ангельчик мой! зачем ты так захворал, бедняжка мой! Нет…. я не могу смотреть её тебя… И огонь-то у меня погас!.. Все думала о матери, чистила коринку, а про огонь-то и забыла. Ах, Фанни! скажи, ведь у вас на кухне верно есть огонь?
– Мама велела затворить заслонку, и когда мистрисс Дженкинс кончит стряпать, то бросить туда перегорелый уголь. Я так и сделала; теперь он, я думаю, совсем погас… Но… ах, мистрисс Годгсон! позвольте, я сбегаю за доктором… я не могу слышать его крика; точь-в-точь мой маленький брат.