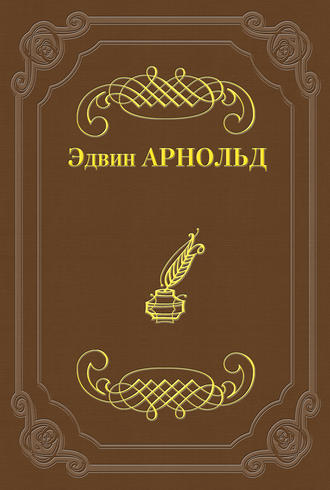
Эдвин Арнольд
Свет Азии
Книга четвертая
И когда исполнились дни, настало время отшествия господа Будды, какъ то и долженствовало быть, и горе посетило золотой дворецъ, царя и всю страну, но близилось время искупления для всякой плоти, время закона, дающаго свободу всякому, кто его принимаетъ.
Тихо спустилась на равнину нндийская ночь въ полнолуние месяца Чайтра-Шэдъ, когда краснеютъ плоды манго и цветы асоки наполняють воздухъ благоухашемъ, когда празднуется день рождения Рамы и все ликуетъ – села и города. Благоухая цветами, сверкая звездами, принося прохладный ветерокъ со снежныхъ вершинъ Гималайевъ, тихо спустилась эта ночь на Витрамванъ; луна взошла надъ восточными вершинами горъ, поднялась по звездному небосклону, осветила струи Рохини. холмы, долины – всю спящую страну – и озарила крыши увеселительнаго дворца, где ничто не шевелилось, – все было погружено въ сонъ.
У однихъ только наружныхъ воротъ бодрствовала стража; она перекликалась и на пароль «Мудра» отвечала лозунгомъ «Ангана» и шла дозоромъ, ударяя въ барабанъ среди всеобщей тишины, прерываемой лишь ревомъ жадныхъ шакаловъ да немолчнымъ стрекотаниемъ сверчковъ.
Внутри дворца лунный светъ, проникая чрезъ сквозные прорезы каменныхъ баллюстрадъ и освещая перламутровыя стены и мраморные полы, падалъ на целый рой индийскихъ красавицъ, казавшихся богинями, отдыхающими въ райскихъ чертогахъ.
Тутъ были самыя блестящия и самыя преданныя изъ придворныхъ царевича; каждая изъ этихъ спящихъ красавицъ представлялась такой очаровательной, что казалось, будто именно про нее можно было сказать: «вотъ превосходнейшая изъ жемчужинъ!» если-бы только взоръ не переносился сейчасъ-же на ея соседку.
Казалось, что каждая была прекраснее всехъ остальныхъ, и очарованный этимъ сонмомъ красавицъ взглядъ перебегалъ отъ одной къ другой, подобно тому, какъ, при виде множества драгоценностей, онъ перебегаетъ отъ одной къ другой, пленяясь каждой, пока не увидитъ другой тутъ-же рядомъ. Оне лежали въ небрежно-грациозныхъ позахъ, полу-обнажнвъ свои смуглыя, нежныя тела. Блестящия ихъ косы или придерживались золотомъ и цветами, или падали черными волнами на стройныя шеи и спины; оне, не знающия утомления, спали, убаюканныя веселыми играми, какъ пестрыя птички, которыя целый день поютъ и любятъ, потом завернутъ голову подъ крылышко и дремлютъ, пока утро призоветъ ихъ къ новымъ песнямъ, къ новой любви. Тяжелыя серебряныя лампады, наполненныя благовоннымъ масломъ, спускались съ потолка на серебряныхъ цепяхъ и, смешивая свой мягкий светъ со светомъ луны, позволяли ясно разглядеть все совершенство формъ спящихъ красавицъ: тихо вздымавшуюся грудь, слегка подкрашенныя, сложенныя или опущенныя руки, красивыя смуглыя лица, густыя дуги бровей, полураскрытыя губы, зубы, подобные жемчужинамъ, подобраннымъ для ожерелья, атласистыя веки глазъ, длинныя ресницы, падавшия тенью на нежныя щеки, пухлые пальчики, крошечныя ножки, украшенныя запястьями и колокольчиками, издававшими тихий звукъ при всяком, движении спящей и прерывавшими ея веселую грезу о новой пляске, заслужившей похвалу царевича, или о какомъ-нибудь волшебномъ кольце, или какихъ-нибудь иныхъ чарахъ любви.
Одна изъ красавицъ спала, подложивъ свою многострунную вайну подъ щеку, держа пальчики на струнахъ, какъ будто убаюканная последними нотами своей легкой песенки; другая обнимала степную антилопу, положившую свою красивую головку къ ней на грудь; антилопа ела, когда оне обе вместе заснули, – девушка еще держала въ раскрытой руке полу-ощипаниую розу, и розовый лепестокъ виднелся на губахъ животнаго.
Две подруги задремали вместе; сплетая венки могра, и гирлянды цветовъ связывали ихъ одну съ другой, сердце къ сердцу, станъ къ стану; одна склонила голову на ложе, усеянное цветами, другая – на плечо подруги.
Одна передъ сномъ низала ожерелье изъ агатовъ, ониксовъ, сердоликовъ, коралловъ, сардониксовъ – теперь оно блестело пестрымъ браслетомъ вокругъ руки, въ которой она держала приготовленное для него запястье изъ зеленой бирюзы съ изображениями боговъ и надписями.
Убаюканныя мернымъ шумомъ ручья, они лежали па мягкихъ коврахъ, точно девственныя розы, свернувшия лепестки въ ожидании зари, когда оне распустятся и украсятъ собою светъ новаго дня.
Такова была смежная со спальней горница царевича. Около самой занавеси, разделявшей эти две комнаты, лежали две прелестнейшия красавицы – Гунга и Гаутами, две главныя жрицы въ этомъ мирномъ храме любви.
Голубая съ пурпурными полосами занавесь, затканная золотомъ, прикрывала двери краснаго дерева, черезъ которыя по тремъ ступенькамъ можно было подняться въ роскошнейший альковъ, где подъ балдахиномъ изъ серебристой ткани стояло брачное ложе, мягкое, какъ груда нежныхъ цветовъ.
Стены здесь были искусно выложены перламутромъ, добытнмъ въ водахъ, омывающихъ Ланку[7]; алебастровый потолокъ былъ покрытъ цветами лотоса и птицами изъ лаписъ-лазули, яшмы, нефрита и гиацинта. Вокругъ потолка, по стенамъ и карнизамъ проделаны были решетчатыя окна, черезъ которыя вместе съ луннымъ светомъ и прохладнымъ ветеркомъ вливались ароматы цветовъ и жасминныхъ ветвей; но ничто извне не могло сравниться красой и нежностью съ обитателями этого убежища, прекраснымъ сакийскимъ царевичемъ и стройною, блистающею красотой, Ясодхарою.
Полупривставъ въ своемъ мягкомъ гнездышке, спустивъ съ плеча покровъ и закрывъ лицо руками, прелестная царевна тяжело вздыхала и плакала горькими слезами. Три раза коснулась она губами руки Сиддартхи и при третьемъ поцелуе простонала:
– Проснись, государь! Успокой меня своимъ словомъ!
– Что съ тобою, жизнь моя? – спросилъ онъ. Она ответила лишь новымъ стономъ, пока смогла наконецъ, заговорить.
– Увы, мой повелитель, – сказала она, – я заснула вполне счастливою, такъ какъ сегодня вечеромъ я дважды почувствовала подъ сердцемъ биение жизни, радости, любви, – приятную музыку, убаюкавшую меня, но – о горе! во сне мне представились три страшныя видения, отъ которыхъ до сихъ поръ бьется мое сердце!
– Мне пригрезился белый быкъ съ широко-раскрытыми рогами – краса пастбищъ, – шедший по улицамъ; на лбу у него былъ драгоценный камень, сиявший какъ яркая звезда, или какъ тотъ камень кантха, посредствомъ котораго Великий Змей производитъ дневной светъ въ подземномъ царстве. Тихо шелъ онъ по улицамъ къ воротамъ и никто не могъ остановить его, хотя изъ храма Индры и послышался голосъ: «если вы не остановите его, слава этого города погибнетъ!» – Но никто не могъ удержать его. Тогда я громко зарыдала и обвила руками его шею, и боролась съ нимъ, и приказывала людямъ загородить ворота; но быкъ-великанъ заревелъ, освободился, слегка тряхнулъ головой, отъ моихъ рукъ, бросился къ загородке, откинулъ сторожей и вышелъ изъ города.
– Потомъ мне приснилось вотъ что: четыре неземныя существа съ блестящими глазами, прекрасные, какъ, владыки земли, обитающие на горе Сумеру[8], слетели съ неба, окруженныя толпой безчисленныхъ небесныхъ духовъ, и тихо спустились въ нашъ городъ, на воротахъ котораго развивалось золотое знамя Индры. И вдругъ это знамя упало и вместо него поднялось другое – серебряное, горевшее рубинами, сиявшее новыми словами, мудрыми изречениями, преисполнившими радостью все живыя существа. Съ востока поднялся легкий восточный ветеръ, развернувший складки драгоценной ткани и показавший письмена всемъ живымъ существамъ, – и вотъ посыпался целый дождь чудныхъ цветовъ, произрастающихъ въ неведомой мне стране, такихъ яркихъ, какие никогда не расцветаютъ на нашихъ лугахъ!
Тогда сказалъ царевичъ:
– О, мой цветикъ! То былъ приятный сонъ!
– Да, государь! – отвечала царевна, – но у сна этого былъ страшный конецъ; послышался голосъ, который кричалъ: «Время близко! Время близко!»
Потомъ я увидела третий сонъ, я видела, что ищу тебя, мой повелитель, а вместо тебя на постели лежали несмятая подушка и брошенное платье – вотъ все, что осталось отъ тебя! Отъ тебя, моей жизни, моего света, моего царя, моей вселенной! Во сне я встала и видела, какъ твой жемчужный кушакъ, которымъ я опоясалась, превратился въ змею и ужалилъ меня. Мои запястья свалились, мои золотыя застежки распались, жасмины въ моихъ волосахъ стали прахомъ, наше брачное ложе упало, кто-то сдернулъ пурпурную занавесь, я услышала вдали ревъ белаго быка и шелестъ складокъ великолепнаго знамени, и снова тотъ-же крикъ: «время близко!» И съ этимъ крикомъ, отъ котораго до сихъ поръ содрогается душа моя, я проснулась! О, царевичъ! Что могутъ означать такие сны, кроме одного – я умру, или, что еще хуже смерти, ты покинешь меня, ты будешь взятъ отъ меня!
Взоромъ, нежнымъ, какъ последняя улыбка заходящаго солнца, гляделъ Сиддартха на свою плачущую жену.
– Успокойся, милая, сказалъ онъ, – если неизменная любовь даетъ покой! Хотя сны твои могутъ быть тенями грядущихъ событий, хотя боги содрогаются на своихъ престолахъ, хотя, быть можетъ, миръ скоро узнаетъ путь къ спасению, но, чтобы ни случилось съ тобою или со мною, будь уверена – я любилъ и люблю тебя, Ясодхара! Ты знаешь, какъ я мучился все эти месяцы, отыскивая пути искупления земнороднымъ, несчастие которыхъ я виделъ. И когда настанетъ время, тогда, что должно быть, то и будетъ! И если душа моя болитъ по душамъ мне неизвестнымъ, если я страдаю страданиемъ мне чуждыхъ, подумай, какъ часто я долженъ останавливать крылатыя мысли на жизни техъ, кто разделяетъ и услаждаетъ мою жизнь, на жизни моихъ близкихъ и, въ особенности, на жизни той, которая мне всехъ дороже, всехъ любимее, всехъ ближе.
О, мать моего ребенка! Ты, которая соединилась со мною плотью для порождения этой светлой надежды, когда я томился такою же жалостью къ человечеству, какую чувствуетъ голубь къ брату, покинутому въ гнезде, и когда въ этомъ томлении духъ мой блуждалъ по дальнимъ морямъ и землямъ, всегда возвращаясь къ тебе на крыльяхъ страсти, на крыльяхъ радости, къ тебе, самая кроткая изъ женщинъ, самая добрая изъ добрыхъ, самая нежная изъ нежныхъ, самая, дорогая для меня! И потому, что бы ни случилось, вспоминай, какъ въ твоемъ сне ревелъ царственный быкъ, какъ развевалось драгоценное знамя, и будь уверена, что я тебя всегда любилъ и всегда буду любить и что то, что я ищу, ищу я, главнымъ образомъ, для тебя! А ты не тоскуй; и если горе посетить тебя, утешайся мыслью, что путемъ нашего горя миръ, можегъ быть, сойдетъ на землю! Возьми съ этимъ поцелуемъ всю благодарность, все благословение, какое только можетъ дать самая верная любовь! Это, конечно, немного, такъ какъ сила самой сильной любви – слаба, но поцелуй меня и пусть эти слова перейдутъ прямо изъ моего сердца въ твое, чтобы ты знала скрытое отъ другихъ, что я много любилъ тебя, потому что много возлюбилъ я все живущее. А теперь, царевна, спи, я же встану и буду бодрствовать!
Она, вся въ слезахъ, погрузилась въ сонъ и во сне вздыхала, какъ будто прежнее видение снова представлялось ей: «время близко, время близко!»
Сиддартха оглянулся и увиделъ, что луна сияла близъ созвездия Рака, а сребристыя звезды стояли въ томъ самомъ порядке, который былъ давно предсказанъ; оне, какъ будто, говорили:
– «Настала та ночь, когда тебе предстоитъ избрать путь величия или путь добра; выбирай или власть царя царей, или одиночество и странничество, безъ пристанища, безъ короны, ради спасения мира!»
Вместе съ шепотомъ темной ночи слуха его снова, коснулась призывная песнь, какъ будто боги говорили въ шелесте ветра; и верно то, что боги были вблизи и следили за кажднмъ шагомъ господа, взиравшаго на яркия звезды.
– Я удаляюсь, сказалъ онъ, – мой часъ насталъ! Твои нежныя уста, мое спящее сокровище, призываютъ меня къ спасению земли и вместе съ темъ къ разлуке съ тобою; на безмолвномъ небе я читаю начертанное огненными письменами. Тутъ мое назначение, сюда вела меня вся жизнь моя! Я не хочу царскаго венца, который мне предназначается; я отказываюсь отъ техъ завоеваний, которыя могли бы совершаться при блеске моего обнаженнаго меча; окровавлепныя колеса моей колесницы не покатятся отъ победы къ победе, пока на земле кровью не обозначится мое имя. Я предпочитаю следовать незапятнанной стопой по пути терпения; я желаю избрать прахъ земной – моимъ ложемъ, самыя уединенныя пустыни – моимъ жилищемъ, самыя низменныя существа – моими спутниками; я хочу носить одежду бедняковъ, питаться подаяниемъ, укрываться въ темныхъ пещерахъ или въ чаще лесовъ. Я долженъ поступать такъ, потому-что жалобный стонъ жизни, всехъ страданий, всей живой плоти достигъ моего слуха и вся душа моя наполнилась состраданиемъ къ страде этого мира; я спасу его, если только спасение возможно, спасу высочайшимъ самоотречениемъ, сильнейшей борьбой.
– Кто изъ великихъ или малыхъ боговъ обладаетъ могуществомъ или милосердиемъ? Кто виделъ ихъ – кто? Какую помощь оказали они когда-либо своимъ поклонникамъ? Къ чему годятся людямъ молитвы, взносъ десятины жатвы, заклинания, жертвоприношения, великолепные храмы, дорого стоющие жрецы, взывания къ Вишну, Шиве, Сурье, когда они не могутъ спасти никого – ниже самаго достойнейшаго – отъ страдания, внушающаго людямъ льстивые, боязливые возгласы, возносящиеся ежедневно къ небу, подобно скоро-исчезающему дыму! Избавило ли все это хоть одного изъ моихъ братьевъ отъ страданий, отъ жала любви и разлуки, отъ медленнаго, печальнаго одряхления, отъ страшной мрачной смерти и отъ того, что ждетъ насъ после смерти – новаго поворота вечно-вертящагося колеса, новаго возрождения, а вместе съ нимъ и новыхъ страданий, а тамъ опять – рядъ новыхъ поколений полныхъ новыхъ желаний, а затемъ все те же самообольщения. Получила ли хоть одна изъ дорогихъ моему сердцу награду за постъ, за гимны? Удалось ли ей родить съ меньшими муками, благодаря печеньямъ и листьямъ тульзы, принесеинымъ ею на жертвенникъ? Никогда! Возможно допустить, что есть боги добрые и злые, но все они равно недеятельны: они и сострадательны и въ то же время безжалостны; они – подобно людямъ – прикованы къ колесу переменъ и – подобно имъ – прошли рядъ возрождений и не избавятся отъ нихъ и впредь.
– Писание наше, можно думать, справедливо учитъ, что, начавшись когда-то, почему-то, где-то, жизнъ постоянно свершаетъ свой круговоротъ, возвышаясь отъ атома, насекомаго, червя, пресмыкающагося, рыбы, птицы, зверя, человека, демона, дева, бога, и кончая снова землей, атомомъ; мы сродни всему, что существует; если бы кто-нибудь могъ спасти человека отъ преследующаго его проклятия, весь обширный миръ почувствовалъ бы вместе съ нимъ облегчение, такъ-какъ уничтожилось бы страшное незнание, бросающее вокругъ себя тень леденящаго ужаса, переполняющее нескончаемую цепь вековъ делами жестокости.
– О, если бы кто-нибудь могъ принести спасение! Спасение, конечно, возможно! Спасение должно существовать! Люди гибли отъ зимней стужи, пока нашелся такой человекъ, которому удалось добыть огонь изъ кремня, холодно таившаго въ себе красную искру – сокровенный даръ всесогревающаго солнца! Они пожирали мясо подобно волкамъ, пока не явился такой человекъ, который посеялъ зерно, произрастившее злакъ, поддерживающий человеческую жизнь. Они мычали и бормотали, пока какой-то одинъ, превзошедший всехъ, не сталъ произносить члено-раздельныхъ звуковъ, тогда какъ терпеливые пальцы другого стали изображать произносимые звуки. Есть ли у моихъ братьевъ хоть какое-нибудь благо, не купленное ценой изысканий, борьбы и самоотверженных жертвъ? И если человекъ знатный, счастливый, богатый, одаренный силою и здоровьемъ, отъ рождения предназначенный – если того захочетъ – царствовать, стать царемъ царей; если человекъ, не поддающийся утомлению, причиняемому длиннымъ жизненнымъ путемъ, и радостно идущий навстречу утру жизни, не пресыщенный очаровательнымъ пиромъ любви, а все еще алчущий ея; если человекъ не изживший, не одряхлевший, не мрачно-благоразумный, а радостно встречающий все прекрасное и славное, что примешивается къ земному злу; если человекъ, передъ которымъ открыты все блага мира, человекъ, подобный мне, не испытывающий ни болезни, ни лишений, никакихъ лишнихъ печалей, кроме печали быть человекомъ, если такой человекъ, который можетъ пожертвовать столь многимъ, пожертвуетъ всемъ, отъ всего откажется ради любви къ людямъ и посвятитъ себя поискамъ истины, открытию тайны спасения, где бы она ни скрывалась, въ аду или на небе, или вблизи насъ, никемъ незамеченная, о, такой человекъ где-нибудь, когда-нибудь постигнетъ истину, раскроетъ такъ долго скрывающуюся тайну, найдетъ новый путь, возьметъ то, ради чего отдалъ целый миръ, и смерть увидитъ въ немъ своего победителя!
– Я это сделаю, я, который могу пожертвовать моимъ царствомъ, такъ-какъ люблю его, такъ-какъ мое сердце бьется со всеми страдающими сердцами, ведомыми мне и неведомыми, со всеми, которые обратились или обратятся ко мне, со всеми тысячами миллионовъ спасенныхъ моею жертвою.
– Звезды-вдохновительницы! Я иду! О, погруженная въ скорбь земля, ради тебя и детей твоихъ я отрекаюсь отъ моей молодости, моего царскаго венца, моихъ радостей, моихъ золотыхъ дней, моихъ ночей, всей окружающей меня роскоши и отъ твоихъ объятий, прелестная царевна, – отречение отъ нихъ тяжелее, чемъ все прочее! Но, спасая землю, я спасу и тебя, и того, кого ты носишь подъ сердцемъ – скрытый плодъ нашей любви, ожидать возможности благословить который значило бы потерять мужество, и остаться! Жена! Дитя! Отецъ! Народъ! Вы должны разделить со мною часть горечи этого часа на тотъ конецъ, чтобы взошелъ светъ и вся плоть узнала законъ. Я решился, я ухожу и не вернусь иазадъ, пока не найду того, что ищу, если только не окажется недостатка въ неутомимыхъ поискахъ и борьбе! Онъ коснулся лбомъ ея ногъ и остановилъ прощальный взоръ любящихъ глазъ на ея спящемъ лице, еще мокромъ отъ слезъ; благоговейно три раза обошелъ онъ вокругъ ложа, какъ вокругъ какой-нибудь святыни, и, скрестивъ руки на сильно бившемся сердце, проговорилъ:
– Никогда не возвращусь я более сюда!
И три раза пытался онъ выйти, но три раза возвращался назадъ – такъ пленительна была ея красота, такъ велика его любовь!
Затемъ онъ закрылъ лице одеждой, отвернулся и приподнялъ занавесь. Тамъ тихо, крепко спалъ, подобно водянымъ лилиямъ, прелестный цветникъ его молодыхъ красавицъ; около двери два только-что расцветшие лотоса – Гунга и Гаутами, дальше, также погруженныя въ сонъ, остальныя сестры ихъ.
– Приятно мне глядеть на васъ, прелестныя подруги, – сказалъ онъ, – и грустно васъ покинуть, но, если я не покину васъ, что ожидаетъ всехъ насъ!? Безрадостная старость, безполезная смерть! Какъ вы лежите теперь спящими, такъ вы будете лежать мертвыми! А когда розу постигаетъ смерть, куда девается ея благоуханье, ея краса? Когда лампада гаснетъ, куда улетаетъ пламя? Ночь! Сомкни крепко ихъ опущенный вежди, замкни ихъ уста, чтобы ни слезы, ни слова преданности не остановили меня! Чемъ счастливее делали они мою жизнь, темъ более горько, что и оне, и я, и все мы живемъ, подобно деревьямъ: переживаемъ сперва весну, потомъ дожди, морозы, зимнюю стужу, а тамъ листопадъ, и кто знаетъ? – новую весну или, можетъ быть, ударъ топора подъ самый корень. Я этого не хочу, я, который велъ здесь жизнь божества, – я этого не хочу, хотя все дни мои проходили въ божественныхъ радостяхъ въ то самое время, когда другие люди стонали во мраке. И потому, прощайте, друзья! Благое дело – отдать жизнь свою, я и отдаю ее, отдаю и иду искать спасения и неведомаго света!
Затемъ, тихо минуя спящихь, Сиддартха вышелъ подъ открытое небо: глаза ночи – бдящия звезды, любовно смотрели на него; а дыханье – легкокрылый ветеръ, цаловалъ развивающийся край его одежды; садовые цветы, закрывшиеся после заката солнца, открывали свои бархатистыя Сердца и посылали ему благоухания изъ розовыхъ и пунцовыхъ курильницъ; по всей земле отъ Гималайевъ до Индийскаго моря пробежала дрожь, какъ будто душа земли затрепетала отъ неведомой надежды.
Священныя книги, разсказывающия намъ историю господа, говорятъ, что хвалебная песнь прозвучала въ воздухе отъ одного сонма светозарныхъ до другого, и они собрались на западъ и на востокъ, озаряя светомъ ночь, слетелись на северъ и югъ, исполняя землю радостью.
Четыре грозные мужа земли сошлись къ воротамъ дворца съ своими лучезарными легионами невидимыхъ духовъ въ сапфировыхъ, золотыхъ, серебряныхъ и жемчужныхъ одеждахъ и смотрели, скрестивъ руки, на индийскаго царевича, стоявшаго съ поднятыми къ звездамъ и полными слезъ глазами, съ сомкнутыми устами, запечатленными выражениемъ непоколебимой любви.
Затемъ онъ прошелъ далее среди мрака и воскликнулъ:
– Чанна, вставай! Выводи Кантаку!
– Что угодно тебе, государь? – спросилъ возничий, медленно приподнимаясь съ своего места около воротъ.
– Неужели ты желаешь ехать ночью, когда все дороги покрыты тьмой?!
– Говори тихо, – сказалъ Сиддартха, – и приведи моего коня! Насталъ часъ, когда я долженъ покинуть эту золотую темницу, – долженъ идти отыскивать истину; я буду искать ее на благо всемъ людямъ и не успокоюсь, пока не найду!
– Увы! славный царевичъ, – отвечалъ возничий, – неужели же неправду говорили мудрые и святые мужи, читавшие по звездамъ и приказавшие намъ ждать того времени, когда великий сынъ царя Суддходаны приметъ власть надъ многими царствами и станетъ царемъ царей? Неужели ты удалишься отсюда и выпустишь изъ своихъ рукъ все это великолепие и роскошь и вместо него возьмешь чашу нищаго? Неужели ты пойдешь одинокимъ странникомъ и покинешь свое райское жилище?
Царевичъ отвечалъ:
– Не ради венца царскаго пришелъ я на землю; царство, котораго я добиваюсь, выше всехъ другихъ царствъ! Все блага мира преходящи, все изменчивы, все приводятъ къ смерти!.. Выводи мне Кантаку!
– Высокочтимый, – говорилъ еще возничий, – подумай о горе владыки нашего – твоего отца! Подумай о горе техъ, чье счастье – все въ тебе! Какъ можешь ты спасти ихъ, когда прежде всего ты погубишь ихъ?!
Сиддартха отвечалъ:
– Другъ, та любовь ложна, которая держится за любимое существо ради утехъ любви; я люблю ихъ больше, чемъ свое счастье, даже больше, чемъ ихъ счастье, и потому я ухожу, чтобы спасти ихъ и спасти всякую плоть, если высочайшая любовь не безсильна! Иди, приведи Кантаку!
Тогда сказалъ Чанна:
– Государь, я повинуюсь!
И грустно прошелъ онъ въ конюшню, взялъ съ вешалки серебряныя удила и цепь повода, узду и подпругу, крепко привязалъ ремни, застегнулъ пряжки и вывелъ Кантаку. Онъ привязалъ его къ кольцу, вычистилъ и вычесалъ его такъ, что белая шерсть блестела, какъ шелковая; потомъ онъ положилъ на него сложенный вчетверо войлокъ и сверху него прикрепилъ подседельникъ и красивое седло; крепко подтянулъ украшенную драгоценными камнями подпругу, пристегнулъ шлею и недоуздокъ и привесилъ золотыя стремена; затемъ поверхъ всего онъ набросилъ золотую сеть съ шелковой бахромою, отделанною жемчугомъ, и вывелъ красивую лошадь къ воротамъ дворца, где стоялъ царевичъ.
Увидя своего господина, конь радостно заржалъ и замоталъ головою, раздувая свои красныя ноздри.
Въ писании сказано: «наверное, все услышали бы ржанье Кантаки и громкий топотъ его сталъныхъ копытъ, если бы боги не прикрыли своими крылами уши спящихъ и не превратили ихъ на это время въ глухихъ».
Сиддартха ласково нагнулъ гордую голову коня, погладилъ его по блестящей шее и сказалъ:
– Стой смирно, белый Кантака! Стой смирно и будь готовь къ самому далекому путешествию, какое когда-либо делалъ всадникъ. Въ эту ночь я выезжаю на поиски истины и самъ не знаю, куда приведутъ меня эти поиски: знаю только одно, что они не окончатся, пока я не достигну цели. И потому въ эту ночь, мой добрый конь, будь смелъ и ретивъ! Не останавливайся ни передъ чемъ, хотя бы тысяча мечей преграждала тебе дорогу! Пусть ни рвы, ни стены не задерживаютъ насъ! Смотри, когда я коснусь твоего бедра и закричу: «впередъ, Кантака!» лети быстрее урагана! Будь, какъ огонь, какъ воздухъ, мой конь! Сослужи службу твоему господину; раздели съ нимъ величие подвига, долженствующаго спасти миръ; я еду не ради однихъ только людей, но и ради всехъ безсловесныхъ, испытывающихъ съ нами одни и те же страдания и не имеющихъ надежды, но нуждающихся въ ней. Неси же меня бодро, доблестно!
Онъ легко вскочилъ на седло, коснулся густой гривы, и Кантака пустился въ путь, высекая подковами искры изъ камней и побрякивая удилами; никто не слышалъ однако же этихъ звуковъ, такъ какъ боги-хранители, собравшись на дороге, густо устилали ее красными цветами мохры, а невидимыя руки прикрывали бряцающия удила и цепи. Въ писании сказано, что, когда они подъехали къ мостовой около внутреннихъ воротъ, воздушные якши подложили волшебныя одежды подъ ноги коня, такъ что онъ ступалъ тихо, беззвучно.
Когда же они приблизились къ воротамъ съ тройными затворами, которые съ трудомъ отпирали и открывали пятьсотъ человекъ, – о чудо! – двери открылись безшумно, хотя обыкновенно днемъ громовой скрипъ ихъ громадныхъ петель и тяжеловесныхъ затворовъ слышался за два косса вокругъ. Средния и наружныя ворота точно такъ же безшумно открыли свои огромные затворы при приближении Сиддартхи и его коня; подъ ихъ сенью лежала неподвижно, какъ убитая, вся избранная охрана; копья и мечи выпали изъ рукъ воиновъ, щиты отстегнулись у всехъ – у начальниковъ и у подчиненных; случилось такъ потому, что передъ самымъ отъездомъ царевича подулъ ветеръ более снотворный, чемъ тотъ, который обыкновенно пролетаетъ надъ соннымъ маковымъ полемъ, и этотъ ветеръ усыпилъ все чувства стражи. Такимъ образомъ царевичъ свободно выехалъ изъ дворца.
Когда утренняя звезда стояла на полкопья отъ восточнаго края неба и дыхание утра пролетало надъ землей, покрывая рябью воды Анома, пограничной реки, тогда натянулъ онъ повода и сошелъ на землю, поцеловалъ белаго Кантаку между ушами и ласково сказалъ Чанне:
– То, что ты сделалъ, принесетъ благо тебе и всемъ созданиямъ. Верь, что я всегда воздам тебе любовью за любовь! Уведи домой моего коня и возьми эту жемчужину съ моего шлема, возьми мою царскую одежду, мне более не нужную, мой мечъ, мой поясъ, украшенный драгоценными камнями, и мои длинные, только что отрезанные мною, волосы. Отдай все это царю и скажи, что Сиддартха проситъ не вспоминать его до техъ поръ, пока онъ не вернется, облеченный величиемъ, превосходящимъ величие царей, умудренный уединенными изысканиями, борьбою за светъ; если я одержу победу, вся земля будетъ принадлежать мне, – мне, по преизбытку моей заслуги, мне – въ силу любви! Такъ и скажи ему! Человекъ можетъ возлагать надежды свои только на человека, и никто еще не искалъ того, что ищу я, – я, отрекшийся отъ мира, чтобы спасти миръ!


