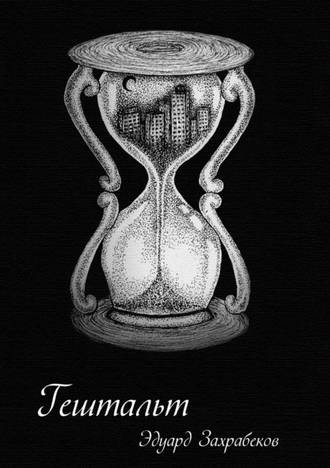
Эдуард Захарович Захрабеков
Гештальт
Любаша жила в домике на пригорке, внизу был городской пруд. Утром, до работы, пока не приехал служебный автобус, Любаша бродила вдоль берега и нашла свой камень, большой, неправильной формы, он рос прямо из земли, вроде как ожидал её. «Трудно катить будет», – подумала она, но других больших камней поблизости нигде не было. Вечером, в сумерках, Любаша пришла к берегу с туристической лопаткой и принялась выкапывать камень, с трудом она отделила его от родного углубления, долго сидела на нём, не могла никак отдышаться. Принялась катить, было тяжело и неудобно. Ещё она поняла, что одежда её никак не предназначена для такого труда. Поэтому восхождение с камнем было отложено на завтра.
Вечером другого дня Любаша пересмотрела свой гардероб, нужны были брюки, но она принципиально не носила брюк, они стесняли её сдобное тело. Любаша выбрала длинный льняной сарафан, под него надела флуоресцентные жёлтые лосины, которые использовала летом для прополки грядок. В сарафане сдвигание и закатывание камня пошло быстрее, она не боялась нагнуться низко или упереться ногами в неудобной позе, сарафан надежно скрывал её ладные ноги в ярких лосинах. В тот вечер, или точнее – ночь, камень закатился к Любашиной ограде довольно быстро. Несколько минут Любаша хватала воздух ртом, размышляя, стоит ли его сегодня скатывать. Нагнулась и, что было сил, толкнула его вниз, крикнула зачем-то: «Поберегись!» Хотя ясно было, что на улице уже совсем никого нет. Вроде никого не задавила, только внизу заливисто залаяла собака. Было два часа ночи, третий муж неслышно спал в супружеской кровати.
С утра, собираясь на работу в пиццерию, Любаша засомневалась в своём поведении: руки-ноги в синяках, плечи болят, ногти обломаны. Перед автобусом Любаша отправилась взглянуть, куда укатился её камень. Оказалось, что он вовсе не скатился вниз, а застрял на полпути, попав в какую-то выемку. Любаша докатила камень к пруду как раз к самому приезду автобуса. Когда раздалось шуршание колёс по гравию, Любаша приводила в порядок свою прическу. Садясь в автобус, она старалась не поднимать руки вверх, чтобы никто не заметил тёмные пятна пота.
Так продолжалось неделю. Никем не замеченная, она каждый день катала свой камень, забывала есть, да и готовила ужин только для мужа, любимый сериал не смотрела, к соседке поболтать не забегала. Третий муж вёл себя так, будто ничего не замечал, равнодушно сопел в стенку, когда, глубоко за полночь, Любаша возвращалась домой. «Какой бесчувственный! Спросил бы хоть, где была. Ночь ведь на дворе!» – думала она, укладываясь спать уже под утро. В седьмой день, когда Любаша заталкивала камень обратно в его естественное углубление и присыпала землёй, помогая себе туристической лопаткой, к ней из кустов вышел Василий, водитель служебного автобуса, который каждое утро увозил её в пиццерию. Любаша этому даже и не удивилась, не испугалась, она была вымотана, тяжело дышала, крупные капли пота блестели в её бровях. Молча, ничего не говоря, Василий присел рядом с Любашей на камень, погладил её по круглой коленке, обтянутой желтыми лосинами. Любаша остатками своего усталого сонного сознания подумала: «А чего бы и нет?» И они занялись любовью прямо тут же, у камня на берегу пруда. Потом Василий курил, задумчиво разглядывая Любашу, как она натягивала флуоресцентные лосины на похудевшие ноги. Разошлись также молча, как и встретились.
«Родильная ложка с солью, с перцем», – думала про себя Любаша, разделывая семь пирожков. Было воскресное утро, ехать в пиццерию было не надо. Любаша всё думала, как утром в понедельник сядет в служебный автобус. От этого её, и без того румяные, щёки становились ещё румянее. Впрочем, её сейчас более заботило, кому раздать стряпню, это было важнее, чем ночное приключение. Детей современные женщины рожают мало, больше двух в семье – большая редкость. «У вас в гараже есть многодетные мужики?» – спросила Любаша за завтраком третьего мужа. «А тебе что с этого?» – как-то с агрессией ответил он. «Так просто», – ответила Любаша, мысленно вычитая гараж из зоны предполагаемого распространения. В конце улицы жила многодетная семья, туда Любаша и отправилась первым делом. Изумлённым хозяевам она протянула булку ещё тёплого белого хлеба. Ещё один хлебец она отдала нищенке у церкви, у той оказалось трое детей. Потом гуляла в парке, смотрела, у кого сколько детей на прогулке, недоумевающим мамашам она отдала ещё два хлеба. Столько же удалось пристроить в магазине детских игрушек. Оставалась одна булочка. Сидя на скамейке у пруда, усталая Любаша половину съела сама, а половину скормила уткам, очень уж они попрошайничали, хлопая крыльями по водной глади. Спохватилась, но было уже поздно, хлеб был съеден. Любаша даже всплакнула от огорчения, ведь столько было пережито и могло пропасть зазря из-за её рассеянности. Потом она рассудила, что утка тоже, наверняка, многодетная мать, и успокоилась.
Через месяц Любаша поняла, что беременна. Её стало тошнить по утрам, отекали ноги, и все солёные корнишоны в пиццерии вызывали отделение слюны. Водитель Василий ласково улыбался измученной рвотой Любаше каждое утро, она же делала вид, что ничего не замечает. Третий муж совсем перестал смотреть на Любашу.
Как-то ночью Любаша поняла, что она родит своего долгожданного ребёнка вот этому равнодушному третьему мужу. Третий муж, и в этом не было никаких сомнений, будет знать, что ребенок не от него, станет называть его «чужим отродьем», как когда-то Любашу называл отчим. Это открытие придало Любаше сил, утром она собрала мужу чемодан и объявила о разводе. Тот даже и не удивлялся, не сопротивлялся, съел завтрак и ушел, так ничего и не спросив.
Нарядная Любаша, улыбаясь всем своим румяным сдобным существом, встречала служебный автобус. «Сегодня нужно камень к дому перекатить», – попросила она Василия и протянула ему семь блинов с творогом в пластиковом контейнере для завтраков.
Павел
Протяжно гудел поезд. Люди входили, двери хлопали. Шумящие потоки равномерно распределялись по залу: кресла, подоконники, скамейки, кассы. Кто-то выходил, двери хлопали. Шуршащие звуки скребли слух: чемоданы, тележки, сумки, пакеты, коробки. Вокзальные шумы поднимались высоко под купол здания и летали там гулким эхом, вырывались на перрон и были заглушены грохотом прибывающего поезда.
Павел вместе со всеми вошёл в зал ожидания.
Студенты у газетного ларька грызли семечки и громко смеялись, продавщица пирожков отсчитывала сдачу мятыми пятидесятками, семейная пара негромко переругивалась, туристы с огромными рюкзаками изучали электронное табло, влюбленные обнимались, цыганка с оравой малышей клянчила «на хлебушек». Обычная вокзальная жизнь. Павел присел на край деревянной скамьи и наблюдал, как девушка покупала у красного автомата кофе в стаканчике. Автомат выбрасывал стаканчик вверх ногами, подбирал в своё нутро и опять выбрасывал вверх ногами. Девушка смеялась, привлекая внимание студентов у ларька. «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не повешалось!» – крикнул один. Девушка сняла с держателя дымящийся стаканчик: «Лишь бы не плакало, дурак!»
Запах кофе растекся по старому вокзалу. Павел сглотнул.
Утро началось буднично. Старуха сметала со стола крошки вчерашнего ужина, Павел смотрел, как она неторопливо водит тряпкой по столу, меняет местами солонку и перечницу. Старый передник повязан ровно, волосы собраны под гребенку в аккуратный пучок. И передник, и гребёнка были знакомы Павлу целую жизнь. Всё было в этой жизни у них, одного не хватало – интереса. Все известно, знакомо, по накатанной, а интереса нет. Без этого и жизнь пресна, и утро похоже на вечер, и день на день, и год на год. Павел смотрел на свою старуху из-под одеяла, и всё яснее ему становилось, что жить так больше ему невозможно. Завтракали молча вчерашней пшенной кашей и яйцами «в мешочек».
С дерматиновым чемоданчиком Павел никогда не расставался, когда работал слесарем, носил в нём инструмент, осенью там спели помидоры, а недавно в нём окатилась кошка. Пара белья, колючий свитер, шерстяные носки, охотничий нож. Костюм надел на себя, в карман положил чистый платок. Подумал и засунул ноги в кирзовые сапоги, ботинки завернул в газету и – в чемодан, чуть повозился со старым замком и был готов. Старуха сметала со стола крошки после завтрака. Передник. Гребенка.
– Я пошел.
– Куда? В магазин? За шкаликом?
Павел молчал. Слышно было только, как тряпка в старухиных руках шуршит по клеёнке.
– Куда пошел-то?
Старуха оглянулась. Павел в парадном костюме и с дерматиновым чемоданом в руке стоял навытяжку.
– Что? Опять? Опять уходишь?
– Так, видно.
– И куда?
– К Павле поеду. Она меня звала, вот я и решил. Она бабка хорошая, осанистая, фигуристая, песни любит.
– А я?
– А тебе долгих лет счастливой жизни и не болеть.
Павел шагнул к порогу, старуха шатнулась к нему.
– А я?
– Ты старая уж вся, меня не привлекаешь. Накладки вон носишь, а я-то знаю, что всё оно не твоё. А Павла, она такая. У ней все своё.
– А тебе почём знать?
– Я знаю, трогал.
Поезд радостно свистнул. По залу прокатился рокот: «Прибывает! Прибывает!» Туристы технично, по очереди, покидали здание. Студенты, шумно толкаясь и хохоча, поволочили огромные сумки к выходу. Девушка, что покупала кофе, печально посмотрела на автомат и попросила у продавщицы пирожков кофе «три-в-одном». Цыганка вышла на перрон. Вокзальные двери, не переставая, хлопали, принося перронный шум и запахи. Павел слезящимися глазами наблюдал за дверью.
Никому знать не дано, что ждёт его в дороге. Может, транспорт сломается, задержится, бензин закончится, а может, всё пройдёт по распорядку, без суеты и накладок. Павел размышлял, какой будет его дорога. Мерный стук и шёпот напомнил ему о необходимости купить билет. Кто-то протяжно творил молитву, и местный батюшка, обметая полами рясы гладкие половые плитки, семенил к выходу. Несли икону. Пахло сладко, и сердце Павла вывернулось и торопливо застучало: «Плохо-плохо, плохо-плохо!» Все путешественники так суеверны. «Мощи привезли!» – проговорили на соседней лавке. «Чьи?» – чирикнула молодуха рядом с Павлом. «Не знаю. Старик какой-то с бородой, – ответила женщина в плаще, – Иннокентий, может». Павел вздохнул и шумно высморкался в чистый платок. Надо было привести себя в состояние душевного равновесия, пройтись, поглазеть на поезда, купить билет, опять же. Правда вокзальная дверь внушала Павлу опасения.
Павел уходил от своей старухи уже не первый раз, и всё как-то нескладно. Городок, в котором они прожили всю жизнь, был маленький, даже не на всякую карту его наносили, через него не проходила трасса М, не проезжали пригородные автобусы, самолёты не летали, корабли не проплывали. Моногород. Выходом и входом городку служил старый вокзал и гравийные поселковые дороги четырёх направлений. Вокзальную дверь боялись и любили, она была способна на чудеса. Если открылась в твоих руках сама, то дорога твоя будет легкой, цель путешествия достигнута, уезжающий – не вернётся, приезжающий – останется надолго. Если дверь не открылась – всё плохо, придётся вернуться, покаяться, мучиться сомнениями. У Павла дверь ни разу не открывалась, уж он её дёргал, тянул, гладил ласково ладонями, уговаривал. Дверь не открывалась. Павел возвращался к своей старухе. Волшебства с дверью никакого не было, просто она была старая, разбухала от влажности, забивалась пылью, отходил уплотнитель, за щепочку цеплялась. История прозаичная, легко объяснимая. Но если дверь не открылась, то придётся вернуться назад, город тебя не выпускает, нету тебе от него благословения. Павел объяснял себе технические несовершенства двери уже не первый раз, но необходимость выйти через неё сводила его с ума и погружала в размышления. Павел переставил свой дерматиновый чемоданчик с лавки на пол и потёр ладони. Надо было что-то решать. Можно было выйти из вокзала через запасной выход, обойти здание и через металлическую решётку багажного отделения попасть на перрон. Но это было нечестно, будто получить отпущение грехов не от господа, а от его заместителя.
Павел подошел к двери и взялся за массивную витую ручку.
– Дед, купи пирожок! – продавщица смотрела на Павла и перебирала пальцами металлические монеты в кармане. – В дороге есть захочется.
– Пирожок? А с чем пирожок? – Павел заглянул в лоток.
– Да какая тебе разница в дороге-то? – она издевалась.
Павел кашлянул, ему казалось, что эта грузная красючка с пирогами знает про него всё. И про дверь, и про старуху, и про страхи. Он отошёл к окну. Вокзальные окна были большими, с широкими подоконниками, на них можно было сидеть и даже лежать. Павел поставил на окно чемодан. В углу ссорились влюбленные.
– Пошли в випзал, я там сфоткаюсь на кожаных креслах, будто на вокзале в Москве.
– В Москве на вокзале нет таких кресел, там стулья вот такие, с сеткой, – парень постучал ладонью по металлическому сиденью.
– Какая разница? Кто знает, что там есть? Напишу, что на Казанском вокзале.
– Не пойду.
– Не пойдёшь? Совсем не пойдёшь? – девица перешла на визг, – ты меня просто не любишь!
– Люблю!
– Любишь, а туда не пойдешь? – девица ткнула пальцем в дверь випзала.
Павел прерывисто вздохнул, сгрёб свой чемодан и направился к чудесной двери. Витая ручка была почему-то тёплой, удобно легла в ладонь. Сейчас Павел потянет её к себе, и она откроется. Снаружи дверь резко толкнули, цыганка с кучей разновозрастных и разномастных детей вошла в зал.
– Отец, дай деткам на хлебушек! – цыганка деловито смотрела на деда, как бы оценивая, сколько он может дать.
– А сколько надо? – Павел полез за монетками во внутренний карман пиджака.
– Видишь, сколько их у меня, и всем надо. На хлебушек, на водичку, – цыганка нетерпеливо перебирала грязными пальцами почти под самым носом у Павла, – вот это дай. Цыганка вытянула из Павловой пятерни крупную купюру и сунула одному из детей, тот быстро побежал к двери и выскочил на перрон. Павел даже позавидовал шустрому цыганёнку, тому, как легко поддалась тонким ручонкам тяжёлая дверь. Ему, Павлу, бы так.
Третья попытка – и дверь должна была открыться, выпустить Павла в его новую жизнь, с новой старухой, в новом местечке. Он мечтал об этом, думал, тешил и лелеял мечту. В стеклянном окошке строгая кассирша выдала Павлу билет на поезд до местечка, где жила фигуристая Павла. Ждать отправления нужно было ещё двадцать минут. Павел обвёл глазами зал, вздохнул и пошел между рядами металлических кресел. В конце пути недостижимой целью стояла дверь. Павел молил глазами и даже что-то шептал пересохшими от желания губами. У двери была своя, живая, грудь и бёдра без накладок. Она манила, обещала рай телесного наслаждения и жизни с весёлыми песнями. Она была старухой Павлой. И больше никаких жизненных передников и скромных гребешков.
Что-то показалось Павлу, что-то знакомое мелькнуло перед глазами. Павел обводил глазами зал уже не первый раз. Что-то знакомое было в этом зале, но Павел не понимал, что. С каждым шагом судьба приближала Павла к двери и к мечте. Ну, конечно, на крайнем кресле у двери сидела его старуха с чем-то белым в руках. «Даже передник не сняла, только платок накинула на свои аккуратные волосы,» – мелькнула мысль в голове Павла. Сердце упало вниз, теперь дверь уж точно не откроется, все кончено.
– Зачем припёрлась? – процедил Павел.
– Пришла вот, пластид принесла, возвращать тебя буду, – старуха вздохнула и печально заглянула в глаза Павлу, – если не вернёшься домой, взорву себя и всё тут.
Павел оглядел зал уже в сотый раз, жалко было старый вокзал, и себя тоже было жаль. Взрывной волной дверь откроет точно. В газетах про них напишут, про него, про старуху. Позорная слава на старости лет.
– А где ты пластид-то взяла, дура?
– В сарайке. Внук привозил для рыбалки. Просил спрятать. Я-то думала, что замазка, стала колупать, чтобы окна к зиме замазать. А он говорит: «Баба, не колупай, а то взорвется».
Павел подумал, потрогал губы. Его старуха была мудрёной бабой, кто знал, сколько всего в её голове было.
– Какой ещё пластид? Пластилин это. Надурил тебя внук-то, посмеялся. Я сам этим пластилином трещины на двери перед покраской замазывал.
Старуха растеряно смотрела то на Павла, то на кусок пластида. Понятно было, что это был её последний аргумент, и он только что потерял свою силу. Придётся проводить Павла так, без взрывов, без слёз. Она встала и отряхнула передник, судьба никогда к ней не была благосклонна. Дверь открыла сама. Тяжёлая дверь поддалась легко, без скрипа, без напряга, будто ждала, когда старуха-террористка её откроет.
– Иди!
Сам господь волею своею открыл дверь Павлу. Надо было идти. Поезд с протяжным гудком уже прибывал на станцию.
Димон
Так не делай, если не уверен.
Димон налил в узкий прозрачный стакан бесцветную жидкость, достал из блестящей коробочки длинную иглу, проколол рыбу и, глядя на кончик иглы расширенными зрачками, размешал ею свой напиток. Это была церемония. Так мусульманин омывает свое тело перед входом в мечеть, так православный, увидев золотые луковицы куполов, крестит своё туловище. Церемония важна, если ты видишь в ней смысл. Сегодня для Димона эта церемония несла особый смысл, хотя и выполнялась не впервые.
Пить почему-то не хотелось. Димон вышел в подсобку, белую, стерильную, сел на мешок с рисом и стал думать. Думалось тоже плохо. К тому же в подсобку заглянул маленький помощник-японец и заволновался на своём языке. «Оке! Оке!» – заизвинялся Димон и стал кланяться. Так они и стояли в стерильной подсобке, кланяясь друг другу, и, вероятно, это было нелепо. Японцы уважают рис, на нём нельзя сидеть, его нельзя рассыпать или выбрасывать, на него даже ругаться нельзя. Церемония.
Димон много мог рассказать о церемониях, жизнь его кидала и бросала, заставляла церемониться, поклоняться и делать вид. Церемонии правят миром, там, где кончаются церемонии, начинаются конфликты, склоки, ругань, даже и война может начаться. Церемонии тяготят, обременяют, но успокаивают и дают уверенность. Если ты церемонен, ты – друг. Хочешь дружить – следуй церемониалу. Димон был человеком миролюбивым, даже хотел податься в общину хиппи и проповедовать Миру о мире во всем мире, но любопытство привело его туда, где он сейчас и был, в японский ресторан.
Димон вернулся к своему столу шеф-повара. На столе всё было так, как и до ухода в подсобку, японцы весьма субординированы и умеют подчиняться, никто ничего даже не передвинет на столе начальства, если не получил на это высшее распоряжение.
На кухне все предметы были белыми или чёрными, даже блестящие поверхности сияли каким-то приглушённым монохромным светом, ничего не раздражало, но вселяло восторг и желание подчиняться. Никаких пятен, гари, рыбного или мясного запаха, пахло белизной и порядком. Только японцы знают, как пахнет порядок, это ни американский лимон, ни европейская свежая выпечка и кофе, ни русская побелка и скошенная трава. Японский порядок пахнет тишиной и церемониалом. Для Димона это был убийственный запах. Димону захотелось старого бабкиного дивана в прихожей и кучи стоптанной обуви, затёртых обоев и продавленной панцирной кровати. Слеза набежала на глаз, в носу зачесалось. Димон взял свой стеклянный стакан и вернулся в подсобку, повернул замок в двери, снял длинный чёрный фартук. Теперь можно было спокойно развалиться на рисовых мешках и подумать. До начала рабочего дня оставался ещё час.
Так не делай, если не уверен.
Димон вспомнил своё детство. Никто не верил, но Димон знал себя с момента рождения, помнил, как выглядело родильное отделение, какими были часы на руке акушерки, мелкий цветочек на материнской рубашке. Помнил, а может, ему казалось. «А ты меня изнутри не помнишь? А то, расскажи!» – смеялась мать. Детство было невероятным: бедным, голодным, злым. Димон старался его никогда не вспоминать, становилось жалко себя, на глаза наворачивалась сиротская слеза. Поэтому Димон своих детей не знал, хотя, вероятно, они были. Он их жалел, но предпочитал думать, что у него нет детей.
Димон родился в конце семидесятых где-то в Сибири, в середке земли русской, в советской интеллигентной семье. Его мать преподавала химию в школе, а отец читал историю цивилизаций в местном пединституте. Димон только пошёл в школу, как страну стало трясти. Димону было непонятно, почему мать с отцом постоянно ругаются, на ужин ели одни макароны и размоченные сухари, когда умерла бабка, её хоронили на деньги от продажи дедовых медалей, а макароны закончились, поэтому мать к ужину готовила чай из спитой заварки и к ней маленькие сухарики. Растрескавшиеся ботинки Димона мать клеила какой-то разваренной в кипятке кашей. Из единственных сандалий Димон вырос, и, чтобы ребёнок имел возможность носить сменную обувь в школу, их удлинили, отрезав носы. Димон до сих пор ощущал стыд за эту свою бедность, он помнил, как приходилось поджимать пальцы на ногах, чтобы те не касались пола, и терпеливо ждал, когда ему купят новые сандалики. Но так этого и не дождался, в Штаты улетели в тех же сандалиях.
Мать была энтузиастом, она любила свою химию каким-то одержимым чувством. Ещё больше мать любила своих учеников, всех, даже самых непутёвых. Она собирала их в своём кабинете после уроков и заставляла думать о жизни. К думам прилагалась буханка белого хлеба из школьной столовой и сахарный чай оттуда же. Они смеялись, перекидывались хлебным мякишем, рассказывали страшилки из своей жизни. Это была такая психотерапия. Никому от этих посиделок лучше не становилась, мать не могла исправить жизни этих ребят, ничем не могла им помочь. Она была одной из них, нищей, проблемной, без денег и смысла жизни. Хотя нет, смысл был – выжить. За эти свои посиделки со шпаной и любви к химии матери дали грант Сороса. Она, ничего никому не говоря, сложила чемодан, прихватила Димона и подалась на год в Штаты. Димон жил в маленькой комнатке латиноамериканского квартала на Манхеттене, мать была вечно на курсах, потом преподавала, Димон вначале сидел рядом с ней, но вскоре ему это наскучило, и он стал оставаться в комнатке. Он научился спускаться из окна второго этажа по старому гамаку, нашёл друзей. Конечно же, все они были неблагополучными афроамериканцами или мексиканцами, но с ними было весело. Можно было целыми днями болтаться по каменным джунглям, курить маленькие сигаретки и выуживать шоколадки из автоматов. Мать забыла про Димона, он в совершенстве научился воровать, изъяснялся на странном английском и попробовал все наркотики, какие тогда можно было найти в боро. Неожиданно для Димона всё закончилось, пришли из миграционного отдела и сказали, что через неделю надо быть готовыми к отъезду в Россию. Грант закончился. Мать паковала в чемодан новую одежду, книги и подарки, блоки жвачки и сигарет. Димон зашивал в подвороты джинсов марихуану и экстези.
Сибирь встретила неласково, мокрым снегом и ветром, был ноябрь. Оборванная страна по сравнению с Манхеттеном показалась Димону шуткой, будто он приехал сюда не насовсем, а только на время. «Мам, когда мы отсюда уедем?» – спросил Димон наивно. «Сынок, вырастешь и уедешь, а я уж тут как-нибудь», – вздохнула мать и затянулась, как сигаретой, холодным воздухом. Мать по-прежнему работала в школе, денег не было, отец ушёл. Отец Димона был ещё более странным, чем мать, он верил в какой-то высший разум и своё предназначение. Он основал секту и уехал на Алтай. Звал Димона с собой, но мать не пустила, ребёнку надо учиться, а не белым царицам поклоняться. Больше отца никто никогда не видел.
Димон заканчивал школу. Он пил, принимал наркотики и находился в постоянном поиске денег и смысла жизни. «В отца пошёл, цивилизацию ищет», – шутила мать и делала вид, что Димон уже большой и может жить, как хочет. Школьные экзамены позади, в аттестате одни тройки, пятёрки по химии, истории и английскому. Мать помогала, как могла, уж очень ей не терпелось отправить сына во взрослую жизнь. С такими успехами институт Димону не светил, надо было как-то устраивать свою жизнь. Он съехал от матери в старую бабушкину квартиру и два года прошли как gap year перед университетом. Димон сам себя не очень хорошо помнил в те два года: наркотики, лёгкие, тяжёлые, алкоголь, подружки из ночных клубов, друзья из теплотрассы, трясущиеся бомжи и помятые золотые мальчики, кошки, собаки, орущие в подъезде соседи и злые лица в дверном глазке. Очнулся Димон со шприцем в руке в подъезде, как там очутился, не понял. Нога была сломана, руки тряслись, голова соображала, что умер. Пустота заполняла душу Димона. Скоро начнётся ломка. Димон набрал телефон матери и попросил пристроить его в наркологию. Лечился долго, вместе с зависимостью к Димону пришли гепатит разных видов, сифилис и истощение. Стал хромать, ходил, как Лорд Байрон, с тростью, страдал мертвенной бледностью. Хотелось уехать на Алтай, к белой царице, к отцу, но мать адреса не знала.
Димону было уже за двадцать, надо было начинать жить.
Опять осень. Дворник на центральной площади сгрёб опавшую листву в кучу. Куча получилась огромная. А дворник всё подвозил и подвозил на тележке невесомое золото, сыпал и сыпал. Димон, поставив трость у скамейки, упал в эту пышную шуршащую массу. «Сыпь на меня», – попросил он дворника. Дворник усмехнулся, но продолжал подвозить и сыпать листву Димону на голову. Димону казалось, что он, наконец, нашёл свой рай, свой покой, своих друзей. Каждый друг что-то хорошее шептал ему в ухо о том, что всё будет хорошо, что всё ещё впереди. Димон поднялся и похромал к лингвистическому университету. Экзамены уже закончились, но Димона должны были принять. Английский ему достался как подарок от детства после поездки в Штаты. Конечно, Димон не знал никаких правил, не мог читать правильно и красиво, но чудесно изъяснялся на каком-то американском диалекте, его понимали американцы. Это давало ему весомое преимущество перед другими студентами, и его, после недолгих манипуляций с деньгами, приняли на второй курс. Учёба двигалась незаметно и легко, Димон нашёл своё призвание, ему казалось, что жизнь, наконец-то, полюбила и его. В придачу к английскому он стал изучать ещё и японский. Одно только тревожило Димона, что ему предстояло в будущем работать в школе, с детьми. Это было страшно, он не умел и боялся работать с детьми.
После университета Димон уехал во Владивосток, сдал спичикан тест и поехал работать в Японию. Была осень. В японском саду плавали карпы, и камни очаровывали своей простотой. Культурный шок накрыл Димона сразу, да так, что он не мог понять, как теперь жить и чем заниматься. Единственным русским был священник в местной православной церкви, он слушал Димона после службы и предложил ему работать поваром в своём маленьком приходе. Но Димону хотелось чего-то эдакого, нового опыта, который бы смог победить его растерянность и уныние. Священник, отец Елистрат, покрестил Димона и пристроил на работу в соседний храм, буддийский.
Димон учился читать мантры и выкладывать мандалы, через год его приняли учеником повара в столовую храма. Шеф-повар, Сенсей, был человеком большим, добрым и проповедовал путь самурая во всём. Коронным блюдом Сенсея была рыба фугу, которую разводили в пруду у храма. Фугу – рыбешка величиной с ладонь – серая, скользкая, глазастая, но если она пугается, то раздувается до огромных размеров, выпускает ядовитые иглы, от яда которых можно погибнуть. Но путь самурая диктовал Сенсею готовить эту рыбку. Уо, он называл эту рыбку ласково «уо», злую и коварную рыбину он называл рыбкой. Для Сенсея эта рыбка была как курица для Димона, он мог приготовить из неё множество блюд и даже сакэ. «Сейчас вывели неядовитую фугу, но это не фугу. Вот фугу!» – и Сенсей толстым пальцем показывал на пруд, где плавали эти маленькие убийцы. «Фугу покажет тебе, кто ты есть, – говорил повар, – смотри!» Сенсей брал тонкую длинную иглу и втыкал её в рыбку, куда-то, где у неё печень, резким движением выдергивал и тут же погружал в стакан с сакэ. «Так не делай, если не уверен», – бормотал он для меня и залпом выпивал. Димон зажмуривал один глаз, Сенсей смеялся и тут же умирал. Сначала паралич охватывал ноги, потом из рук падал и разбивался стеклянный стаканчик, челюсть дергалась, и приоткрывался рот, лицо приобретало форму маски из театра Кабуки. И только глаза смотрели на тебя осмысленно, но Димон думал, что они больше похожи на перископы, чем на глаза. Сенсей вращал белками. Через минуту паралич проходил, и Сенсей, похихикивая, шёл в уборную. «Так не делай, если не уверен».
За несколько лет с Сенсеем Димон научился обращаться с фугу вертуозно. Его приглашали на работу в лучшие рестораны Киото и Токио и очень хорошо платили. А потом Димон вернулся в Россию. В его стране появились люди, которые захотели попробовать уо.
Димон не был в России больше десяти лет, мать изредка звонила ему по скайпу, рассказывала о чем-то, но рассказы эти в душе Димона не находили отклика. Теперь же Димон испытывал культурный шок, обычный для его жизни. Ресторан был японский, чопорный и щепетильный. Продукты доставляли самолетом рано утром и каждый день, прямо из Японии. Фугу заказывали редко, почти всегда селекционную, без яда.


