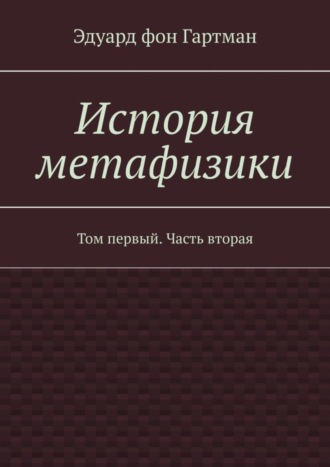
Эдуард фон Гартман
История метафизики. Том первый. Часть вторая
Но все это неточные, односторонние взгляды на двусторонние отношения; единственно точный подход Бёме заключается в том, что дух и природа взаимопроникают друг в друга, насыщая все семь уровней внутренне-божественного природного процесса, и растут и развиваются рука об руку друг с другом.
Если абстрагироваться от природы, то есть от физической субстанциональности внутрибожественного процесса, то останется чисто духовный процесс, но это всего лишь человеческая абстракция от полного и завершенного процесса, который следует искать только во внутрибожественном природном процессе. Бог есть воля и сущность, или дух и природа в одном лице, то есть он, говоря словами Спинозы, есть одновременно мыслящая и протяженная субстанция, и если рассматривать его как чистый бесприродный и свободный от тела дух, то это будет односторонне и не по истине; дух и природа принадлежат в нем друг другу, как душа и тело в человеке. Однако при таком понимании природы как вечно развертывающейся телесности или телесности Бога нельзя говорить, что корень зла лежит в природе Бога, ибо телесность Бога не имеет никакого отношения к происхождению зла. Бёме не пытался отделить природу Бога от духа Бога и представить их отдельно; поэтому не существует чистого противопоставления чисто духовного, внутренне-божественного процесса, и даже если мы противопоставим чисто духовный процесс телесно-духовному природному процессу в Боге, это всегда останется лишь нечистым противопоставлением, отношением типа a:a + b. —
Природу, или телесность, или телесность в Боге, с одной стороны, не следует путать с тварной природой небесного ангельского мира или даже временного земного мира, а с другой не с κόομος νοητός, или умопостигаемой, или идеальной вселенной в Божьем духе, или абсолютной идеей, или мудростью, или «местом образов» в Боге. Природа в Боге имеет общее с природой, как мы ее знаем, только протяженность или телесность и химическую природу, но в остальном должна рассматриваться как нечто несравненно более высокое. Идея или мудрость отличается от природы в Боге, как образ от телесной формы, как идеальное от реального. Как и у Альберта Магнуса, природа это физическая форма как таковая, но не как идеальная, а как реальная, не как образ в божественном мышлении, а как субстанция в божественном бытии. Природа в Боге ближе всего к первоматерии Аверроэса и Парацельса, из которой все может стать, и которую Давид Динантский уже отождествлял с Богом. Бёме не хватает гораздо больше, чем Бруно, понимания динамической природы телесной материи или даже реальности самого динамического принципа; чтобы поместить принцип реальности в Бога, он помещает в него то, что только он один считает реальным, телесность или телесность. В этом вопросе Бёме все еще застрял в Средневековье, и его поклонники, которые не осознали этого, позволили ему увлечь себя обратно в Средневековье. В схоластических терминах Бёме природа в Боге означает не что иное, как то, что Бог это не чистая форма, а единство формы и материи. Бруно также приравнивал отношения между Богом и миром к отношениям тела и души; но для него телом Бога был этот известный нам элементарный мир, а мир-душу он приравнивал к природе как духовному принципу. С другой стороны, для Бёме этот грубо чувственный мир с его натурализованной природой кажется слишком низким, убогим и несовершенным, слишком продуктом тления, чтобы искать в нем тело Бога, и поэтому он приписывает ему физическую природу иного, более высокого рода. Он ищет тело Бога ни в элементарном, ни в побочном, небесном мире ангелов, но исключительно в сакраментальном или божественном мире Парацельса, и называет это природой в Боге.
Прежде всего, сущность и природу у Бёме не следует путать с эквивалентными выражениями у Экхарта. Экхарт понимает «сущность» как сверхчувственную, нематериальную, абсолютную субстанцию Божества, а «природу» как его атрибуты, которые для него ограничены нусом или высшим разумом (как источником понимания и воли); Он различает еще не натурализованную природу в Божестве и натурализованную природу в Боге, как потенцию и actus атрибутов, но никогда не думает о телесности или даже материальной субстанции при слове «природа», хотя бы потому, что множественность, индивидуальность и телесность рассматриваются им как чисто субъективная видимость, не основанная на Боге. Бёме же понимает сущность только как телесность или материальную субстанцию, а природу как химически дифференцированную и морфологически сформированную телесность, которая в своем совершенстве представляет собой телесность индивидуальности. У Экхарта сущность и природа являются переводом слов substantia и essentia и поэтому вполне могут быть применены к его акосмистическому абсолюту. В творчестве Бёме включение сущности и природы в Бога это архаичное варварство мысли, чувственно-наивную грубость которого его поклонники скрывают лишь с помощью расплывчатости. Тот, кто хочет говорить о природе в Боге, должен прежде всего указать, что он под этим подразумевает, в каком смысле он понимает это слово или какой новый смысл он ему придает; но он не должен ссылаться на Бёме, ошибка которого состоит именно в том, что он некритически и фантастически переносит наивно-чувственное понятие материи и телесности, вместе с грубыми натурфилософскими категориями своего времени, на Абсолют и его процесс.
То, что концепция природы в Боге у Бёме ничего не дает для реального спекулятивного прогресса, для реализации небытия в Боге, уже было показано выше; одежда небытия и того, что должно быть преодолено в естественном образе темного огня в противоположность яркому свету, ни в коем случае не совпадает с контрастом природы и не-природы в Боге, но попадает в противоположности детерминаций природы, не будучи концептуально связанной с ними. Мы сразу же увидим, что этот контраст остается в чисто духовном понятии Бога даже после того, как природные образы отброшены, и что Бёме мог бы, таким образом, с тем же успехом показать небытие в своем чисто духовном понятии Бога, и ради этого небытия не нужно было бы проецировать природный процесс на Бога как такового. —
Разрабатывая чисто духовную, «неестественную» концепцию Бога, Бёме отталкивается от Божества Экхарта, которое совпадает с неоплатоническим Единым и безмолвием или бездной гностиков. Вечное единство это (фактически) небытие, ибо оно есть вечная тишина, неподвижность без сущности (то есть без телесности), бескачественность без света и тьмы, бесчувственная и бесстрастная, непроявленная, не проявленная даже для самой себя.
Это беспочвенная бездна, но также и бездна, из которой все происходит, небытие, из которого созданы все вещи и которое, следовательно, потенциально является всем. В этом небытии следует различать две вещи, которые не следует ни выводить, ни путать друг с другом: с одной стороны, активный момент, который инициирует вечный процесс становления и поддерживает его, а с другой пассивный момент, который окружает своим присутствием все шаги первого и выполняет его как ответный бросок. Первый, который Бёме также рассматривает как единственного носителя процесса в силу его единственной активности, он называет волей, второй, в силу его пассивности, девой, определяемой по содержанию: вечная мудрость, место образов (идей), око вечного видения или божественный разум. Второй момент, очевидно, соответствует разуму Экхарта и неоплатоническому nus; но тот факт, что Бёме также вновь вводит первый момент, волю, как инициатора и фактического носителя процесса, является значительным прогрессом по сравнению с Экхартом. В то время как Экхарт заходит в одностороннем интеллектуализме Фомы так далеко, что, кажется, допускает, что воля действительна только в существе, Бёме восстанавливает приоритет, который Данс отдавал воле. Таким образом, он ближе к плотиновской модели, чем любой другой христианский философ до него. Но если у Плотина инициатива принадлежит только воле, а сам процесс является по сути интеллектуальным, который сопровождается волей как самоочевидной принадлежностью на всех уровнях, то у Бёме весь внутренне-божественный духовный процесс это процесс воли, которому пассивно противостоит око воображения или зеркало мудрости как самоочевидный противовес. Таким образом, воля и мудрость или понимание также являются атрибутами Божества у Бёме, как и у Фомы и Дунса; но если Экхарту уже пришлось отказаться от привлечения сущности бестелесного Божества к Троице, как это сделали Фома и Дунс, то Бёме уже не мог думать об этом. Как и Экхарт, он должен был искать Троицу в моментах или фазах процесса, а не в Едином Существе с его двумя атрибутами, как это делали Фома и Дунс. Однако, поскольку он рассматривал волю как активного автора и носителя процесса, он должен был переосмыслить три фазы одностороннего интеллектуального процесса как фазы одностороннего волевого процесса. Однако сделать это ему удается, лишь рассматривая чисто интеллектуальный волевой процесс как пространственно-механический природный процесс, то есть предвосхищая то, что в Боге должен породить только духовно-телесный природный процесс. Если интеллектуальный процесс Экхарта основан на плотиновском тождестве мыслителя, мысли и мышления, то волевой процесс Бёме ищет опору в идеях пространственного сжатия, расширения и силы-эманации и поэтому значительно отстает от него по содержанию.
Инициатива воли хорошо описана Бёме. Вечное небытие само по себе уже есть воля, но воля не только без объекта, но и без чувствительности и побуждения, то есть дремлющая (потенциальная) воля. Но небытие жаждет чего-то, жаждет откровения; воля, тонкая, как ничто, теперь желает стать чем-то, чтобы проявиться. (Потенциальная) воля это вечная свобода; неопределенная свобода, однако, ищет версию себя и таким образом становится поиском, желанием, стремлением. У воли нет ничего, что она могла бы волить, кроме самой себя (она, таким образом, волит); у нее нет ничего, что она могла бы постичь, кроме единственной вещи, которая еще не постигнута (или неопределенна). Поэтому для того, чтобы помочь этой пустой воле, которая не может ничего волить из-за отсутствия содержания, волить что-то, нужно было бы призвать постоянно присутствующее противодействие воли, пассивную мудрость, чтобы воля могла волить как воля, исполненная идеи. Начало этому также положено: непостижимая воля, как око вечного видения, вводит себя в вечное созерцание самой себя, или превращает себя в зеркало и видит в себе то, что она есть, или уравнивает желание с воображением, и воля оплодотворяет себя через воображение желания из ока мудрости и таким образом рождает слово или звук.
Но этот непосредственный союз воли и мудрости не преследуется далее; вместо этого сначала рассматривается исключительно процесс воли, а мудрость откладывается до конца. Если бы пропитывание воли из ока мудрости совокупностью «образов», составляющих ее содержание, здесь уже принималось всерьез, то воля должна была бы реализовать эти образы немедленно, т. е. инициатива процесса в Боге также немедленно совпала бы с началом процесса творения и не осталось бы места для внутрибожественного тринитарного процесса. Поэтому желающая воля должна изначально желать не идеи, а саму себя, не как неопределенное ничто, а как детерминированное нечто. Неопределенную пустоту небытия достаточно представить себе пространственно, и точка предстает как соответствующий образ детерминации. Поэтому воление должно быть тенденцией пустого пространства к точке, а для того, чтобы волить себя, к своей точке или центру. Таким образом, воление как сократическая тенденция к центру, в котором ничто обнаруживает себя как нечто, есть субстанциальное воление, сконцентрированное в субъекте. Поскольку Бёме еще не отличает слово субъект от субстрата, он использует для нашего понятия субъекта слово эго или эгоистичность, при этом мы не должны думать о самосознании или даже личности, а только о субъекте как избирательном носителе волевой активности. Бёме также использует для обозначения субъекта сердце или разум, поскольку и то, и другое означает сокровенную суть жизни; в частности, разум служит для перевода слова mens, которое совпадает с imago dei или малой искрой. Таким образом, воля постигает себя как основание и место своего Я-существа, и тем самым непостижимая или непостижимая воля утверждает себя как постигаемая воля, как сын, который вечен вместе с ней. Как первое стремится от неопределенной необъятности к детерминированному пунктуальному единству, так и второе стремится от единства к (теперь уже не неопределенной множественности); это растворяющее, распространяющее движение, бегство или расширение.
До сих пор представление чисто-духовного процесса соответствовало первым двум формам природного процесса. Тот, кто представляет себе волю как истинно духовную потенцию, не будет мыслить ее пространственно, как пустое пространство или как пространственную точку; он будет понимать ее как духовный центр действия или субъект деятельности, не думая поэтому о ней как о пространственном центре своей сферы деятельности; ему не нужно будет предшествовать центробежной деятельности центростремительной и рассматривать первую как продукт или сын второй. Бёме не попытался объяснить, как неопределенное, беспрерывное стремление, которое волит только себя (т. е. как воление), становится центростремительным волением, которое хочет ввести эго или субъект для воления; можно подумать, что беспредметное воление должно также оставаться вечно беспредметным, и что нет необходимости вводить субъект, если воление уже является волением даже без субъекта. Ему не хватает не субъекта, а объекта, и он обретает его не путем выдвижения субъекта, а только через содержание мудрости. Вопрос о том, принадлежит ли неопределенное стремление, дающее инициативу, еще потенции или уже центростремительному стремлению, то есть считается ли оно принадлежащим вечному божеству или Отцу, остается в работе Бёме неясным и колеблющимся.
Остается также неясным, что означает третий эффект волиfc, дух, исходящий от Отца и Сына. Здесь, как и в случае с третьей формой естественного процесса, отсутствует натурфилософское определение, а чувствительность или мучительность горького качества, кажется, не очень подходит Святому Духу. Возможно, можно было бы придерживаться единства третьего и пятого качеств и, соответственно, предположить, что свет проистекает из равновесия тенденций к сжатию и расширению, так что это соответствовало бы Святому Духу с точки зрения натурфилософии; но даже Сын, как сказано, относится к Отцу, как свет к темному огню. В любом случае, о Святом Духе говорят, что он представляет собой третий эффект воли, вытекающий из первых двух, или же является силой, исходящей от них, природа которой не уточняется. Таким образом, Троица состоит из трех эффектов воли, которые вместе составляют лишь одну волю. Только в качестве четвертого следствия происходит внедрение эманированной духовной силы в перечисленные образования, возможность которого открывается для нее содержанием мудрости; Святой Дух как участник волевого процесса, таким образом, все еще предполагается непостижимым. Эпизодическая попытка Бёме противопоставить Деву Духу как выдыхаемое выдыхаемому кажется ошибочной, во-первых, потому что выдыхание это функция не Духа, а Отца и Сына, а во-вторых, потому что абсолютная идея или «обитель образов» никогда не может возникнуть из лишенной идеи деятельности воли. Насколько понятным является различие между потенциальным волением, пустым волением и волением, определяемым идеями, настолько же непонятным является воление, определяемое содержанием, которое еще не должно определяться идеями, но должно витать посередине между пустым волением и волением, определяемым идеями. Это воление, наполненное содержанием, но лишенное идей, становится еще более непонятным благодаря разделению на три волевых эффекта, первые два из которых просто объясняются с помощью пространственно-чувственных образов из натурфилософии, а последний остается совершенно неопределенным. Попытка Бёме построить таким образом внутренний божественный тринитарный процесс терпит полный крах, и все усилия его поклонников спасти хоть что-то от этой звезды воли оказываются тщетными.
РБёме сам признает, что его три эффекта воли еще не являются тремя божественными существами Троицы, потому что как чисто духовные моменты они еще не являются существами вообще, т.е. физическими субстанциями. Они становятся таковыми только в процессе природы в Боге, когда сократительная воля Отца становится единой с centrum naturae или телесностью, экспансивная воля Сына со звуком или пониманием, а эманация силы Святого Духа со светом. Но даже в этом случае они становятся только существами, а не личностями; Бог становится личностью только во Христе, как учил уже Экхарт и утверждает Бёме, и еще не в Сыне Божьем Троицы, а только в Богочеловеке Христе, который живет в каждом возрожденном человеке. Кстати, в распределении семи качеств между Троицей Бёме отнюдь не везде остается верен своим предпосылкам, но и здесь демонстрирует множество колебаний и неясностей. —
Природный процесс Бёме предлагает так же мало приемлемых концептуальных моментов, как и его чисто духовный процесс воли; его философское значение состоит исключительно в том, что он предположил момент небытия в Боге как корень тварного зла, которое должно быть преодолено. Мы видели, что это небытие-сущность заключалось в царстве мрачности в виде первых трех форм природного процесса, и что они совпадают со звездой воли или троякой актуальностью воли. Таким образом, небытие-воля это, во-первых, не потенция воли, не вечное Единое, не бездна, из которой возникает воля; во-вторых, это не мудрость, через союз с которой воля переходит из трех форм Гримма в три формы царства радости; в-третьих, это не природа как телесность или телесная субстанциальность, а исключительно актуальная воля в ее обособленности и до ее союза с мудростью, но как таковая также во всех формах, которые она может принимать. Короче говоря, небытие-воля в Боге это воля как таковая и сама по себе, и в ней одновременно заключено божественное несчастье или страдание, которое необходимо преодолеть; это единственное, что остается в результате спекуляций Бёме. С этим согласуется то, что Бёме, как и все мистики, представляет себе возвращение многих в единое как цель процесса, через достижение которой смута и раздоры многих вновь разрешаются в покой единого, и что он понимает этот процесс в свете Божества как преодоление мучений, обитающих в глубине. То, что он также говорит о крике радостей в свете и звучании и пении небесной музыки, это эвдемонистические приукрашивания и преувеличения божественного мира, которые можно дать жаждущему счастья, опьяненному Богом мистику как воображаемый контраст с его мирской нищетой и преследованиями. —
Родственным духом Бёме является Роберт Фладд (1574—1637), который стремился объединить каббалу и неоплатонизм с христианством. Он также помещает основные телескопические силы холода и тепла, или тьмы и света, или первоматерии и первоформы, или сжатия и расширения, или центростремительной и центробежной активности, или конденсации и разрежения, или притяжения и отталкивания в самого Бога, приравнивает их там к антипатии и симпатии, ненависти и любви, недостатку и положению, нежеланию и воле, noluntas и voluntas, отражению в себе и откровению из себя, и выводит тварные качества из соответствующего им божественного корня. Таким образом, темный noluntas dei (или божественная злая воля) является корнем смерти, зла, болезни, недостатка, пустоты, покоя и зла; но зло является злом только потому, что оно соответствует noluntas dei. Фладд ищет потенцию противоположной деятельности в первозданном чистом и, таким образом, представляет божество Экхарта как потенцию желания и нежелания, или как двойную способность, в которой неактуальная потенция смешивается со способностью отрицательной воли. Он уже основывает экспансивную силу тепла на термометре. Он объясняет конфликт противоположностей (любовь и ненависть, симпатию и антипатию) в природе с помощью явлений магнетизма, а также тождество противоположностей в Боге. Помимо двух активных сил холода и тепла, он предполагает сухость воздуха и влажность воды как пассивные элементы, но считает, что и то и другое можно проследить до воды как первоматерии. —
Третий современник Бёме и Фладда, парацельсист Иоганн Баптиста ван Хельмонт (1578—1644), двигался в несколько ином направлении. До грехопадения мы были просвещены Богом; через грех к нам добавилась чувственная душа, которая поставила нас под контроль органов чувств. Чувства и понимание (ratio) вместе не могут дать знания, выходящего за рамки неадекватных внешних проявлений и отношений. Только разум (intellectus) дает знание, причем интуитивное, которое (как у Вайгеля) трансформируется в объект, что, в свою очередь, возможно только потому, что оно имеет ту же природу, что и объекты. Это яркое интеллектуальное познание не является дискурсивным размышлением, оно ближе к чувственному, живописному восприятию, чем к рациональной дедукции; оно подготавливается занятием воображения объектом, постом, спокойствием воли и молитвой, а затем возникает только в сомнамбулических состояниях сна. Над интеллектом стоит только mens или imago dei, или разум, к которому относится дистанционно действующая магическая сила воли. У людей, отделенных от тела, есть только разум и интеллект; разум, однако, действует только в единстве с божественной волей, так же как интеллект существует в единстве с божественной истиной.
Гельмонт решительно отрицает происхождение зла и нечестия от Бога и выводит его из свободной воли существ как нечто просто добавляемое per accidens. Он отвергает любые конфликты в природе и считает, что благость Бога может соответствовать только гармоничному сотрудничеству всех сил по гармоничным законам, как мы видим гармоничное сотрудничество частей организма.
В организме это гармоничное, единое руководство осуществляет архей, «кузнец деторождения и будильник жизни», то есть организующий принцип, пластически исполняющий образ, полученный от чувственных душ родителей. Архей, который следует рассматривать как разумный, бесплотный дух жизни, наделенный симпатией и антипатией, помещает в каждый член тела воспитателя или кормильца, или членный субархей, над которым он осуществляет надзор, витая туда-сюда. Симпатия и антипатия архея, а также его дистанционно действующая (биомагнитная) сила, основаны на принципе, который Гельмонт называет Blas по своему собственному имени; Blas включает в себя сидерический и человеческий магнетизм, то есть астрологические влияния звезд (Blas stellarum) и медиумическую нервную силу (Blas humanum).
Важнейшим аспектом учения Гельмонта является его решительный переход от материальной к динамической концепции материи; он начинает с первой, т.е. с противопоставления материи действующей и формирующей силе, а заканчивает полным растворением материи в силовых эффектах. Материальную причину Аристотеля он сначала трактует как «родовой сок», но отрицает ее чистую пассивность и объявляет ее способствующей причиной. Предполагается, что активная причина это внутренне действующая сила»; в той мере, в какой существует и внешне стимулирующая механическая причина, она является лишь случайной причиной, создающей благоприятные условия для развития внутренних природных сил; но такая причина не является необходимой и может отсутствовать. Он ненавидит старую аналогию между естественным развитием и художественным формированием; скорее, он понимает цель как по сути имманентную, заложенную Богом, и предполагает вместе с Парацельсом, что все развитие обязательно определяется изнутри заложенными в нем задатками или семенными зародышами. Таким образом, семя или семяподобный архей это то, из чего возникает материя как следствие; каждый член архея должен образовать свою собственную материю или разделиться на дальнейшие субархеи, подобно правящему архею, который делегировал члены от себя. Но поскольку сам архей снова мыслится как бесплотная субстанция, заимствующая у чувственной души идею или семенную идею для воплощения в жизнь, и поскольку этот imago seminalis описывается как внутреннее духовное ядро архея, содержащее его плодородие, то до сих пор так называемый архей опускается как бы на внешнюю материальную сторону внутренней силы, на бесплотный воздух жизни, который приравнивается к родовому соку, т. е. к материи. Квазиматериальный архей предстает теперь как продукт, во-первых, imago seminalis, во-вторых, ферментов или скрытых свойств и, в-третьих, пузыря, то есть трех нематериальных начал. Какими бы несостоятельными ни были эти построения в деталях, они, тем не менее, проложили путь к динамической концепции, сводящей чувственную материю к относительно постоянному воздействию сил, то есть к иллюзорной субстанции, которая не проявляет себя как субстанция, подобно тому как чувственная жизнь человека представляет собой лишь видимость субстанциальности, которая растворяется со смертью. Оставалось сделать еще один шаг искать действенные силы в нематериальных духовных существах. Сам Гельмонт объявляет mens нематериальным, а чтобы его можно было постичь непространственно, он определяет его как пунктуальное и ищет его место в устье желудка. —
Франца Меркурия ван Гельмонта (1618—1699) нелегко отделить от его отца, под руководством которого он вырос; поэтому мы предвосхищаем хронологическую последовательность и относим его, наряду с его современниками Анри Мором и Ральфом Кадвортом, к теософской натурфилософии предыдущей эпохи, хотя все трое являются отголосками прошлых интеллектуальных течений в период более поздней философии.
Младший Гельмонт внешне отличается от своего отца в некоторых отношениях, но как теософский натурфилософ он стоит на той же почве, что и тот. Он отказывается от трех парацельсианских элементов и заменяет их оппозицией спонтанности и восприимчивости внутри монадической субстанции, которую он приравнивает к оппозиции разума и тела. Мертвая, инертная, чисто пассивная материя для него абсурд; всякое действие одной субстанции на другую предполагает спонтанность и восприимчивость с обеих сторон и требует наличия высшей третьей монады, центрального духа, под доминирующим и направляющим влиянием которого происходит взаимодействие.
Правящая архея и правящая субархея отца становятся в сыне правящей центральной монадой и правящими монадами, каждая из которых объединяет в себе спонтанность и рептильность или духовность и телесность. Эффект каждой монады является для другого лишь внешним стимулом или случайной причиной для развития внутренних сил внутри него; но, в отличие от отца, он рассматривает этот внешний стимул как необходимый для реализации развития. В том же смысле он считает чувственное восприятие необходимым для познания; но только центральная монада объединяет и перерабатывает многообразные впечатления в сверхчувственное познание. Поэтому духовное не является неделимым само по себе, ибо оно состоит, как уже предполагал Парацельс, из множества духов или мыслей, которые не являются только и исключительно духовными, но имеют и телесную сторону, как это видно из их сохранения в памяти. С другой стороны, телесное само по себе не делимо, а состоит из монад, число которых в мире определенно и известно Богу (хотя и не конечное).
Дух это глаз, наблюдающий свой собственный образ, тело тень (opacitas), которую принимает отражение на образе, то есть видимость, возникающая в результате деятельности духа, который относится к духу, как тепло относится к свету. Дух и тело, таким образом, различаются не по сущности, а только по форме, не два вида субстанции, а члены отношения, частично внутри одной монады, как спонтанность и восприимчивость или действие и страдание, частично между доминирующей центральной монадой и комплексом обслуживающих монад. Каждое тело духовно само по себе и предназначено для постепенного одухотворения; каждый дух является духом только по отношению к прикрепленной к нему стороне телесности, которую, будучи конечной, он никогда не может отбросить. Тела непроницаемы друг для друга (только Бог и Христос пронизывают все), но своими силами они могут виртуально пронизывать друг друга и таким образом влиять друг на друга. Вещи отличаются друг от друга своими внутренними силами и данной им Богом способностью действовать на других и развивать себя; как взаимодействие сил двух монад в одном организме опосредовано господством и влиянием центральной монады на обе, так и взаимодействие отдельных индивидов возможно только потому, что все они имеют свою способность действовать от Бога, и все бытие и становление постоянно соединяется в Боге как центральной монаде мира. Каждая монада остается неизменной субстанцией с дарованными ей силами и существенными внутренними способностями, поскольку бесконечное число монад определено Богом и неизменно; меняется лишь способ их существования в процессе развития. Каждая монада индивидуальна и обладает пластической силой, с помощью которой она стремится собрать вокруг себя другие монады и втянуть их в сферу своего господства; в зависимости от характера ее внутренних склонностей и внешних причин внутренний ход развития, а вместе с ним и внешний ход развития будут различными. Переход к злу ограничен последствиями назначенного ему наказания, переход к добру неограничен; поэтому ни одна монада не может оставаться в движении к злу, но должна вернуться к добру. Каждая монада проходит через стадию человека с двенадцатью перевоплощениями; затем она возвращается к своему истоку, то есть к единству с Богом, но только для того, чтобы продолжить свой постоянный прогресс.
Гельмонт делит элементарный мир Парацельса на мир становления и мир делания или механического изменения; в первом вся жизнь и развитие идут изнутри, во втором смерть и застывание, черепная коробка из безжизненных костей, в которой происходит только безжизненное механическое движение. Таким образом, он примиряется с механическим взглядом на мир, который в свое время распространил Декарт, принимая его как четвертый мир. Мы машины в той мере, в какой мы тела, но духом (spiritus) мы принадлежим к миру становления, душой (mens) даже к миру первоначального небесного творения (κόομος νοερός). Знание механических законов мертвого мира творения не дает внутреннего постижения сущности вещей. Хотя Гельмонт на словах сохранил парацельсианское различие между духом и душой, на деле он отменил его в активной стороне отношений души и тела, так что сам он может сохранять его только как различие в степени достигнутой ступени развития. Вместе с Бруно он считает сотворенный мир бесконечным, во-первых, по пространству и времени, во-вторых, по числу существ, каждое из которых включает даже бесконечное число частей, и, в-третьих, по эффектам, но выделяет из всех этих бесконечностей, как и Бруно, истинную бесконечность или совершенство Бога.





