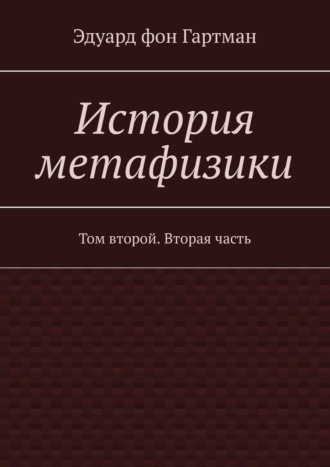
Эдуард фон Гартман
История метафизики. Том второй. Вторая часть
Переводчик Валерий Алексеевич Антонов
© Эдуард фон Гартман, 2024
© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2024
ISBN 978-5-0064-1644-4 (т. 2)
ISBN 978-5-0064-1642-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
III. Теизм
1. Основатели новейшего теизма
Якоби и Баадера следует считать основателями спекулятивного теизма, поскольку они первыми подчеркнули несовместимость пантеистической метафизики с христианским теизмом против спекулятивных пантеистов и выдвинули требование чисто теистической метафизики. Якоби является основателем унитарианского теизма, Баадер – тринитарного теизма.
Якоби (1743—1819) заимствовал у Юма принцип, согласно которому результаты рационального познания обязательно противоречат нашей эмоциональной вере, без которой мы практически не можем обойтись, а у Рида – доктрину, согласно которой в этом противоречии только вера имеет право определять наши философские убеждения. Он заимствует у Канта термин разум для обозначения органа восприятия сверхчувственного, но отвергает идею основывать веру в сверхчувственное на моральных постулатах и требованиях, как это делает Кант. Якоби первым ясно осознал и выразил ахиллесову пяту системы Канта – противоречие, согласно которому вещь сама по себе должна причинно воздействовать на нашу чувственность и при этом причинность должна иметь только имманентную силу. Он предполагает, что, согласно учению Канта, эта привязанность дает продуктивному воображению формальный импульс к деятельности, но не оказывает никакого качественно определенного влияния, так что детерминация в продуктах воображения остается у Канта совершенно необъяснимой. Воображение не может выйти за пределы пространства и времени по той самой причине, что оно должно в первую очередь порождать и то, и другое. Но из чистого пространства, чистого времени и чистого сознания еще ничего нельзя образовать, потому что синтез функций рассудка может начаться только тогда, когда есть нечто определенное, что связывает их воедино Когда рассудок рождает предметы, они оказываются фантомами, а сам рассудок уничтожает воспринимаемые предметы в их непосредственной реальности, растворяя их в мысли посредством своих отражений. Только непосредственное восприятие может гарантировать объективную реальность; разум не может породить ее из самого себя. Для Канта объективная реальность полностью растворяется в небытии, испаряясь в неопределенном, непознаваемом X, которое всегда остается чуждым нам. Таким образом, его доктрина становится абсолютным идеализмом или теорией незнания.
Полемика Якоби против Канта во многом укрепила идеалистов-учеников Канта в их убеждении, что они являются истинными толкователями своего учителя с их полным устранением вещи-в-себе. Ибо противоположная интерпретация, согласно которой вещь-в-себе не просто является побудителем, но и определяет содержание материи ощущений, была отвергнута Якоби как противоречащая опыту. Он справедливо подчеркивает, что мы не осознаем ни причинной связи наших объектов восприятия с вещами в себе, ни умозаключений от них к этим вещам, ни имагинативного посредничества между ними, и тем самым считает доказанным, что все такие посредники не существуют. Этот вывод должен считаться окончательным до тех пор, пока бессознательные промежуточные элементы находятся вне сферы философского видения или отрицаются. В этой полемике против Декарта Якоби, таким образом, склоняет следствие в свою пользу, поскольку оба не знают никаких бессознательных интеллектуальных функций.
Основываясь на этих данных, он остается на почве наивного реализма и утверждает, что вещи сообщают себя нашим органам чувств такими, какие они есть сами по себе, что сущность вещей «открывается» нам в нашем восприятии и что их «истина» становится нашей «истиной». Таким образом, мы воспринимаем чувственный внешний мир через внешнее чувство, а сверхчувственный мир – через внутреннее чувство. Восприятие первого порождает ощущения, восприятие второго – эмоции. Разум обрабатывает и то, и другое, причем в первой области им «руководят» органы чувств, а во второй – разум. Уверенность в сенсорном и сверхсенсорном восприятии объективной истины, открывающейся как субъективная истина, – это непосредственная уверенность, гарантированная инстинктивной верой. Все демонстрации должны основываться на непосредственной уверенности, а она дается только эмоциональной верой. Так же как эта точка зрения связана с Ридом, с одной стороны, она основана на религиозной вере, с другой, даже если более позднее обозначение веры как «разума» не может быть принято теологией. —
Чувство, открывающее нам сверхчувственный мир, не должно быть столь же определенным, как ощущения, благодаря которым мы познаем чувственный мир. Правда, чувство открывает нам Бога, нашу свободу и бессмертие, а также личность и другие атрибуты Бога; но в остальном мы остаемся в неведении относительно более близкой природы открывшихся идей. Якоби упускает из виду, как много осадков интеллектуальной рефлексии он проецирует здесь на свое эмоциональное содержание, и как сильно предполагаемое эмоциональное содержание каждого человека определяется индивидуально его образованием, а культурно и исторически – цайтгайстом и его окружением. Он не признает, что такие эмоциональные убеждения могут претендовать только на субъективную обоснованность, но никогда не могут претендовать на объективные и общепринятые стандарты для убеждений других людей или даже на предписание правил и установление границ для науки. Так, например, содержание его индивидуальной эмоциональной веры может показаться совершенно недостаточным и ложным только с точки зрения христианской веры, поскольку она исключает все внешнее откровение, доктрину Троицы, первородный грех, гетерономный моральный закон, объективное искупление через Христа и Божественность Христа. Если он, тем не менее, был высоко оценен христианской стороной, то это потому, что он поднял теизм против плоского деизма и материализма Просвещения, с одной стороны, и против спекулятивного пантеизма – с другой, став тем самым основателем спекулятивного теизма, хотя и в унитарной форме. В Якоби впервые в истории метафизики проснулось ясное осознание того, что теизм существенно отличается от спекулятивного пантеизма, что последний ошибочно обманывает и игнорирует остроту этого контраста и что решающей характеристикой теизма, в отличие от пантеизма, является личность Бога Таким образом, он оказал услугу не только последователям теизма, но и философии в целом, которую невозможно переоценить Эффект этого различения, конечно, не мог возникнуть сразу. Философы-пантеисты его времени, справедливо считавшие, что их точка зрения также может предложить религиозному чувству нечто достаточное и, возможно, лучшее, чем якобинский теизм, справедливо защищались от якобинского преувеличения, будто весь пантеизм есть атеизм как таковой. Но они ошибочно стремились размыть границу между пантеизмом и теизмом, чтобы тем эффективнее отбиться от обвинений в атеизме.
Спекулятивные пантеисты до Гегеля оставались наивными пантеистами, поскольку они не признавали контраста между пантеизмом и теизмом, чтобы сохранить фикцию соответствия между своей философией и истинным содержанием христианства. Только спекулятивные теисты, которые, как преемники Якоби, полемически противостояли спекулятивным пантеистам, довели остроту различия до более общего осознания и затем, в качестве контратаки, спровоцировали полный отказ спекулятивной философии от христианства. С точки зрения истории культуры эта философская революция является, возможно, самой значительной из всех, которые когда-либо происходили в истории философии, и Якоби дал решающий импульс этому разделению духов. Своим ложным обвинением в безбожии он также заставил спекулятивный пантеизм осознать свою нехристианскость, в то время как до этого только нефилософский материализм осознавал свою нехристианскость». —
Якоби рассматривает спинозистскую систему как прототип спекулятивного пантеизма, и именно поэтому его самые яростные нападки направлены против нее. Возвышая Спинозу, он сделал многое, чтобы привлечь внимание Фихте, Шеллинга и Шлейермахера к этому мыслителю, которого так долго неоправданно игнорировали, и начать эпоху его положительной оценки. Через него же Шеллинг, по его собственному признанию, узнал о Бруно. Эти заслуги также не должны быть забыты. Подобно тому, как его критика впервые распознала фундаментальное противоречие в системе Канта, он также прекрасно справился с полемикой против натурализма и абстрактного монизма и выявил их слабые места. То, что он знал пантеизм только в этих двух формах, что конкретный монизм, против которого его критика неэффективна, еще не существовал в его время, что он не заметил зачатков такового и семян понимания бессознательного духа у Фихте и Шеллинга, конечно, не может быть поставлено ему в вину.
Якоби понимает природу как царство слепой механической причинности, в котором сознательный разум, если он существует, играет лишь роль бездеятельного зрителя. Он не в состоянии представить себе объективный разум в природе, потому что концепция бессознательного разума или психической деятельности кажется ему абсурдной, а всякий разум связан со свободой и личностью. Понятно, что в этих условиях не может быть и речи о внутренней природной целеустремленности. Понятие достоинства реалистически понимаемой природы у Якоби не менее ограничено, чем понятие идеалистически понимаемой природы у Фихте. Если понятие natura naturans формируется в соответствии с такой natura naturata, то это также может быть только механическая сила, действующая вслепую в соответствии с жесткой необходимостью, противоположной рациональному духу. Якоби, конечно, не прав, когда подчиняет эту фактически атеистическую концепцию природы спинозизму и натурфилософии Шеллинга. Он также не прав, когда объявляет невозможной любую демонстрацию необусловленного, поскольку это свело бы необусловленное к чему-то обусловленному его причинами; ведь это возражение возникает из-за путаницы между реальным основанием и основанием знания. С другой стороны, он прав, когда критикует Спинозу за то, что тот говорит о божественных советах и мировом правлении, несмотря на отрицание всякой телеологии, и тем самым интерпретирует свою слепую судьбу как провидение. Он прав в том, что только при наличии провидения или рациональной телеологии абсолют становится богом, то есть возможным объектом религиозных отношений для человека, и что это условие у Спинозы не выполняется. Он прав в том, что у Фихте и Шеллинга, несмотря на утверждаемую целенаправленность мирового процесса, не может быть заявлено ни о какой приемлемой его цели, поскольку в вечном процессе невозможно реальное становление и не возникает ничего, чего бы уже не было. Факт бесконечной продуктивности, ценность и объект ее бесконечной активности равны нулю; поскольку все возможное всегда одновременное, несмотря на все изменения, во всей продуктивности не производится ничего, кроме пустой формы времени. Если же, как у Шеллинга, различать эпохи самоактуализации Бога, то после полной актуализации Бога должен прекратиться и мировой процесс, который был лишь средством для достижения этой цели. Если же, напротив, борьба продолжается постоянно, то совершенная актуализация никогда не произойдет, и цель останется вечно недостигнутой. Эта полемика против бесконечности телеологического мирового процесса, побудившая Якоби утверждать временную конечность мирового процесса, до сих пор не получила должной оценки ни у его современников, ни у последующих философов, хотя она вполне согласуется с христианским мировоззрением.
Если самореализация Абсолюта до совершенства является конечной целью мирового процесса, то из этого следует, что Абсолют как таковой, вне мирового процесса, должен быть конечным несовершенством, которое первым стремится к своему совершенству и добивается его. Однако Якоби использует этот верный аргумент не против позитивности конечной цели мира, а против имманентности абсолюта в нем. Он хочет видеть в Боге не имманентную мировую причину или внутренний мировой принцип, а внешнюю мировую причину или трансцендентного творца. В силу своей трансцендентности и сверхъестественности эта внешняя причина мира должна быть непостижима, поскольку наше понимание проходит лишь по нити механической причинности в рамках естественного. Причина, по которой Божья причинность не может быть постигнута рассудком в обратном направлении, восходя от следствия к причине, заключается в том, что это свободная деятельность, а всякая причинность через свободу – это нечто непостижимое, во что можно только верить. «Царство свободы – это царство невежества». —
Если эти возражения, вытекающие из свободы, столь же несостоятельны, как и сама якобинская концепция свободы, которая неотличима от произвола, то его возражения против абстрактного монизма имеют непреходящую ценность. Он показывает, что в абстрактном монизме мир – это просто ничто, которое всегда переходит из одной формы небытия в другую, но никогда не достигает подлинной реальности. Абсолют же, опять-таки, есть не что иное, как слепо актуализированная продуктивность, о ценности и реальности которой следует судить по ценности и реальности ее продукта. Если продукт на самом деле ничто, то абсолют, поскольку он существует только в этом тщетном производстве ничто, так же хорош, как и ничто, абсолютно несовершенное, которое ищет свое совершенство в продукте, но никогда его не находит, потому что вечный мировой процесс на самом деле не рождает ничего, кроме времени. Абстрактный монизм не способен вывести конечное из бесконечного. У Спинозы это становится ясно, поскольку всякая причинность ведет только от конечного к конечному и сразу без конца, но никогда к бесконечному. Поэтому в заключение Спиноза должен признать, что конечное вечно так же, как и бесконечное. Фихте тоже с самого начала отказался от всякого выведения конечного или индивидуального из бесконечного или абсолютного, и то, что Шеллинг пытается предложить вместо него, – это только идеи природы или категории вечной, умопостигаемой природы. Абстрактный монизм не может придать истинную реальность конечному по той самой причине, по которой он отрицает истинную реальность времени. Все конечное остается исчезающим моментом в бесконечном и не обретает никакой самостоятельности существования, никакого истинного бытия-для-себя, так же мало, как и истинной реальности. Эта критика абстрактного монизма перегибает палку лишь в том, что не требует для конечного независимой реальности, существующей для себя, а также свободы. В остальном все возражения Якоби против пантеизма в форме натурализма и абстрактного монизма совершенно верны и заставляют нас искать точку зрения, которая избегает этих ошибок. Ошибка Якоби заключалась лишь в том, что вне натуралистической и абстрактно-монистической формы пантеизма он не считал возможной никакую другую точку зрения, кроме теизма. Если бы эта альтернатива была верна, его критика пантеизма фактически стала бы косвенным доказательством в пользу теизма. Третья точка зрения сможет занять место теизма только в том случае, если она избежит недостатков натурализма и абстрактного монизма, которые Якоби справедливо критиковал, так же хорошо, как и теизм. —
Значение Якоби заключается не только в его собственных философских взглядах и критике современных мыслителей, но прежде всего в том, что он был первым, кто получил образование в области истории философии в ту спекулятивную эпоху. Не только Кант, но и Фихте оставались в полном неведении относительно истории философии; только с Шеллинга философско-историческое образование стало необходимым компонентом современного философа. Шеллинг, однако, обязан своим образованием в области истории философии почти исключительно Якоби; частично он черпал его из его трудов, частично, по крайней мере, был вдохновлен ими на дальнейшее изучение некоторых философов. Именно Якоби заново открыл Спинозу и Лейбница, этих двух почти забытых великих людей, и познакомил их с новейшей философией. И хотя он не обладал правильной и исчерпывающей оценкой обоих, он все же оказался гораздо ближе к истине, чем это было раньше. Он признал огромное значение Спинозы, противопоставил подлинного Лейбница искажениям школы Вольфа как нечто совершенно иное и указал на важность Юма более категорично, чем любой немецкий философ до него. Он также вывел из забвения Джордано Бруно. Благодаря всему этому он направил немецкую философию в совершенно новое русло, и эта заслуга останется неоцененной, даже если ценность его собственных высказываний не позволит применить более строгий философский стандарт». – Баадер (1765—1841) стремился прежде всего обеспечить совершенство и самодостаточность живого личного Бога и считал, что этому угрожает не только деизм XVIII века, обрекавший Бога на безжизненный потусторонний покой и бездействие, но и пантеизм Шеллинга и Гегеля, позволявший ему становиться только через творение и находить свое самосознание и личность только в творениях. Он критиковал Шеллинга и Гегеля за то, что они рассматривали природу как нечто, существующее до духа, а дух – как нечто, появившееся только после природы. Будучи католиком, он ненавидел рационализм, ставший следствием революционной Реформации, и стремился создать католическо-христианскую философию в духе средневековой схоластики и мистицизма, хотя в натурфилософии он наиболее близко следовал Якобу Бёме, а также опирался на Парацельса. Хотя он соглашается с Фихте в том, что всякое истинное бытие есть самосознание, он хочет в равной степени избежать обеих эпистемологических крайностей, а именно субъективизма, который хочет познать Бога из одной лишь тварной самоочевидности, и (абстрактно-монистического) пантеизма, который понимает тварное познание как часть божественного самопознания. Правильный центр он видит в том, что наше знание – это со-знание с Богом, так что божественное знание либо просто пребывает через него, либо пребывает с ним, либо пребывает в нем. В первом случае результатом будет просто принудительное, тварное знание Бога (как у дьяволов); во втором – эмпирическое знание или вера в авторитет; в третьем – свободное, спекулятивное знание. —
Поскольку человек создан по образу и подобию Божию, из него можно делать выводы о природе Бога; однако всегда следует учитывать, что человек не спонтанно активен как в теоретическом, так и в практическом отношении, а только рецептивно активен и требует, чтобы в нем действовало высшее существо, тогда как Бог самодостаточен. Когда человек благоразумно производит что-то, он, во-первых, представляет себе план или мысль о том, что должно быть произведено, во-вторых, принимает эту мысль как решение или волю и, в-третьих, берет средства (инструменты и материалы) для ее реализации. Соответственно, в Боге следует различать: во-первых, имманентный, эзотерический, абстрактно-идеальный или чисто логический процесс мысли; во-вторых, имманентный, экзотерический, реальный процесс воли; в-третьих, процесс духа, который опосредует эти два процесса. Баадер обычно объединяет два последних под названием экзотерического или реального процесса, но строго отделяет временной процесс творения от этого тройственного по своей сути вечного процесса. Логический процесс божественного мышления делится на пять моментов, которые Баадер обычно сводит к трем или четырем. Первый – это неоформленный Монас или неоформленная, неразвитая мудрость, соответствующая плотиновскому Единому и гегелевскому понятию как содержательному, но еще пустому логическому формальному принципу. Пятая – открытая, постигнутая мудрость, София, девственная идея, зеркало или продукт логического процесса, в котором раскрывается вся полнота его моментов. Она соответствует платоновской идее, идеальной вселенной Шелла, абсолютной логической идее Гегеля. Первый момент – это просто взгляд, но не взгляд сам по себе; пятый – это просто взгляд, но не взгляд снова. Первый момент, таким образом, все еще безличен и соответствует единой субстанции тринитарного Божества; последний уже не является личным, это просто пассивный продукт процесса, что не мешает Баадеру приравнивать его к Деве Марии, пассивной Матери Бога.
Между этим начальным и конечным элементом логического процесса Баадер вставляет еще три элемента, которые должны соответствовать трем лицам Троицы, правда, изначально как идеальные возможности, которые находят свое воплощение только в третьем процессе, процессе духа. Второй момент, Отец, соответствует гегелевскому понятию как субъективности или как диалектической движущей силе логического процесса, третий момент, Сын, должен соответствовать гегелевскому суждению, четвертый, Дух, – гегелевскому заключению, поскольку он синтетически объединяет Отца и Сына. Отец или начало «постигает себя» как самопонятие, Слово, Сын или как единую центральную форму для полноты того, что содержится в неразрешенной мудрости. Из этого магического первого самопонимания Сын или самопонятие затем разворачивается дальше в самоформирование или (внутреннее, чисто логическое) откровение, и это есть дух. Слово, таким образом, занимает среднее положение между субъектом (отцом) и объектом, подобно связке или копуле в философии тождества Шеллинга; оно соответствует гегелевскому суждению в той мере, в какой понятие, задуманное как понятие, открывается и разворачивается через суждение. Дух, в свою очередь, исходит из себя в двух направлениях: с одной стороны, внутрь, где он опосредует возвращение, а с другой – наружу, где он ведет к идее.
О каждом из трех средних членов логического процесса говорят, что он и смотрит, и на него смотрят, поскольку каждый из них не только продолжает деятельность, полученную от своего предшественника, но и отражает ее. Именно поэтому его называют личностью, хотя неясно, как такое отражение деятельности возможно в чисто логической сфере и как оно может быть достаточным для обоснования предиката личности. Точнее, три средних момента представляют собой не что иное, как пустые повторения одной и той же мысли, отражение и передачу деятельности, если только они тщательно отделены от первого и пятого моментов. Баадер также чувствует это и поэтому практически отделяет три средних члена друг от друга, сливая второй с первым, четвертый с пятым, то есть один личный с одним безличным. Тогда остается только слово как средний, рефлектирующий и далее направляющий, и Баадер поэтому также видит в нем собственно личный принцип, который также персонифицирует остальные. Весь этот процесс со всеми его моментами остается исключительно в потенции, если к мысли, творящему принципу, который произносит свое «Да будет», не добавляется сила или способность логического принципа. Баадер, как и Бёме, называет этот творящий, реализующий принцип вечной природой в Боге. Он соотносится с логическим идеальным принципом, как дух огня с духом света, как процесс воли с процессом воображения. Идея действует как побуждение на волю, пробуждает ее генеративные силы и приводит их в напряжение до тех пор, пока производство не будет завершено с освобождением от напряжения. Баадер описывает пассивное, женское желание (в смысле похоти), которое сначала пробуждается воображением, и активное, мужское желание, которое сначала воспламеняется похотью, как противоположные моменты напряжения воли. В этот процесс воли Баадер вводит спор становления и семь естественных форм Бёме; это придает ему кажущееся самостоятельное содержание, независимое от логического процесса. Если же волевой процесс понимать в смысле мотивационного процесса, как считает сам Баадер, то он сам по себе уже есть единство и опосредование мышления и хотения, поскольку хотение может быть вызвано только идеей как мотивом и может быть определено только идеей как содержанием.
Согласно Баадеру, логические и волевые процессы в Боге фактически идентичны и разделены лишь человеческой абстракцией. С другой стороны, в Боге идея и природа, мысль и воля должны быть одинаково оригинальны, но, тем не менее, нуждаются в объединении и посредничестве. Они находят это в духовном процессе. Обретая форму через идею, неоформленная воля, существующая сама по себе, рождает дух, существующий сам по себе. Таким образом, Бог как Отец, или Воля, является началом и правителем, как Сын, или Идея, – посредником, примирителем, как Святой Дух – завершителем совокупности божественных качеств. Три личности, которые в логическом процессе были лишь абстрактными категориями, а в одностороннем волевом процессе вообще не могли быть найдены, вступают в реальность как конкретные личности только в совокупном духовном процессе; через это вечное самопорождение Бог вечно совершенствуется в себе как трехличная личность. Индивидуальность и личность, совпадающие в человеке, в Боге раздельны. —
Мир, с другой стороны, не рожден Богом, а сотворен, причем не вечно, а временно. Материал, из которого он создан, – это вечная природа в Боге, в которой заложена возможность зла, даже если еще не его реальность. Падение может быть двояким: от высокомерия и от подлости; по первой причине пал Люцифер, по второй – человек, который впал в низшую природу и стал животным. Материальность, пространственность и временность мира – не причина зла, а его следствие и наказание. Видимая материя является лишь продуктом нематериальных принципов и поэтому может вновь исчезнуть вместе с уничтожением зла. Зло, возникшее в результате довременного падения, может быть постепенно отменено во временной жизни путем последовательного уничтожения эгоизма или себялюбия на периферии посредством молитвы и причастия. Баадеру так же мало удалось в психическом процессе, как и в логическом, сделать понятной возможность возникновения нескольких божественных личностей; даже для возникновения самосознания в любой точке вечного, чисто внутрибожественного процесса не хватает необходимого условия, сопротивления, на фоне которого абсолютная активность могла бы накапливаться и отражать себя. Позиционирование «зеркала» в логическом процессе свидетельствует о правильном ощущении этого требования, но не о способности обосновать утверждение о его существовании. Поскольку хотение и мышление вечно едины в Боге, отношение мышления к хотению не может привести к этой недостающей констелляции. С другой стороны, заслугой Баадера следует признать то, что он обновил представление Бёме о необходимости воли в Боге наряду с идеей и о вечном равенстве того и другого, указав тем самым Шеллингу путь, на котором только и может быть достигнуто преодоление панлогизма.1





