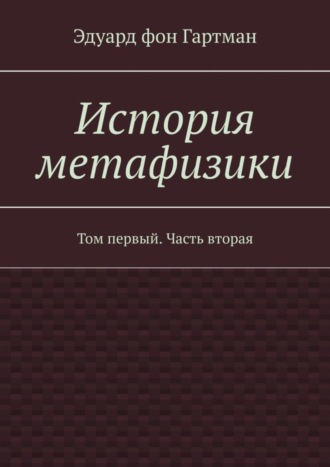
Эдуард фон Гартман
История метафизики. Том первый. Часть вторая
Внутренняя божественная Троица противопоставляется внутренней мирской Троице: totum, omnia и singula целое, все и отдельные существа, или общее, особенное и индивидуальное. Мир как единый целостный организм это целое, как сумма всех его членов это все, как множественность монад это индивид или отдельные существа. Мир как совокупный организм или тело мировой души имеет свое единство как целое только от мировой души, но и обладает ею как своим органическим телом.
Поэтому мы должны различать у Бруно две чистые триады:
I. Божественная троица:
1. Бог Отец.
2. Сын Божий, божественный разум.
3. мировая душа, святой дух.
II Мирская троица:
4. целое, общее.
5. все частное.
6. множество индивидуумов.
Кроме того, существуют две смешанные триады:
III. всеобъемлющая троица:
1.-2. Бог (Отец и Сын. Бог и его разум).
3. мировая душа.
4—6 Мир.
IV. Троица разума:
1.-2. божественный разум (включая абсолютную субстанцию).
3. разум мировой души.
6. разум индивида.
Эти четыре триады должны быть строго концептуальными, хотя в работах Бруно они иногда кажутся перетекающими друг в друга. —
Очень важно, что Бруно признал перед церковным трибуналом, что он учил безличности не только мировой души или Духа Божьего, но и Нуса или интеллекта Сына Божьего, и что он всегда придерживался только личности Бога-Отца. С этим объяснением мы сталкиваемся с одним из величайших поворотных пунктов в истории метафизики и религиозной философии. Ведь до сих пор момент божественной личности искали в Сыне или Логосе и для его обоснования сводили воедино определения плотиновского Нуса, мировой души и Иисуса Христа, тогда как неоплатоническое Единое должно было стоять выше бытия и мышления, а тем более личности, и христианский Бог-Отец заимствовал свою личность лишь отчасти из антропоморфных и антропопатических остатков иудейского Бога, отчасти же из него самого через гомузию с Христом.
Теперь же, в одночасье, натурфилософия заставила «Духа Господня, наполняющего землю и все, что на ней», Бога, имманентного природе или мировой душе, быть понятым безличностно, Логос или Сын Божий померкнуть в философски никчемном теневом образе или сократиться до простого рудиментарного органа прошлых систем, в отличие как от этого Духа Божьего, так и от Бога-Отца. Теперь даже воплощение этого Логоса в различии между Отцом и Духом и в смысле учения о двух природах подвергается сомнению и оспаривается Бруно как непостижимое, а воплощение Бога во Христе трактуется им только в смысле имманентности, поскольку оно может быть непосредственно осуществлено и реализовано только со стороны имманентности в триедином Боге, то есть Святым Духом или мировой душой. И несмотря на эту открыто провозглашаемую безличность имманентного Бога, несмотря на устранение божественной личности Логоса, Бруно все же сохраняет личность Бога-Отца, то есть сверхприродного и сверхсущностного трансцендентного Принципа, который как Бог не имеет к нам никакого отношения; другими словами, он провозглашает личность силы в отличие от безличной мудрости и любви, или личность сверхсущностного и немыслимого Единого Плотина, лишенного всех атрибутов! И все же очевидно, что все, на чем могла бы основываться личность Единого, должно быть атрибутами, которые не принадлежат ему как таковому, но заимствованы у Нуса и мировой души, для которых они, по общему признанию, недостаточны, чтобы установить личность! Остается выбирать между двумя предположениями: либо Бруно придерживался личности Отца только как притворства или не смел ее касаться, либо вера в личность Бога вообще уже имела такую власть над духом эпохи, что даже Бруно не мог освободиться от этого догмата и невольно сохранил его в самом неподходящем и темном углу своей системы, после того как нашел его несостоятельным во всех философски исследованных частях. Таким образом, Бруно действительно признал себя теистом перед трибуналом, хотя он никогда не пользовался этим теистическим пунктом в своей пантеистической системе; но мы должны видеть в этом признании либо белую ложь, либо непобежденный остаток догматического предрассудка, противоречие которого со своими философскими доктринами Бруно либо не осознавал, либо не разъяснял себе. В отличие от антропоморфных и антропопатических народных представлений, философская концепция верховного божественного принципа, сверхбога, всегда мыслилась как сверхличная и безличная, и только в ипостасях этого принципа искали сначала отголоски, а потом архетипы личности; это представление нашло свое окончательное и самое решительное выражение в экхартовской суперарбитрации безличного божества над личным Богом. Теперь эти отношения перевернуты с ног на голову: Высший непознаваемый Принцип должен быть признан личностью, в то время как личность ипостасей рассматривается как несостоятельная, и, в частности, подчеркивается безличность Бога, имманентного миру. Этот поворот означал полное изменение проблемы личности Бога; однако вначале он не выходил на первый план, поскольку личность Бога пока не подвергалась сомнению; но он приобрел непреходящее значение, когда спор по этой проблеме разгорелся на рубеже XVIII и XIX веков. —
Мы возвращаемся к Единому как миру-душе, в котором мы уже признали единую абсолютную субстанцию мира, чтобы теперь также рассматривать его как Принцип и Причину мира (ср. название работы della causa, principio ed uno). То, что феноменальный мир порождается миром-душой, явствует из того, что он не имеет своего принципа в себе, а потому должен иметь его в чем-то другом, и что он не может иметь его ни в чем ином, как во всеобщем, действительно активном или физически действенном существе, в качестве которого мы знаем только всеобщий интеллект, первую и главную силу мира-души. Бруно различает принцип и причину как внутренние и внешние основания; принцип включает в себя материю, форму и цель, в той мере, в какой они действуют изнутри и сохраняются в следствии, причина хозяин и орудие. Понятно, что это различие основано на кажущейся множественности субстанций в феноменальном мире, поскольку причины и условия изменения, происходящего в субстанции, лежат частично в самой этой субстанции, а частично в других субстанциях. Как только мы возвращаемся от множества видимых субстанций к единой субстанции, на которой они все основаны, это различие, естественно, становится недействительным, поскольку все теперь является внутренним. Мир-душа это внутренний принцип или внешняя причина мира, в зависимости от того, рассматривается ли она как имеющая ту же сущность, что и мир, или как отличная от него; так лодочник является частью корабля, на котором он движется, но в то же время отличается от него как рулевой и движитель корабля. Если рассматривать сущностное единство субстанции и случайности, то мировая душа это принцип мира; если рассматривать противоположность субстанции и случайности, того, что порождает, и того, что порождается, то мировая душа это мастер или причина мира. Очевидно, что притча о лодочнике вводит в заблуждение, поскольку лодочник и корабль две иллюзорные субстанции. В Едином, где все противоположности должны быть аннулированы, должно быть также единство сущности и различие существования, так что только имманентная концепция соответствует реальным взглядам Бруно, а не трансцендентная, которая как теистический реминисцент искаженно играет в концепцию мировой души. Инструмент и мастер-ремесленник одинаково плохо вписываются в учение о единой субстанции как натурализующей природе, а вместе с ними становится неприменимой и концепция внешней причины. Фактически Бруно и в дальнейших рассуждениях понимает понятие причины в смысле принципа или внутреннего реального основания и сосредоточивает свое внимание на демонстрации единства четырех аристотелевских άρχαί, принципов, начал или причин в мире-душе.
Ему не составляет особого труда доказать это для внутренне действующей причины, формы и цели, которые уже у Аристотеля и его преемников более или менее перетекают друг в друга. Бруно описывает внутренне действующую причину как органический инстинкт становления, формирования и роста, который в инстинктивной рациональности выполняет свою функцию «внутреннего художника» и тем самым проявляет себя как приведение в действие общего интеллекта мировой души. Бруно не подчеркивает динамический момент в активной причине, поскольку оставляет его отчасти для формальной, а отчасти для материальной причины. Внутренний формообразующий инстинкт не формирует и не действует бесцельно, но его целью является в целом реализация всех возможных форм, в частности, реализация той формы, которую требует гармония целого именно в данный момент. Форма двояка: та, что заложена в вещи, которая держится только на ней, и та, что воплощает ее (идеал) в активном общем разуме, который стремится к ее осуществлению как к цели и достигает ее, формируя ее. Отсюда ясно, что деятельность общего разума мировой души как идеальной формы, как стремящейся к цели ее осуществления и как внутреннего формообразующего инстинкта или действительного осуществления задуманной формы есть одна и та же деятельность, или что три причины в мировой душе совпадают в одну.
В нашей художественной деятельности эти причины расходятся, потому что мы действуем только извне, лишь изменяем поверхность предметов до мертвой видимости форм и дискурсивно раздвигаем наши мысли. Природа же действует из центра вещей и превращает их во всей их массе в одушевленные или живые формы, независимо от того, проявляется ли одушевленная форма объективно в каждой части вещи (например, в каждой части пламени как горящий огонь), или же она проявляется субъективно как душа в целом, структурированном внешне неравномерно. Соответственно, форма всех форм, общая форма вселенной, является также душой мира. Как единство формы, цели и внутреннего формообразующего инстинкта, она является активным принципом мира, природа которого состоит в том, чтобы оказывать определяющее воздействие. Напротив него стоит пассивный принцип мира, чья природа быть определяющей, материя. Вопрос теперь в том, едины ли и в каком смысле активный и пассивный принципы, форма и субстанция, формальная и материальная причина, в мире-душе. Видно, что проблема по-прежнему целиком основана на аристотелевских понятиях активной формы и пассивной субстанции; это происходит потому, что Бруно находится под чарами аристотелевской мысли еще больше, чем он сам считает. Он не сомневается, что материя в земных вещах это пассивная возможность, которая просто страдает, а именно определяется активной, определяющей формой. Он без колебаний продолжает думать вместе с Аристотелем, что понятие субстанции состоит из материи и формы, и то, что он считает неопровержимым для феноменальной субстанции, он хотел бы иметь и для единой абсолютной субстанции, только с той разницей, что в ней, где все противоположности сходятся в одну, это должно быть также и так. Как и в случае с совпадением противоположностей в целом, он также находит единство субстанции и формы, возможности и актуальности, предвосхищенное его кузанским учителем, хотя и в форме, которая переворачивает аристотелевскую концепцию с ног на голову, а именно заменяет пассивную возможность на активную способность. Бруно принимает это решение, не понимая, что оно противоположно предпосылке, на которой основывалась его проблема; он игнорирует ее, изредка замечая, что в Едином пассивная возможность и активная способность одно и то же. Это уравнение не обосновывается далее, а выводится из общего coincidentia oppositorum; но оно требовало бы обоснования именно потому, что уже предвосхищает то, что должно быть доказано (единство активного и пассивного принципа), т. е. контрабандой протаскивает petitio principii.
Следствием того, что материя в бесконечном Едином мыслится как единство активной способности и пассивной возможности, является то, что это определение, отличное от аристотелевского, распространяется и на мирскую материю, где оно вообще не оправдано по принципам Бруно, поскольку coincidentia oppositorum применима только к сфере Абсолюта. Таким образом, понятие мирской материи колеблется у него между «почти ничем» Аристотеля и новоплатоников и отражением сверхчувственной материи в Боге, которая есть единство потенции и возможности, силы и детерминированности. Понятие же сверхчувственной материи в Едином колеблется между понятием потенции, включающим активный принцип формы, совпадающий с активной потенцией, и тем, которое остается противоположным активному принципу формы, а затем снова лишь подчеркивает сторону пассивной возможности. Поскольку материя в мире-душе не отличается от формы, а скорее сама является формой, оправдана и аверроистская точка зрения, согласно которой мирская материя порождает из своего чрева все формы, хотя сама не имеет ни одной. Опасность натурализма, заключенная в этой точке зрения, нивелируется у Бруно тем, что материя в сверхчувственном Едином сама есть сверхчувственное единство с формой, а значит, с душой и духовным. Бруно признается, что некоторое время он считал материю единственной субстанцией вещей, но затем убедился, что наряду с определяемым необходимо предполагать и определяющее, а наряду с пассивным активное, которые, однако, совпадают в Едином. Этот взгляд, однако, включает в себя тот факт, что материя не просто возможность в мирских вещах, но и реальность, что Бруно прямо утверждает, но не может примирить со своим принципом, согласно которому противоположности совпадают только в бесконечном Едином. Не только бесконечное Единое, мир-душа, все, чем она может быть, также реально во все времена, но и единое бесконечное, мир, поскольку в своем бесконечном расширении он охватывает все возможные фазы развития бытия и жизни как одновременно осуществленные и не изменяющиеся в целом. Но то, что относится к миру как к бесконечному целому, не относится, следовательно, и к его бесконечно многим конечным частям; в них возможность и действительность, субстанция и форма никогда не совпадают, и поэтому Бруно неверно рассматривать материю в деталях как возможность и как действительность.
Поскольку материя представляет собой сверхчувственный принцип, совпадающий в Едином с миром-душой, она, естественно, также сверхчувственна в мире как материя, и поэтому только от формы зависит, даст ли конкретное единство этих двух субстанций телесную или бесплотную иллюзорную субстанцию. Иными словами, материя является общей основой как телесных, так и духовных субстанций. Но даже в этом Бруно все еще определяется Аристотелем, поскольку он приравнивает отношения между общим родом и конкретным различием к отношениям между материей и формой.
Бруно придает большое значение своему учению о материи; однако нельзя сказать, что он плодотворно развил семена, заложенные Кузаном, поскольку он скорее вернулся к аверроистскому аристотелизму и стоическому натурализму. Учение о материи в Боге оперирует тремя понятиями реальности, активной способности и пассивной возможности весьма запутанно, поскольку то первые два, то последние два приравниваются друг к другу, а затем выводится уравнение первого и третьего. Предполагается, что высшей силой и активностью, из которой вытекает действенная способность всех других сил, является форма; после этого для материи в Едином остается только пассивная возможность или детерминированность, которая, однако, также предполагается как способность быть вызванной или определенной или произведенной. Непостижимо, как кто-то мог желать прогресса в этом учении о материи в Боге. Для этого прежде всего необходимо провести различие между идеальным самоопределением и внешней реализацией, первое из которых принадлежит идее, или нусу, или логосу, а второе творческой силе, или воле. Детерминант и детерминант в Абсолюте взаимно дополняют друг друга в различных отношениях: первая воля определяет возникновение и продолжение любого процесса детерминации, так что идея, которая должна отдаться этому процессу, является детерминантом; но идея определяет содержание воли, так что она является детерминантом. В мире же отдельные единицы воли и идеи являются одновременно определяющими друг для друга и определяемыми друг через друга; каждая из них действует против своего рода, и каждая испытывает влияние своего рода. То, что является определяющим в одном отношении, должно, следовательно, (в Абсолюте, как и в мире) быть определяемым в другом отношении; каждое из них является полностью и безраздельно определяющим и полностью и безраздельно определяемым, и совершенно ошибочно отличать определяемость и определяемость как два принципа друг от друга, поскольку оба являются только отношениями, причем одними и теми же отношениями, рассматриваемыми с двух сторон. То, что в мировом процессе, это постоянная детерминация, неизменная в течение всего времени; то, что в содержании, это то, что меняется в зависимости от места и времени и поэтому дает о себе знать гораздо более навязчиво. Если последнее вытекает из общего понимания мира-души, то это именно работа формы, а то, что остается в качестве аналога материи в Абсолюте, есть тогда именно воля, или сила, или активная способность к реализации, содержание которой определяется идеальной формой. Однако Бруно делает именно форму активной способностью реализации, лишая тем самым аналог материи в Абсолюте единственного понятия, на котором он мог бы основываться; он подчиняет понятие пассивной возможности как аналога материи в Абсолюте, в то время как единственная пассивная возможность, мыслимая в Абсолюте, это именно логическая возможность идеального развертывания в общем понимании мира-души, которая является самой противоположностью материи.
Таким образом, возвращаясь к аристотелизму, Бруно внес значительный вклад в то, чтобы заново запутать категории абсолюта, а не просветить их. Остатки этой путаницы продолжают сказываться в лейбницевской концепции тела, которое неотделимо от монады. —
Сводя цель мира к тому, что все возможные формы всегда получают реальность, но что эта цель достигается от вечности к вечности в мире, Бруно, с одной стороны, отменяет телеологическое развитие как всеобщее, а с другой стороны, превращает нечто в цель, бесцельность которой очевидна. Если мир изменяется только в своих частях, а в целом остается стабильным, и это состояние закреплено навечно, то всякая деятельность излишня, всякая борьба напрасна, поскольку из нее ничего не получается. Бруно не может скрыть от себя, что полного удовлетворения и насыщения таким образом достичь невозможно, что постоянная борьба достойна сожаления и что путь к истинному и прекрасному можно пройти только через слезы; но он верит, что мы можем забыть о тяготах труда и постоянных переменах перед лицом Того, Кто царит в этих переменах. Это Тот, Кто распознает во всех и вживляет в нас героический дух для продолжения борьбы и героическую любовь. Очень хорошо, если бы мы могли надеяться только на одну цель работы, даже если бы нам пришлось отказаться от ее признания! Но то, что Бруно предлагает нам в качестве цели, есть не что иное, как слепое и безжалостное преследование неразумной воли к жизни, которая постоянно бродит в бесконечной ширине во всех формах одновременно, потому что не может насытиться жизнью, несмотря на все ее невзгоды. Здесь уже предвосхищается спинозизм, как и в объединении свободы и необходимости в Едином, а также в объединении абсолютной субстанции и абсолютного внутреннего реального основания или имманентного причинного принципа. В этом выдвижении категорий субстанции и причины заключается позитивное значение Бруно. В отличие от Бруно, Томас Кампанелла (1568—1639) был настолько верным сыном католической церкви, что хотел подчинить всю науку теологии, а все светские власти вселенской монархии папы. Он делит философию на физику и мораль, или политику, и вставляет метафизику как связующее звено между этой философией и теологией. Логику он рассматривает как вспомогательную науку метафизики, так же как математику как вспомогательную науку физики. В политике он стремился подражать и превзойти платоновское идеальное государство и утопию Томаса Мора с его солнечным государством; в физике он в основном следовал Телезиусу, принимая во внимание Парацельса и Патриция. В теологии он томист, но в определенной степени находится под влиянием Псевдодионисия, и здесь он решительный концептуальный реалист. В эпистемологии он отталкивается от скептиков и их оговорок о возможности знания, почерпнутых из номинализма, но затем стремится построить позитивную теорию знания индуктивно на основе сенсуализма Телезия, не без включения рационалистических элементов, так что можно сказать, что он является таким же предшественником англо-французского сенсуализма, как и рационализма Декарта и его школы.
Если у Бруно абсолютом философской метафизики является мир-душа, которую иногда называют самим Богом, иногда отличают от Бога теологии, то у Кампанеллы мир-душа, как и каждая индивидуальная душа (anima), это божественное дыхание жизни (spiritus) более тонкой, бесплотной телесности, но не духовное существо, как mens в человеке; мир-душа здесь, как у Прокла и Дионисия, уже очень далек от Единого и является лишь низшим из владений для мира ангелов, который сам по себе опять-таки ниже умопостигаемого мира (как у Прокла κόσμος νοερός ниже κόσμος νοητός). Когда Кампанелла говорит о Боге, он имеет в виду просто Единого, вознесенного над всеми этими мирами, которого он, однако, не предполагает считать личным Богом согласно церковной доктрине. Поскольку Бруно философски говорит о бесконечном Едином только как о мировой душе, а Кампанелла всегда ссылается на Бога Церкви, которого Бруно оставляет в стороне, то не Бруно, а Кампанелла является образцом того личного пантеизма, который стремится объединить личное понятие Бога христианской веры со Всеединым философской доктрины имманентности. Если у Фомы и Николая Кузануса эти две стороны еще не вышли так решительно из своего безразличия, то Кампанелла резко определяет и теистическую концепцию Бога в теологии, и пантеизм в философии, последний как слияние неоплатонического абстрактного монизма с натурализмом натурфилософии Телезиуса, а затем сливает их в одно целое. Конечно, он и не подозревал, что делает нечто внутренне противоречивое, и его трудно упрекнуть в этом недостатке, учитывая общую неясность того периода; единственный упрек, который можно предъявить современным людям, это если они упорствуют в своей неясности, несмотря на произошедшее с тех пор прояснение, и ссылаются на Кампанеллу, чтобы затушевать ее.
Кампанелла не является оригинальным ни в натурфилософии3, ни в теологии; оригинальной, однако, является его попытка объединить Фому и Телезия в единое целое, а эпистемология и метафизика, которые он разработал как связующее звено между теологией и натурфилософией, демонстрируют особые черты. По этой причине только эта основная часть его системы заслуживает пристального внимания, так же как только эта часть повлияла на развитие современной философии. —
Органы чувств представляют не сами вещи, а только их образы; глаз воспринимает форму вещей посредством света, который затемняется средствами зрения, как и осязательные формы плоти. Объекты находятся в постоянном движении, как и мы сами, воспринимающие их. Сама душа не знает, что она такое; она ищет себя и не находит, как дурак осла, на котором едет. Не видя себя, она смотрит в окна своих глаз и спрашивает других, что она такое. Реально только то, что действует на нас; но мы даже не знаем, реальны ли объекты чувственного восприятия, ведь они кажутся разным людям и, следовательно, должны оказывать разное воздействие на разных людей. Таковы основные причины для сомнения во всяком познании, признанные философами.
Однако Кампанелла не останавливается на этом сомнении, которое является отправной точкой исследования, а прокладывает путь к позитивному познанию через субъективную уверенность внутреннего опыта. Сомневающегося достаточно ударить, и он узнает, что чувствует боль, или, по крайней мере, узнает, что ему кажется, будто он чувствует боль. «Для меня самое определенное это то, что я… Если вы отрицаете это и говорите, что я обманываю себя, вы, очевидно, признаете, что это так; ибо я не могу обманывать себя, если я не обманываю себя». Это учение святого Августина, на которое Кампанелла, как и Кузан, ссылается. Он представляет его как несомненное и как самое определенное, что мы есть и можем знать и желать, и объявляет это первым принципом.
Во-вторых, добавляется, что мы есть нечто, но не все, и что мы можем знать и хотеть, то есть осознавать свою ограниченность в бытии и способностях. Третий принцип учит, что мы можем знать и желать другие вещи только потому, что мы можем знать и желать самих себя, потому что мы сами могущественны; например, мы можем поднять гирю, потому что у нас есть своя гиря и мы сами можем ее поднять и сдвинуть. В отношении этих принципов не может быть никаких разногласий.
То, что всякое знание исходит из самопознания, остается верным, даже если мы не верим, что узнаем себя; ведь внешнее чувство скрывает внутреннее, или восприятие внешних вещей скрывает и вуалирует от нас самовосприятие, на котором оно основано, превращая душу в некое подобие воспринимаемых вещей и делая признание собственной души «скрытым сознанием». Всякое знание и воление другого есть, в конце концов, лишь знание и воление собственного «я», как того, что привязано к другому или подвержено его влиянию. Чтобы развеять сомнения, с которых он начал, он также использует фразу о том, что Бог не может лгать. Во всем этом он является предшественником Декарта.
Но в противоположность этой рационалистической отправной точке, с которой согласуется и его теоретический концептуальный реализм, его теория познания очень скоро уклоняется в сторону чувственности Телезиуса, причем развивает ее так подробно, что уже не оставляет места для англо-французского сенсуализма. Он отрицает активный разум аристотеликов, а также врожденные понятия и воспоминания платоников, и выводит все знания из чувства, различая внешнее и внутреннее чувство, чувство вещей и чувство себя. В уме нет ничего, что не было бы в нем раньше. Душа, или теплый, легкий, подвижный нервный дух, должна быть физической, чтобы ее можно было затронуть физическими движениями; изменения, которые на нее наложили отпечаток, остаются в ней, как шрамы, которые приводят к воспоминаниям, когда на них снова воздействуют. Впечатления, получаемые чаще всего, становятся более глубокими, отсюда и более прочное сцепление общих идей. Посредством сходства мы восходим от известного к неизвестному, что мы называем дедукцией; мы читаем, например, скрытую внутренность в вещах по их внешнему виду, и это чтение между строк впечатлений (interligere = intelligere) мы называем пониманием. Таким образом, мышление это менее яркое восприятие на расстоянии; понимание естественное следствие памяти и воображения.
Мы должны объединить множество чувственных впечатлений об одной и той же вещи, потому что именно одно чувство, то есть собственно (нервный) разум, видит, слышит, обоняет, вкушает, чувствует и мыслит; мы называем воссоединение того, что разделено, разделением чувства посредством его органов субстанцией. (Кант впервые выводит единство материи из единства сознания). Восприятие это не просто страдание, но и деятельность, а именно суждение о полученном впечатлении и о характере страдания, которое оно вызывает в душе; внутреннее чувство судит об аффекте внешнего чувства. Кампанелла, однако, не придерживается единообразного характера материалистического сенсуализма; помимо смертной души (anima) или просто чувствующего и воображающего нервного ума, он предполагает бессмертную душу (mens) или мыслящий разум, который даже должен сообщать свое мышление нервному уму и который тогда очень похож на отвергаемый им активный ум. Позднейшему чувственному восприятию нужно было только избавиться от таких пережитков прошлого. Мы должны философствовать под руководством органов чувств; их познание наиболее достоверно, поскольку происходит в присутствии объекта. От известного мы должны восходить к неизвестному, от следствий к причинам, от видимости вещей к их сущности, от отдельных истин к общим. Силлогистические доказательства из определений имеют лишь формальное значение, поскольку они уже предполагают общие истины, которые должны быть сначала выведены из отдельных истин путем индукции. Таким образом, требование индуктивного метода проявляется в Кампанелле с полной силой, но без его попытки методологически разработать его и затем применить практически; он сам еще слишком глубоко увяз в средневековых взглядах и привычках мышления, так что он только смотрит вперед на новую науку, не вступая на ее территорию. —
Вместо десяти аристотелевских категорий Кампанелла помещает другую десятичастную таблицу: i. substantia, 2. quantitas, 3. forma seu figura, 4. vis vel facultas, 5. operatio seu actus, 6. actio, 7. passio, 8. similitudo, 9. dissimilitudo, 10. circumstantia. Разница меньше, чем кажется. Десятая категория, circumstantia или ближайшие обстоятельства, включает в себя, согласно его собственному объяснению, четыре аристотелевские категории, а именно: где и когда, положение и отношение. Третья категория называется формой или фигурой, чтобы отличить и отделить существенную, определяющую и конституирующую природу субстанции от изменяющихся чувственных качеств. Восьмую и девятую категории сходства и различия он определяет как действие или влияние единства или участия, или раздельности, и позволяет им проходить через все категории под разными именами. Четвертая и пятая категории переносят противопоставление динамиса и энергии или потенции и акта в таблицу категорий, которую Аристотель поместил перед и над категориями. Таким образом, Кампанелла, с одной стороны, расширяет понятие категорий, а с другой объединяет несколько в одну.
Он делит категорию субстанции на три подкатегории: 1. пространство, как то, что лежит в основе совокупности тел; 2. бесформенная материя, как то, что лежит в основе сформированных вещей; 3. отдельные вещи, как то, что лежит в основе их принадлежностей. Таким образом, понятие субстанции все еще понимается им в физических или, по крайней мере, чувственных терминах, тогда как Бруно уже возвысил его до сверхчувственной сферы бесконечного Единого. Это отклонение объясняется тем, что Кампанелла понимает мир-душу как телесную, а Бруно как бесплотную, и что оба они считают Бога теологии сверхсущностным, за исключением того, что для Бруно он пятое колесо в телеге, а для Кампанеллы все во всем. В десяти категориях Кампанелла хочет дать только категории мира чувств, но в порядке категорий он также хочет указать путь разворачивания. Пространство сгущается в неопределенную материю, материя конкретизируется через развертывание существенных форм в вещи, в которых неопределенное количество материи ограничено детерминированным. Форма изначально является просто динамикой или потенцией, но она постоянно разворачивается во внутреннюю активность и через это поддерживает сущее в его существовании. Энергия самоопределения, как самосохранения, обязательно выходит за пределы сугубо внутренней сферы и становится действием или внешним воздействием на других, что соответствует страданию последних. Единство и разделение, участие и отсутствие общего вот что определяет сходство и различие, а значит, влияет и на отношения, которые не принадлежат сущности самой вещи, а возникают в ней лишь благодаря организации непосредственных обстоятельств. Примечательным здесь является дедуктивный ход движения мысли, который не соответствует методологическим индуктивным принципам Кампанеллы. Теперь Кампанелла предваряет эти категории разумного или принципы бытия принципами сущности или трансцендентальными первоосновами. Через эти принципы все существующее изначально эссенциализировано (unde ens primitus essentiatur). Термин «трансцендентное* здесь означает наиболее универсальную общность всех вещей, стоящих в единстве (т. е. их отношение к Всеединому). Между трансцендентными принципами и десятью категориями он вставляет субтрансцендентные (например, hoc, illud, aliquid, res), но, похоже, не придает им никакого значения. Принципы касаются отчасти «того», отчасти «чего» вещей; в первом случае это бытие и небытие или ничто, во втором три первоосновы бытия: Способность, Знание и Воля, или Сила, Мудрость и Любовь, и три соответствующие отрицательные детерминации небытия: Беспомощность, Невежество и Ненависть. Эти принципы должны проявляться, с одной стороны, во всех вещах этого мира как основные детерминации их сущности, а с другой в абсолютном бытии как основные детерминации Бога.





