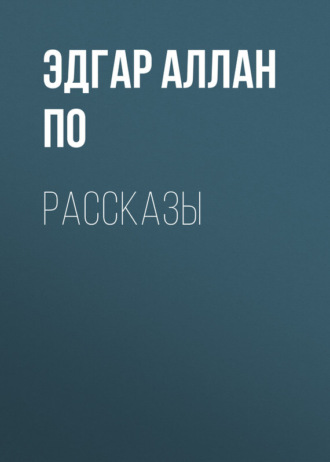
Эдгар Аллан По
Рассказы
Различные обстоятельства, последовавшие за припадком Уайта, усилили мое недоумение и любопытство. Среди прочего упомяну следующее: нервы мои расходились, я пил слишком много зеленого чая и плохо спал по ночам, точнее говоря, две ночи вовсе не спал. Каюта моя сообщалась с главной каютой или столовой, так же как помещение остальных одиноких пассажиров. Три каюты Уайта помещались в заднем отделении, сообщавшемся со столовой посредством задвижной двери, никогда не закрывавшейся даже на ночь. Так как мы постоянно шли под ветром, и довольно сильным, то корабль накренялся на подветренную сторону. Когда на подветренной стороне оказывался правый борт, задвижная дверь между каютами открывалась и оставалась в таком виде, так как никто не брал на себя труда закрыть ее. Когда моя дверь была открыта (а она всегда была открыта вследствие духоты), я мог с своей койки видеть все, что происходило в заднем отделении, именно в той части его, где находились каюты мистера Уайта. И вот я дважды в бессонные ночи (последовавшие одна за другой) видел, как миссис Уайт, около одиннадцати часов, прокрадывалась из каюты мужа в запасную каюту, где и оставалась до утра, когда возвращалась обратно в каюту Уайта. Очевидно, они фактически разошлись и занимали отдельные каюты в ожидании формального развода. Так объяснилась мне тайна лишней каюты.
Было и другое обстоятельство, крайне заинтересовавшее меня. Оба раза, в упомянутые бессонные ночи, тотчас по удалении миссис Уайт в запасную каюту, внимание мое было привлечено странным, осторожным, глухим шумом в каюте ее мужа. Прислушиваясь с напряженным вниманием, я. наконец, объяснил себе причину этих звуков. Они происходили оттого, что Уайт открывал продолговатый ящик с помощью долота и молотка, обвернутого какой-нибудь мягкой шерстяной или бумажной материей, чтобы заглушить шум.
Я мог даже, как мне казалось, определить момент, когда крышка была снята и положена на нижнюю койку; это я узнал по легкому стуку крышки о деревянные края койки, хотя Уайт старался положить ее как можно тише. После этого наступала мертвая тишина, и оба раза я не слыхал ничего до самого рассвета, если не считать легких и слабых звуков, напоминавших глухое подавленное рыдание или вздохи и, по всей вероятности, порожденных моим воображением. Я говорю, что они походили на рыдания или вздохи, но, разумеется, ни тех ни других не могло быть. Я склонен думать, что у меня просто шумело в ушах. Без сомнения, Уайт предавался в это время артистическому восторгу, такие припадки случались с ним часто. Он открывал ящик, чтобы насладиться созерцанием художественного сокровища. Тут не было повода для рыданий. Повторяю, эти звуки были порождением моей фантазии, расстроенной зеленым чаем добрейшего капитана Гарди. Перед самым рассветом мистер Уайт закрывал ящик и вколачивал гвозди на прежние места. Затем он выходил из каюты одетый и стучался к миссис Уайт, которая и возвращалась к нему.
Мы были уже неделю в море и миновали мыс Гаттерас, когда поднялся страшный ветер с юго-запада. Мы до некоторой степени приготовились к этому, так как погода хмурилась в течение последних дней. Паруса были убраны сверху донизу, и так как ветер крепчал, то мы, наконец, легли в дрейф, оставив только контр-бизань и фок-зейль на двойных рифах.
В таком положении мы оставались двое суток, выдерживая бурю довольно благополучно. Судно оказалось превосходным и ни разу не черпнуло воды. В конце концов, однако, ветер превратился в ураган, наш задний парус изорвало в клочки, и ряд чудовищных валов окатил палубу. При этом мы потеряли трех матросов, камбуз и почти всю обшивку левого борта. Не успели мы прийти в себя, как передний парус тоже был сорван. Тогда мы подняли шторм-стаксель и в течение нескольких часов кое-как справлялись с волнением.
Ураган, однако, свирепствовал по-прежнему, и не было надежды на затишье. На третий день около пяти часов пополудни свалилась бизань-мачта. Более часа мы тщетно старались отделаться от нее, чтобы уменьшить страшную качку, но прежде чем нам удалось это, в трюме набралось на четыре фута воды. В довершение всего помпы испортились и почти не действовали.
Поднялась страшная суматоха, пассажиры были в отчаянии, однако мы попытались облегчить корабль, выбросив за борт весь груз, который могли достать, и срубив две остальные мачты. Это нам удалось, но с помпами мы не могли справиться, а между тем вода быстро прибывала.
На закате ветер значительно ослабел, волнение уменьшилось, и у нас явилась слабая надежда на спасение в лодках. В восемь часов вечера тучи рассеялись, и показалась полная луна, немало ободрившая нас.
После невероятных усилий мы спустили большую шлюпку, в которую уселись матросы и большая часть пассажиров. Они отплыли немедленно и, претерпев немало лишений, добрались благополучно до Окракок-Инлет на третий день после кораблекрушения.
Капитан с тринадцатью пассажирами остался на корабле, решив доверить свою судьбу маленькой шлюпке, находившейся на носу. Мы спустили ее без особенных затруднений, хотя я считаю истинным чудом, что она не перевернулась, очутившись на поверхности моря. В ней поместились капитан с женой, мистер Уайт со своими спутницами, мексиканский офицер с женой и четырьмя детьми, я и слуга-негр.
По недостатку места мы могли захватить с собой только самые необходимые инструменты, немного провизии и платье, которое было на нас. Никому и в голову не пришло пытаться спасти что-нибудь из вещей. Каково же было наше изумление, когда на расстоянии нескольких фадомов от корабля мистер Уайт встал и объявил капитану Гарди, что лодка должна вернуться и захватить его длинный ящик.
– Садитесь, мистер Уайт, – отвечал капитан довольно резко, – вы опрокинете лодку, если не будете сидеть смирно. Мы и так уже в воде по самые борта.
– Ящик! – воскликнул Уайт. – Говорю вам, ящик! Капитан Гарди, вы не можете, вы не захотите отказать мне. Он весит немного, пустяки, чистые пустяки. Именем матери, родившей вас, именем любви Божией и надежды на спасение умоляю вас вернуться за ящиком.
По-видимому, капитан был тронут этой страстной мольбой художника, но тотчас оправился и сурово ответил:
– Мистер Уайт, вы сумасшедший. Я не могу послушаться вас. Садитесь или вы опрокинете лодку. Стой… держите… схватите его, он бросится за борт!.. Ну… так и знал… бросился!
Действительно, Уайт выскочил в море и, так как мы находились с подветренной стороны корабля, успел добраться до него с почти нечеловеческими усилиями и схватиться за канат, висевший с палубы. Секунду спустя он был на корабле и, как сумасшедший, ринулся в свою каюту.
Тем временем нас отнесло за корму корабля, и мы сделались игрушкой бурного моря. Мы напрягали все усилия, стараясь вернуться к кораблю, но наша лодка носилась, как перышко, по воле ветра. Мы убедились, что участь несчастного художника решена.
Нас относило все дальше и дальше, когда мы увидели сумасшедшего (я не мог иначе объяснить его поступок), который показался на палубе, таща с собою, с поистине гигантской силой, продолговатый ящик. Вне себя от изумления, мы видели, как он обмотал веревкой сначала ящик, потом себя самого. Еще минута, и ящик и тело были в море и разом пошли ко дну.
В течение некоторого времени мы словно замерли, не спуская глаз с того места, где исчез несчастный. Потом налегли на весла и отплыли от корабля. Молчание длилось около часа. Наконец, я решился нарушить его.
– Заметили вы, капитан, как быстро они пошли ко дну? Не правда ли, странная вещь? Я, признаться, еще не терял надежды на его спасение, видя, что он привязал себя к ящику.
– Немудрено, что они пошли ко дну, – возразил капитан. – Они всплывут опять, но не прежде, чем растает соль.
– Соль?! – воскликнул я.
– Тсс!.. – отвечал капитан, указывая на жену и сестер покойного. – Мы поговорим об этом в более удобное время.
Мы испытали много лишений и едва ускользнули от гибели; но судьба сжалилась над нами, как и над нашими товарищами в большой шлюпке. После четырехдневных страданий мы высадились, полумертвые от истощения, на берегу против Рок-Айленда. Тут мы провели неделю и, наконец, нашли случай добраться до Нью-Йорка.
Спустя месяц после кораблекрушения я встретился с капитаном Гарди на Бродуэй. Мы, естественно, разговорились об этом печальном приключении и в особенности о жалкой участи бедняги Уайта. Капитан сообщил мне следующие подробности.
Художник взял каюты для себя, жены, двух сестер и горничной. Жена его была действительно редкая красавица и умница. Утром 14 июня (в тот день, когда я впервые явился на корабль) она внезапно заболела и умерла. Молодой муж почти помешался от горя, но обстоятельства не позволяли ему отложить путешествие в Нью-Йорк. Необходимо было доставить тело его обожаемой жены ее матери, а с другой стороны – предрассудки не давали ему возможности сделать это открыто. Девять десятых пассажирок скорее отказались бы от путешествия, чем поехали в обществе мертвого тела.
В этом затруднительном положении капитан Гарди посоветовал набальзамировать тело и, уложив его в соответственных размеров ящик, засыпать солью и везти под видом багажа. Никто не знал о смерти миссис Уайт, но всем было известно, что она должна ехать с мужем. Ввиду этого необходимо было, чтобы кто-нибудь взял на себя ее роль во время переезда. Горничная покойной согласилась на это. Лишняя каюта, предназначавшаяся для нее, так и осталась за нею.
В ней мнимая жена проводила ночи; днем же исполняла, как умела, роль дамы, с которой никто из пассажиров не был знаком. Мои недоразумения, естественно, объясняются моим легкомыслием, любопытством и стремительностью. Но как-никак теперь я плохо сплю по ночам. Я вижу лицо, которое преследует меня неотвязно. Слышу истерический смех, который вечно будет звучать в моих ушах.
Преждевременное погребение
Есть темы, представляющие глубокий интерес, но слишком ужасные, чтобы служить предметом вымысла. Романист должен избегать их, если не хочет возбудить отвращение или оскорбить читателя. Мы можем затрагивать их лишь в тех случаях, когда их освящает суровое величие истины. Мы читаем с дрожью «мучительного наслаждения» о переходе через Березину, о лиссабонском землетрясении, о лондонской чуме, о кровавой Варфоломеевской ночи, о гибели ста двадцати трех пленных в Черной Яме в Калькутте. Но в этих рассказах нас трогает факт – быль – история. Будь это выдумки, – они внушили бы нам отвращение.
Я перечислил некоторые из самых громких, самых трагических катастроф, занесенных в летописи человечества; но во всех этих случаях размеры бедствия усиливают его мрачный характер. Вряд ли нужно напоминать читателю, что в длинном и зловещем списке человеческих бедствий найдутся отдельные случаи, полные несравненно более жестоких страданий, чем всенародные бедствия. И слава милосердому богу, что случаи эти нечеловеческой муки выпадают на долю единиц, а не масс!
Быть погребенным заживо, без сомнения, одна из ужаснейших пыток, какие когда-либо приходилось испытывать смертному. Ни один разумный человек не станет отрицать, что это случается часто, и очень часто. Границы между жизнью и смертью нечто неопределенное и смутное. Кто скажет, где кончается одна и начинается другая? Мы знаем, что при некоторых болезненных состояниях совершенно прекращаются все видимые жизненные функции, хотя на самом деле это прекращение только временная приостановка, минутная задержка в непонятном механизме человеческого тела. Проходит известный срок времени, и какой-то невидимый таинственный закон снова пускает в ход волшебные рычаги и магические колеса. Серебряная нить не порвана, золотой кубок не разбит навсегда. Но где же пребывала душа в это время?
Независимо от неизбежного заключения a priori, что одинаковые причины ведут к одинаковым следствиям, что случаи временного прекращения жизненных функций должны приводить иногда к погребениям заживо, независимо от этих отвлеченных соображений, прямое свидетельство медиков и опыта доказывает, что такие погребения бывали не раз. Я мог бы, в случае надобности, привести не менее сотни вполне достоверных примеров. Одно весьма замечательное происшествие в этом роде, обстоятельства которого, быть может, еще свежи в памяти некоторых моих читателей, случилось не так давно в Балтиморе и произвело сильное и тягостное впечатление в обширном кругу публики. Жена одного из самых уважаемых граждан – известного адвоката и члена парламента – внезапно заболела какой-то странной болезнью, сбивавшей с толку врачей. После тяжких страданий она умерла, или была сочтена умершей. Никому в голову не пришло – да и не могло придти – что она жива. Все признаки трупа были налицо. Черты лица обострились и ввалились. Губы побелели. Глаза угасли. Пульс прекратился. Тело охладилось, и, в течение трех дней, пока лежало непогребенным, успело окоченеть, как камень. В виду быстрого наступления того, что казалось разложением, похороны были ускорены.
Покойницу положили в семейном склепе, который в течение трех последующих лет ни разу не отпирался. По истечении этого срока его открыли для помещения саркофага; но, увы! какой страшный удар ожидал мужа, который сам отворил дверь. Когда он распахнул ее половинки, отворяющиеся наружу, кто-то в белой одежде повалился к нему на грудь. Это был скелет его жены, в еще не истлевшем саване.
Тщательное исследование показало, что она очнулась дня через два после погребения, – билась в гробу, пока он не свалился с катафалка, при чем раскололся, так что она могла выйти. Масляная лампа, случайно забытая в склепе, оказалась совершенно пустой: может быть, впрочем, все масло улетучилось вследствие испарения. На верхней ступеньке лестницы, у входа в склеп валялся осколок гроба: повидимому, она стучала им в железную дверь. Тут она упала в обморок, а может быть, и умерла от страха; падая, зацепилась саваном за дверь, и в этом положении осталась, и истлела.
В 1810 году случай погребения заживо имел место во Франции при обстоятельствах, которые вполне оправдывают поговорку: правда чудеснее выдумки. Героиня происшествия – M-lle Викторина Лафуркад, молодая девушка знатной фамилии, богатая и красавица. В числе ее поклонников был некто Жюльен Боссюет, бедный парижский litterateur, или журналист. Его таланты и достоинства завоевали ему благосклонность красавицы, но родовая гордость заставила ее отклонить предложение Боссюета и выйти за некоего Ренелля, банкира и довольно известного дипломата. Однако, после свадьбы этот господин стал относиться к ней очень небрежно, чуть ли даже не колотил ее. Прожив с ним несколько лет, она умерла, – по крайней мере, впала в состояние, ничем не отличающееся от смерти. Ее похоронили, – не в склепе, а в обыкновенной могиле, на кладбище ее родной деревни. Терзаясь отчаянием, до сих пор верный своей любви, Жюльен приезжает в деревню из Парижа с романтическим намерением вырыть из могилы тело и взять себе на память роскошные волосы красавицы. Ночью он является на кладбище, разрывает могилу, открывает гроб и видит, что глаза покойницы открыты. Оказалось, что ее похоронили живою. Жизненные силы не исчезли; ласки возлюбленного пробудили ее от летаргии, которую приняли за смерть. Он отнес ее в гостиницу, и, с помощью сильных укрепляющих средств (он обладал большой начитанностью по части медицины) окончательно оживил ее. Она узнала своего избавителя и оставалась у него до выздоровления. Женское сердце ее не было каменным, этот последний урок любви смягчил его. Она отдала его Боссюету и не возвращалась более к супругу, но, скрыв от него свое воскресение, бежала с возлюбленным в Америку. По истечении двадцати лет они вернулись во Францию, в надежде, что время изменило ее до неузнаваемости. Однако, они ошиблись в расчете: при первой же встрече г. Ренелль узнал свою жену и потребовал ее к себе. Она отказалась, а суд решил, что, в виду исключительных обстоятельств и за давностью дела, права мужа по справедливости и по закону следует считать прекратившимися.
Лейпцигский «Хирургический Журнал» – весьма ценный и важный научный сборник, который следовало бы какому-нибудь американскому книгопродавцу издавать в переводе на наш язык – сообщает об очень печальном случае того же рода.
Один артиллерийский офицер, мужчина громадного роста и железного здоровья, упал с лошади и ушиб голову так, что лишился чувств. Череп был слегка поврежден, однако, рана оказалась неопасной. Трепанация удалась. Были приняты все меры к исцелению пострадавшего. Тем не менее он все более и более впадал в летаргию и, наконец, был сочтен за умершего.
Погода стояла жаркая, и покойника схоронили с почти неприличной торопливостью на одном общественном кладбище. Похороны состоялись в четверг. В воскресенье на кладбище собралось много посетителей. Около полудня один из них возбудил общее волнение, заявив, что, когда он сидел на могиле офицера, насыпь зашевелилась, как будто покойник бился в гробу. Сначала никто не поверил этому заявлению, но непритворный ужас рассказчика и настойчивость его подействовали на толпу. Тотчас достали заступы и поспешно разрыли неглубокую и кое-как забросанную могилу. Офицер был или казался мертвым, но он не лежал, а сидел в гробу, крышку которого успел приподнять в своей отчаянной борьбе.
Его отнесли в ближайший госпиталь, где врачи об'– явили, что он еще жив. Спустя несколько часов офицер очнулся, узнал своих знакомых и кое-как рассказал о своей агонии в гробу.
Из рассказа его выяснилось, что он не менее часа провел в гробу, очнувшись, – прежде чем потерял сознание.
Гроб был засыпан очень небрежно, и воздух, по всей вероятности, проникал сквозь рыхлую землю. Он слышал шаги посетителей над своего головой и сам старался привлечь их внимание. Вероятно, этот шум на кладбище и разбудил его от летаргии, но, очнувшись, он тотчас же понял весь ужас своего положения.
Этот больной поправлялся довольно быстро и был уже близок к полному выздоровлению, но погиб жертвой медицинского шарлатанства. Его вздумали лечить электричеством, и он испустил дух в пароксизме, вызванном гальванической батареей.
По поводу гальванической батареи я вспомнил известный и весьма замечательный случай, когда этот аппарат возвратил к жизни молодого лондонского стряпчего, пролежавшего в могиле двое суток.
Этот господин, мистер Эдуард Степльтон, умер (по-видимому) от тифозной горячки, сопровождавшейся необычайными симптомами, возбудившими любопытство врачей. После его кажущейся смерти они обратились к родным покойного с просьбой разрешить исследование post mortem, но получили отказ. Как это часто бывает в подобных случаях, они решились вырыть труп из могилы и анатомировать его потихоньку. Сговорились с похитителями трупов, которых всегда много в Лондоне; и на третью ночь после погребения, предполагаемый труп был вырыт из глубокой, в восемь футов, могилы и доставлен в препаровочную одного частного госпиталя.
Был уже сделан надрез в области желудка, когда свежий, без всяких признаков разложения, вид тела навел на мысль применить гальваническую батарею. Ряд опытов сопровождался обычными явлениями, не представлявшими ничего особенного; только раз или два замечено было, что судорожные движения казались более, чем обыкновенно, жизненными.
Время шло. Утро было близко, так что врачи решили, наконец, приступить к вскрытию. Однако, один студент, желая проверить какую-то свою теорию, убеждал сделать еще опыт, приложив батарею к одному из грудных мускулов. Сделали надрез, и, лишь только приложили проволоку, мертвец быстрым движением поднялся со стола, соскочил на пол, бросил вокруг себя беспокойный взгляд и заговорил. Слов его нельзя было попять, но ясно было, что это слова, членораздельные звуки. Проговорив их, он тяжело повалился на пол.
В первую минуту все оцепенели от страха, но скоро опомнились. Очевидно мистер Степльтон был жив, хотя в обмороке. Нашатырный спирт скоро привел его в чувство, затем он быстро поправился и вернулся в общество своих друзей, от которых, однако, скрывали факт его оживления, пока не исчезла всякая опасность рецидива. Можно себе представить их удавление – их несказанное изумление.
Но самая поразительная особенность этого случая заключается в воспоминаниях мистера Степльтона. По его словам, он ни минуты не терял сознания вполне; смутно и неясно, но он сознавал все, что с ним случилось с того момента, когда врачи произнесли умер, до той минуты, когда он упал без чувств в госпитале. «Я жив», – вот слова, которые он пытался произнести, очнувшись в препаровочной.
Не трудно было бы увеличить число подобных историй, но я воздерживаюсь от этого, так как и без того можно считать доказанным, что погребения заживо иногда случаются. Если принять в расчет, как редко по самой природе своей подобные случаи доходят до нашего сведения, то придется допустить, что они могут часто случаться без нашего ведома. И в самом деле, вряд ли можно указать хоть один случай раскопки кладбища, при котором не были бы найдены скелеты в позах, наводящих на самые ужасные подозрения.
Подозрения ужасны, но еще ужаснее самая казнь! Можно смело сказать, что ни одно положение не связано с таким адским телесным и душевным состоянием, как погребение заживо. Невыносимая тяжесть в груди, удушливые испарения сырой земли, тесный саван, жесткие объятия узкого гроба, черная непроглядная тьма, безмолвие, точно в морской пучине, невидимое, но ощутимое, присутствие победителя-червя, мысль о воздухе и траве наверху; воспоминание о друзьях, которые могли бы спасти вас, если бы узнали о вашем положении; уверенность, что они никогда не узнают; что ваша участь – участь подлинного трупа, – все это наполняет еще бьющееся сердце таким неслыханным, невыносимым ужасом, какого не в силах себе представить самое смелое воображение. Мы не знаем большей муки на земле и не можем представить себе ужаснейшей казни в глубочайших безднах ада. Понятно, что рассказы на эту тему представляют глубокий интерес, который, однако, в силу благоговейного ужаса, возбуждаемого самой темой, всецело зависит от нашего убеждения в истине рассказа. То, что я намерен рассказать, заимствовано из моих собственных воспоминаний, из моего личного опыта.
В течение нескольких лет я был подвержен припадкам странной болезни, которую врачи прозвали каталепсией за неимением более определенного названия. Хотя и отдаленные, и непосредственные причины, равно как и диагноз этого недуга, еще остаются тайной, но ее главные и второстепенные признаки довольно хорошо исследованы. По-видимому, они изменяются только по степени. Иногда пациент впадает в летаргию на день или даже на меньший срок. Он лежит без чувств, без движения, но слабые биения сердца еще заметны; остаются некоторые следы теплоты; легкий румянец окрашивает середину щек; а приставив зеркало к губам, можно заметить неровную, медленную, слабую деятельность легких. Но бывает и так, что припадок длится недели, даже месяцы, и в такой форме, что самое строгое медицинское исследование не откроет ни малейших признаков различия между этим состоянием и тем, которое мы признаем безусловною смертью. Обыкновенно такой пациент избегает преждевременного погребения только потому, что друзья его знают о прежних припадках, что вследствие этого у них возникает сомнение, особливо, если нет признаков разложения. К счастию, болезнь эта овладевает человеком постепенно. Первые проявления, хотя и мало заметны, имеют уже недвусмысленный характер. Мало-помалу припадки становятся все резче и резче и, с каждым разом, тянутся дольше. Это обстоятельство – главная гарантия против погребения. Несчастный, у которого первый припадок имел бы острый характер, наблюдаемый в крайних степенях болезни, был бы почти неизбежно осужден лечь живым в могилу.
Моя болезнь не отличалась сколько-нибудь значительно от описанных в медицинских книгах. По временам я без всякой видимой причины впадал, мало-помалу, в состояние полулетаргии, или полуобморока; и в этом состоянии, не чувствуя никакой боли, лишенный способности двигаться или, вернее сказать, лишенный способности думать, но со смутным летаргическим сознанием своего существования и присутствия лиц, окружавших мою постель, я оставался до тех пор, пока кризис разом восстановлял мои силы. Иногда же болезнь поражала меня быстро и неотразимо. На меня находила слабость, столбняк, озноб, головокружение, и я лишался чувств. Затем по целым неделям вокруг меня была пустота, тьма, безмолвие, и вселенная превращалась в ничто. Словом, наступало полное небытие. От этих припадков я оправлялся тем медленнее, чем быстрее они наступали. Как заря для бесприютного, одинокого странника, блуждающего по улицам в долгую тоскливую зимнюю ночь, так же медленно, так же лениво, так же отрадно возвращался ко мне свет сознания.
Помимо этих припадков мое здоровье, по-видимому, не ухудшилось; я не замечал, чтобы они сопровождались какими-либо болезненными явлениями, если не считать особенности моего сна. Пробудившись, я никогда не мог сразу овладеть моими чувствами и в течение нескольких минут оставался в самом растерянном и нелепом состоянии; душевные способности вообще, а память в особенности, совершенно отсутствовали.
Я не испытывал никаких физических страданий, но бесконечное душевное расстройство. Мое воображение бродило по склепам. Я толковал «о червях, могилах и эпитафиях». Я только и думал о смерти, и мысль о погребении заживо преследовала меня неотступно. Ужасная опасность, которой я подвергался, не давала мне покоя ни днем, ни ночью. Днем она терзала меня нестерпимо, ночью еще нестерпимее. Когда зловещая тьма окутывала землю, я дрожал под гнетом ужасной мысли, дрожал, как перья на погребальной колеснице. Когда природа уже не могла переносить бодрствования, я все– таки не без борьбы поддавался сну, так пугала меня мысль проснуться в могиле. И когда, наконец, сон овладевал мною, я переносился в царство призраков, над которым простирала широкие траурные крылья все та же мысль о могиле.
Из бесчисленных мрачных видений, угнетавших меня во сне, приведу для примера только одно. Мне казалось, будто я впал в каталептический сон, более глубокий и продолжительный, чем обыкновенно. Вдруг ледяная рука коснулась моего лба, и нетерпеливый невнятный голос шепнул мне: «вставай!»
Я сел на кровати. Тьма была кромешная. Я не мог рассмотреть фигуру того, кто разбудил меня. Не мог вспомнить, когда со мной случился припадок, и где я нахожусь. Между тем как я сидел неподвижно, стараясь собраться с мыслями, та же холодная рука крепко схватила меня немного повыше кисти, нетерпеливо тряхнула мою руку, и тот же дрожащий голос прошептал:
– Вставай! Ведь я же велел тебе вставать.
– А кто ты такой? – спросил я.
– У меня нет имени в тех областях, где я обитаю, – печально отвечал он, – я был смертный, теперь я дух. Я был безжалостен, теперь я сострадателен. Ты чувствуешь, что я дрожу. Мои зубы стучат не от холода этой ночи, этой бесконечной ночи. Но это отвратительное зрелище невыносимо. Как можешь ты спокойно спать? Крики этой агонии не дают мне покоя. Я не в силах выносить это зрелище. Вставай! Пойдем, я открою перед тобой могилы. Это ли не зрелище скорби, смотри!
Я взглянул, и невидимая фигура, все еще державшая меня за руку, открыла передо мной могилы всего человечества. Из каждой исходил слабый фосфорический свет гниющих тел, так что я мог рассмотреть глубочайшие склепы, и увидел скорченные трупы в их печальном и торжественном сне в обществе могильного червя. Но увы! Спящих оказалось на много миллионов меньше, чем таких, которые вовсе не спали; отовсюду долетали звуки слабой борьбы, чуялось общее тоскливое беспокойство, из бездонных колодцев доносился печальный шорох саванов, да и те, кто лежал спокойно, в большей или меньшей степени изменили неловкие и неестественные позы, в которых были погребены. И снова голос шепнул мне:
– Это ли, о, это ли не зрелище скорби? – Но прежде чем я успел что-нибудь ответить, фигура выпустила мою руку, фосфорический свет угас, могилы разом захлопнулись и из них вырвался отпаянный вопль множества голосов:
– Это ли, о, господи, это ли не зрелище скорби?
Эти ночные кошмары оказывали ужасное влияние и на
часы моего бодрствования. Нервы мои совершенно расстроились, и я сделался жертвой беспрерывного страха. Я боялся ездить верхом, гулять, боялся всякого развлечения, ради которого нужно было выходить из дома. Я не решался оставить общество лиц, которым были известны мои припадки, так как, случись подобный припадок в их отсутствии, меня бы могли похоронить заживо. Я сомневался в заботливости и верности лучших друзей моих. Я боялся, что в случае, если припадок затянется дольше, чем обыкновенно, они, наконец, сочтут меня умершим. Я дошел до того, что спрашивал себя, – а что, если они рады будут воспользоваться затянувшимся припадком и отделаться от меня, причинявшего им столько хлопот? Напрасно они старались успокоить меня самыми торжественными обещаниями. Я заставил их по– кляться самыми страшными клятвами, что они не зароют меня, пока мое тело не разложится настолько, что дальнейшее замедление станет невозможным, но даже после этого мой смертельный страх не поддавался никаким увещаниям, никаким утешениям. Я принял целый ряд мер предосторожности. Между прочим, перестроил семейный склеп так, чтобы его можно было отворить изнутри. Стоило только слегка надавить длинный рычаг, далеко вдававшийся в склеп, чтобы железные двери распахнулись. Были также приспособления для свободного доступа света и воздуха и для запаса пищи и питья, помещавшихся подле самого гроба, куда должны были меня положить. Гроб этот был мягко и тепло обит и накрывался крышкой в виде свода с пружинами, посредством которых крышка откидывалась при малейшем движении тела. Кроме того, под крышей склепа был повешен большой колокол, от которого спускалась веревка, проходившая в отверстие гроба: ее должны были привязать к моей руке. Но увы! что значат все наши предосторожности перед судьбою? Даже эти ухищрения не могли спасти от пытки преждевременного погребения несчастного, осужденного на эту пытку!
Случилось однажды, – как часто случалось и раньше,
– что я пробудился при полном бесчувствии к первому слабому и смутному сознанию бытия. Медленно – черепашьим шагом – наступал тусклый, серый рассвет душевного дня. Ощущение неловкости и одеревенения. Вялое состояние смутного недомогания. Ни тревоги, ни надежды, ни усилии. Затем, после долгого промежутка, звон в ушах; затем, после промежутка еще более долгого, ощущение мурашек в конечностях; затем бесконечный, по-видимому, период приятного спокойствия, когда пробудившиеся чувства вырабатывали мысль; затем, кратковременное возвращение к небытию, затем внезапное пробуждение. Наконец, легкая дрожь в одном веке, и тотчас затем электрический удар смертельного бесконечного ужаса, от которого кровь хлынула потоком от висков к сердцу. И только теперь первая положительная попытка мыслить. Только теперь успех – да и то неполный и мимолетный. Наконец, память возвращается во мне настолько, что я начинаю сознавать свое поло– женне. Я чувствую, что очнулся не от простого сна. Я припоминаю, что со мной случился припадок каталепсии. И вот, наконец, мой трепещущий дух захвачен, точно бурным натиском океана, сознанием грозной опасности,







