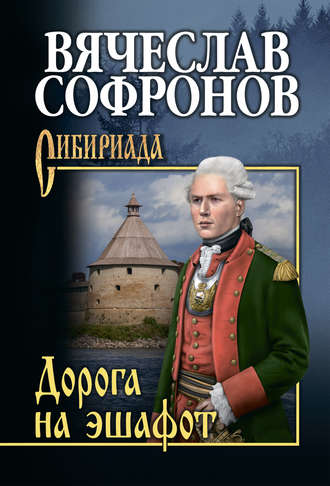
Вячеслав Софронов
Дорога на эшафот
– Мне на постой вставать нужды нет никакой, потому как ищу, где бы лошадку с санками купить, чтоб своих нагнать.
– Вон оно чего. – Вышедший мужичок сразу сменил тон, когда речь зашла о покупке, и пояснил: – Ты уж прости за ответ мой, а то надоели солдатики ваши за все время, пока здесь у нас обитались. Порастащили все, что плохо лежало. Пьяными по городу с утра до вечера шатались, драки с нашими парнями затевали, за девками волочились, а потому надоели всем пуще чихотной травы. Не знали уже, кому и жаловаться, а все одно не помогает. Ты, погляжу, из благородных будешь и, видать, при деньгах, потому не сопрешь ничего, – откровенно признался он. – Посему стану с тобой иначе говорить. Айда за мной, покажу тебе лошадку, что давно продать собираюсь, может, и столкуемся… – С этими словами он бойко засеменил в сторону конюшни, возле которой было свалено несколько возов сена.
Мировичу ничего не оставалось, как пойти следом. Проходя мимо конюха Лехи, он кинул на него взгляд, но тот посмотрел на него с такой открытой неприязнью, что ему стало не по себе. В полутемной конюшне стояло три лошади, хозяин подвел его к одной из них.
– Вот Серуха моя. Коль за ней должный пригляд держать да не гонять без нужды, по послужит еще ого-го сколько! – и он похлопал ту по понуро склоненной голове.
Василий, хоть и не считал себя знатоком во всем, что было связано с лошадьми, но безошибочно понял, что Серуха эта прожила уже лишних несколько лет из отведенного ей срока. Понятно было, почему хозяин с готовностью готов был сбыть ее с рук. Выезжать на ней по каким-то своим делам он или стеснялся, или боялся, что обратно возвращаться ему придется своим ходом. Мирович на всякий случай поинтересовался:
– Она хоть сама ходит или ее поддерживать нужно?
Мужичок изобразил удивление на своем лице и всячески пытался показать несуразность услышанного им вопроса:
– О чем ты, ваше благородь, говорить изволите! Да она у меня с утра до вечера в работе: до дрова, то сено, то воду с реки на ней возим. И ест мало, и в корме не особо прихотлива, а уж послушна – другой такой тебе не найти.
– Короче говоря, водовозная кляча, – отмахнулся от него Мирович. – И сколько же ты за нее хочешь?
Мужичонка назвал цену, и теперь пришла очередь изумиться Мировичу:
– Да за такие деньги я могу наилучшего рысака купить, и седло, и сбрую, и еще серебряные подковы в придачу.
– Ой, насчет серебряных подков ты загнул, но цену, так и быть, снижу. Так ты не забудь, ты же еще и о санках спрашивал…
Они торговались добрых четверть часа, и Мирович даже устал уламывать стойкого барышника. В конце концов он решил пройтись еще и по соседним улицам, но хозяину сказал, что отправится посоветоваться с другом. Если тот даст согласие, то вернется обратно.
– Тогда я подожду, а то ехать по делам хотел, но уважу тебя, – крикнул тот вслед ему, когда он уже выходил за ворота.
Василий потратил еще час с небольшим, обойдя несколько домов, но везде, едва видели его военное облачение, был встречен неприветливо, если не враждебно. Видно, солдатики и впрямь изрядно здесь накуролесили, оставив по себе недобрую память поголовно всех жителей. Как только он заводил речь о покупке лошади, то или с ходу отказывали, или заламывали такую немыслимую цену, что в ином месте за нее можно было купить чистокровного скакуна. Мирович решил действительно посоветоваться с Ушаковым и отправился к месту их встречи, но Аполлона там не обнаружил, и тогда, решив, что по дороге он наверняка сможет с доплатой поменять кобылу на более приемлемую для поездки лошадку, решил вернуться обратно к хозяину, с которого и начал поиски. Тот и впрямь ждал его и тут же, завидев в окно, бойко выскочил на крыльцо и скатился вниз по ступеням.
– Что я тебе говорил, ваше благородие? Акромя меня, никого тут не найдете. Все или много раньше продали офицерам коньков своих, или задарма отдавать не станут. Так что на меня у тебя вся надежа, – весело затараторил он, а Мирович удивился, откуда тот мог узнать, что он ходил по соседним улицам в поисках коня, когда сослался, будто бы пошел за советом к своему товарищу.
Мужичок же, словно прочел его мысли, пояснил:
– От меня ничего не скроешь. Мы тут всем миром крепко повязаны. Как только ты ушел, так следом за тобой прибег соседский мальчонка и поведал мне, как ты к ним во двор заходил и коня торговал. Так что все твои хитрости мне известны.
Мирович выругался про себя в сердцах и протянул хозяину половину от первоначально названной цены. Тот пересчитал, махнул неопределенно рукой и согласился:
– Забирай, но с уговором. Я тебе дам вместо извозчика племянника своего Шурку, он вас довезет куда надо, а потом на моей Серухе обратно вернется. Там тебе кобыла моя все одно не нужна станет, а мне еще сгодится для дворовой службы.
– А дорогу твой Шурка найдет? – спросил его Василий, подозревая, что тот чего-то явно недоговаривает.
– Где не найдет, там спросите. Да как ее не найти, когда уйма народу по ней прошла, и через год ту дорогу видно еще будет…
– И сколько лет твоему Шурке будет?
– Да вроде как пятнадцатый годок пошел, а точно не знаю. Его мать с отцом как померли о запрошлый год, так добрые люди его ко мне и направили. Смышленый парнишка не по годам, он тебе в дороге и сготовить чего сможет, и с кобылкой управится. Не пожалеешь, право слово. Где ты еще такого возчика найдешь?
Василия не оставляло чувство, что мужик явно неспроста вместе с заморенной кобылой подсовывает ему еще и пацаненка, но у него и впрямь выбора не было. Самому управляться с лошадью не хотелось, Ушаков тоже вряд ли изъявит к тому большое желание, поэтому он решил поступить согласно известной поговорке: «Будь что будет, а что будет – Бог даст» и особо возражать не стал.
Вскоре хозяин вывел во двор паренька невысокого роста, одетого в залатанный армяк и в стоптанных онучах. Он покорно подошел к Мировичу и низко ему поклонился.
– Спасибо, что согласились, барин, меня с собой взять, – негромко произнес он и бегом кинулся в конюшню выводить кобылку, а хозяин с молчаливым конюхом, все это время находившимся поблизости, но не проронившим ни слова, выкатили на середину двора старенькие розвальни.
– Так я же просил санки беговые, а не крестьянские розвальни, – возразил Мирович, представив, как отнесется Ушаков к поездке в подобном экипаже.
– О чем ты говоришь, мил человек? Санки, что просишь, у меня всего одни, и самому нужны. А тебе хорошо будет в розвальнях ехать. Мы тебе соломки постелем, зароешься в нее и спи или просто лежи, никакая непогода тебе не страшна.
Не оставалось ничего другого, как смириться и с этим, и вскоре Василий, лежа на соломе, единственном, чего не пожалел прожига-хозяин, выехал со двора, и они направились к православному храму, где, переминаясь от холода с ноги на ногу, его поджидал Ушаков. Когда Шурка притормозил возле него, а Мирович призывно махнул рукой, тот не сразу понял, что ему предстоит совершить дальнюю поездку на стареньких розвальнях, в которые была запряжена заморенная лошадка, а правил неказистого вида паренек. И тем не менее он тут же заскочил в сани и устроился рядом с Мировичем, спросив его:
– И куда он нас довезет? До ближайшего села, или кобыла его раньше дух испустит?
– Куда надо, туда и повезет, – победоносно усмехнулся Василий, осознав себя едва ли не впервые в жизни хозяином положения, и пусть не лучшего, но все же средства передвижения. – А тебе в комендатуре и такого не дали, как я погляжу? – не преминул он уколоть своего спутника.
– Да я не очень и просил, – отмахнулся тот, – у них все одно свободных лошадей нет, предложили подождать день-другой, но мне это предложение как-то не по душе. Поэтому не стал спорить и сюда пошел. И все же, куда мы едем?
– Я же сказал уже: куда нужно, туда и едем.
– В Кенигсберг? – усомнился Аполлон.
– Куда же еще? И парень, и лошадь с санями в нашем полном распоряжении, – со значением ответил Мирович.
– И где ты только выудил сокровище это? Неужели другого чего найти было никак нельзя? – не унимался тот.
– Ты же попробовал. Не получилось, так что теперь моли Бога, чтоб эта кобыла провезла нас хоть половину пути. И, как говорили древние римляне: «Faciant meliora potentes»[1].
Ушаков, явно не знавший, как переводится это латинское выражение, потому как не учился в семинарии, насупился и надолго замолчал. Кобылка же, несмотря на свой почтенный возраст, как только они выехали за город, пошла ходкой рысью, а Шурка стал напевать что-то тягучее, и слова его песни различить было трудно. Потому вскоре оба путника мирно задремали на соломе, хорошо понимая, что изменить хоть что-то не в их силах и самое лучшее для них – это смириться и только надеяться на благополучное завершение их долгого путешествия.
5
Лишь на пятый день пути им стали попадаться унылые остовы сгоревших строений и сидящие подле них голодные собаки, жадными глазами провожающие всех, кто проезжал мимо. Несколько раз они обгоняли толпы людей, идущих подле дороги и тащивших на санях узлы с одеждой. У многих на руках были дети, завернутые в многочисленные платки и одежки. При виде проезжавших мимо саней они останавливались и недобро косились в сторону русских офицеров, словно они были виноваты в постигшей их беде. На постоялых дворах их встречали до десятка человек нищих, просящих милостыню или умолявших подать им хотя бы кусок хлеба.
– Откуда они? – спросил Мирович у Ушакова. – Погорельцы, что ли? Почему так много?
– Неужели сам не понял? – ответил тот. – Наши солдатики постарались, а скорее всего калмыки, что наперед войска идут и рыщут кругом, забирая все подряд, чем только можно поживиться.
– Как же так? – не поверил Мирович. – Куда смотрят офицеры? Неужели они этого всего не видят? Это же форменный разбой…
– Называй, как хочешь, а я тебе точнее скажу: война это, братец ты мой. А потому принимай ее такой, как она есть.
Потрясенный Василий вынужден был согласиться с доводами Ушакова. Действительно, ни с того ни с сего все деревни в округе вспыхнуть почти одновременно не могли. Тут явно вмешалась чья-то злая воля. Он представил себя, как калмыки или кто другой врываются в дома ни о чем не подозревающих обывателей, выгоняют тех на улицу, а потом, уходя, сжигают все вокруг. Нет, как-то не вязалась нарисованная им картина с тем, что ему приходилось видеть до сих пор. Да, солдаты тишком могут что-то присвоить, забрать продукты, угнать скотину, вытоптать посевы, но поджечь дома и оставить их жителей без пищи и крова?! Этого он просто не мог себе представить.
И тут ему невольно вспомнились угнанные его солдатами овцы с мельницы, где живет Урсула. И тут его словно обожгло: «А как же она там? Жива ли?» Ведь воинские части не минуют их городок, и наверняка могла пострадать она сама и все ее семейство. Он пожалел, что они расстались, едва не рассорившись из-за того проклятого случая с пропавшими овцами. Ведь Урсула едва ли не его, Василия, обвинила в сокрытии воровства, а может, даже решила, что он мог быть и соучастником. И отвести это обвинение от себя он не мог, а потому разобиделся и ушел, ничего не сказав ей в ответ.
А потом было сражение… Поездка в Петербург… Ораниенбаум… Встреча с наследницей… Дуэль… Катенька Воронцова… И за всем этим водоворотом событий он лишь несколько раз вспоминал об Урсуле, но вспоминал всегда с нежностью и какой-то затаенной радостью, описать которую словами не мог. Если разобраться, то дамы, обратившие на него в Петербурге внимание, были для него недоступны, и знакомство с ними дало ему лишь повод думать о себе самом несколько иначе, нежели раньше. Он ощутил себя не просто мужчиной, но кавалером, для которого доступ в высшее общество неожиданно оказался открыт. «И столь же быстро закрылся», – добавил он про себя. И вряд ли теперь он может рассчитывать на вторичное приглашение в тот далекий и недоступный для него мир.
Зато Урсула – совсем другое дело. Она не требовала от него проявления излишней галантности или какого-то особого излияния чувств. Все было просто и естественно. Его влекло к ней, а ее к нему. И не было в том никаких преград. Разве что война, которую он все больше ненавидел, но хорошо понимал: просто так она его не отпустит. Разве что мертвецом или калекой. В том и другом случае он будет уже не тем наивным юношей, мечтающим о романтических встречах и доступных радостях жизни, а совсем иным человеком. Каким? Он пока не знал. Но уж точно не тем юношей, пришедшим прямиком из кадетов в действующую армию. Он видел это по Ушакову, совершенно изменившемуся за время военной кампании. И вряд ли он сможет стать тем прежним беззаботным Аполлоном, насмотревшись и вкусив ужасов военного быта.
Мысли Василия вновь вернулись к Урсуле… И только сейчас он осознал, что вскоре их путь пройдет вблизи Инстербурга, а может быть, даже и через него. Его словно обожгла эта мысль! И он решил во что бы то ни стало навестить домик у мельницы и хоть издали увидеть девушку, мысли о которой почему-то все это время гнал прочь. И сейчас, вглядываясь в почерневшие остовы сгоревших изб, он понял, как она ему близка и дорога. Раньше он боялся даже думать о ней, понимая, насколько неосуществима их встреча. Разум сам отодвигал ее образ в дальние закоулки памяти и жил новыми впечатлениями, сыпавшимися на него ежедневно и ежечасно, вытесняя своей реальностью все доброе и трепетное, жившее в нем прежде. Но вот пришло время, и сознание, переполненное впечатлениями от зверств и ужасов войны, вида сгоревших домов и беженцев, отказалось впитывать их дальше. И неожиданно вернуло ему старые, почти забытые воспоминания, когда он был счастлив и ощущал себя человеком, которого любят и ждут. Его собственная память пришла ему на помощь, оживив почти стершиеся часы простого человеческого счастья. И Василий понял, что это и есть единственное спасительное для него средство не растерять остатки живущей в нем доброты и человечности, не озлобиться на весь окружающий мир и на себя в первую очередь за то, что вынужден участвовать во всем происходящем, помимо своей воли и желания.
Когда они остановились на ночлег в переполненном военными постоялом дворе, рядом с которым помещалась вместительная корчма, Василий поинтересовался у хозяина, далеко ли еще до Инстербурга. Тот с недоверием взглянул на него и с неохотой ответил, что к концу второго дня они будут проезжать поблизости от него. Он же согласился с большой переплатой поменять окончательно выбившуюся из сил Серуху на мерина, которого, по его словам, оставил на содержание проезжавший мимо русский офицер, пообещавший потом отправить за ним своего денщика. Но Мирович понимал, что тот явно врет и конь ему наверняка достался задаром, но спорить не стал и велел Шурке с утра запрягать мерина, а кобылку оставить на постоялом дворе. Ушаков тем временем занял у Василия в очередной раз денег, прикупил в корчме кувшин вина, как он это делал практически во время каждой остановки. Говорить с ним вечерами Василию становилось все труднее, и он уже тяготился тем, что согласился на совместную поездку. Но и ехать меж сгоревших деревень практически в одиночку, Шурка был не в счет, было просто опасно. Там наверняка бродили банды мародеров, а то и местных удальцов, которые под шумок грабили и своих и чужих. Одинокий путник станет для них желанной поживой. Зато паренек оказался сущей находкой, и за время пути у него с Мировичем установились почти дружеские отношения. Однажды во время ночевки он поинтересовался у паренька, с чего это дядька так легко согласился отпустить его с ними, на что тот, не задумываясь, ответил:
«По жадности своей. Боится, как бы я не объел его. Вот и прогнал прочь, можно сказать».
Василий подозревал что-то подобное, но тут паренек внес окончательную ясность. Получалось, что еще одним неприкаянным человеком на свете больше стало. Не зная, что ответить, спросил, как тот собирается возвращаться обратно один, тем более, что его там не особо ждут. На что Шурка откровенно признался:
«Зачем мне возвращаться обратно, когда никто тому рад не будет? Ни я, ни он… Осмотрюсь и пристану к кому. Да хоть к вам, коль возьмете с собой…»
Мирович ожидал чего угодно, но только не такого поворота дел. Однако, чуть подумав, решил, что может поговорить с начальством и поставить паренька на довольствие как своего денщика, положенного ему согласно недавно полученному званию. Тот и сейчас, распознав в нем с самого начала пусть не своего хозяина, а скорее покровителя, норовил услужить ему и всегда подкладывал лучшие куски, если удавалось добыть и приготовить еду во время остановок на ночлег. Про таких людей принято говорить: легок на ногу. И Сашок действительно, как только подъезжали к постоялому двору, где за каждый черпак жидкого супа и краюху хлеба драли втридорога, сломя голову мчался до ближайшего дома и там выторговывал то окорок, то курочку, а иногда приносил полный кувшин молока, а уже опустевший всегда успевал ранним утром вернуть хозяевам.
Потому Василий решил, не посвящая в свои планы Ушакова, посоветоваться с Шуркой насчет своего визита на мельницу, надеясь найти там Урсулу. Ему совсем не хотелось откровенничать об этом с Аполлоном, и он гадал, как бы сделать так, чтобы тот ни о чем не догадался, пока он будет отсутствовать. Впрочем, сделать это, учитывая его пристрастие к вечерней выпивке, было не так трудно. Главное – это узнать дорогу на Инстербург. Сейчас они ехали по пути, проложенному недавно прошедшей здесь армией, пропахавшей снежную равнину напрямик, по целине, утрамбовав ее тысячами ног и саней, сократив тем самым старый, тянувшийся от одного селения к другому маршрут. И вышло так, что старый тракт, хорошо известный местным жителям, остался в стороне от вновь проложенного и найти нужное село и городок человеку, впервые попавшему в эти края, было почти невозможно. Иногда им попадались маячившие вдали силуэты небольших городков, названия которых они не знали. Туда явно должны были вести проезжие дороги. Но как их найти, когда нет даже указателей, а тем более карт не очень-то великой, но незнакомой стороннему путнику прусской земли.
– Слушай, Сашок, – спросил его Василий, дождавшись, когда Ушаков вышел на улицу. – Просьба у меня к тебе небольшая будет. Не откажешь?
– Как я могу, Василий Яковлевич? – с готовностью отозвался тот. – Из продуктов или одежды чего достать изволите?
Он с самого начала звал Мировича по имени и отчеству, хотя к Ушакову обращался не иначе как «ваше благородие», подчеркивая тем свое отношение к тому и другому.
– Нет, не угадал, с едой у нас все в полном порядке благодаря тебе. А надо мне узнать у кого из местных, как нам попасть в городок, называемый Инстербургом.
– Даже не слышал о таком, – покрутил головой Шурка. – А где он есть?
– На днях мимо него проезжать будем. И если дорога мимо него лежит, то надо нам непременно в него заехать. И лучше дотемна… Понял меня?
– Как не понять! – в раздумье ответил тот. – Ему о том знать не следует? – он кивнул на дверь, за которой скрылся Ушаков.
– Все правильно понимаешь, ни к чему Аполлону о том говорить. Надо подумать, как его на время одного оставить, а самим съездить по нужному мне делу. Так что ты узнай незаметно от Аполлона и меня извести, когда к этому самому Истербургу подъезжать станем.
– Понял, – с готовностью кивнул тот головой. – Постараюсь разузнать все, что надо, – пообещал Шурка. – С людьми говорить у меня получается. Хотя и не со всеми, – тут же поправился он. – Иные до того злы на нас, русских, что не говорят, а только шипят чего-то сквозь зубы, будто не понимают, о чем их спрашивают. Но другие ничего, хоть и ругнут для начала, а потом мягчают.
Мирович не знал, что ему ответить на это, тем более вернулся Аполлон и нетвердой походкой прошел мимо них к столу. Шурка же заговорщически подмигнул Василию, обозначив свое соучастие с ним в пусть небольшом, но все же сговоре. На другой день он тайно сообщил, что дорогу узнал и на вторые сутки они должны будут проехать через этот самый Инстербург, узнать который можно по холму, на котором стоит местная кирха.
6
Действительно, после обеда они подъехали к развилке дорог. Одна вела к видневшейся вдали реке, а вторая – в сторону городка, который Мирович безошибочно узнал по прежним своим воспоминаниям, и сердце его тут же радостно забилось. Русская армия прошла мимо, поэтому не было видно зловещих пепелищ и толп беженцев. Вскоре они без особого труда нашли постоялый двор, где не было ни одного приезжего. Ушаков, словно что-то заподозрив, стал ворчать, что они слишком рано остановились, а могли бы еще до темноты проехать какое-то расстояние, а там, глядишь, и до Кенигсберга останется совсем чуть. На что Шурка в ответ заявил ему, что дорога была трудная и лошадь устала, а еще неизвестно, где они смогут обнаружить свободный постоялый двор, а потому самое лучшее остаться здесь. Мирович не стал дожидаться, когда Аполлон обратится к нему с очередной просьбой взять денег взаймы, и сам попросил хозяина принести кувшин вина, после чего ворчание его попутчика само собой прекратилось, и он тут же уселся за стол в ожидании обещанного угощения.
Василий давно заметил, что попутчик его трудно переносил дорогу. Может, тем и объяснялось его постоянное желание выпить перед сном, чтобы хорошо выспаться. Все последние дни он ходил, словно в полусне, и постоянно интересовался, долго ли еще им ехать. Вот и сейчас он не допил даже стакана вина и задремал за столом. Сашка с Мировичем растолкали его и проводили в соседнюю полутемную комнату, где он быстро уснул.
Кобылку свою Сашка успел подкормить заранее припасенным овсом, и она выглядела довольно бодро, да и ехали они сегодня благодаря Сашкиной сообразительности тихим шагом, так что к недолгой поездке она была готова. Еще не начало смеркаться, а они уже выезжали в сторону развилки. Лошадь сразу поняла, что они повернули в сторону дома, и прибавила шаг.
В сам городок они заезжать не стали, а нашли дорогу, тянувшуюся в сторону холма. Но сколько Василий ни вглядывался, а той рощи различить не мог. Когда поднялись к вершине, то Мировича поразила безжизненность пейзажа, представшего его глазам. Исчезла роща, где некогда его капральство заготовляло дрова и в глубине которой он встретил Урсулу и ее брата. То ли сами жители, то ли солдаты вырубили ее полностью, и сейчас под снегом нельзя было найти пеньки от деревьев, что должны были остаться на месте вырубки. Василий вначале даже подумал, уж не ошибся ли он дорогой и в ту ли сторону они едут. Но другой дороги просто не было, да и та, по которой они пробирались, едва давала о себе знать узкой санной колеей, тянувшейся к вершине холма. И лишь когда они на него въехали и приблизились к пологому спуску, то вдали увидели мельницу и домик под черепичной крышей, из трубы которого вился едва приметный дымок. Шурка ворчливо понукал лошадь, с трудом взобравшуюся на холм, и время от времени поворачивал голову к Василию, интересуясь, не сбились ли они с пути. Наконец дорога пошла под уклон, и вскоре они подъехали к воротам наполовину заметенного дома мельника.
Василий выскочил из саней и в нерешительности подошел к калитке, не зная, что предпринять дальше. Вот и сбылась его мечта: он находится вновь на том месте, где когда-то впервые ощутил себя по-настоящему счастливым, но вот только не сумел сохранить, сберечь в себе то хрупкое чувство и растерял его в череде будничных дней.
«Зачем я здесь?» – спросил он сам себя и не мог найти ответа. В глубине души он желал вернуть и возродить в себе ту утрату, поскольку, как искренне считал, она была обронена им ненароком, случайно, словно какая-то вещь, забытая на одном из многочисленных постоялых дворов во время поездки. Так и сейчас он ждал, что, увидев Урсулу, вернет почти умершее, но все еще иногда вспыхивающее в нем чувство радости от встречи с девушкой, и тогда он, обретя его, уже не расстанется с ним, а будет дорожить и лелеять, не давать угаснуть до конца. Других желаний у него просто не было, и он даже не мог четко сформулировать ответ, если бы кто-то спросил его, зачем он вновь здесь.
Он бросил взгляд в сторону замшелого валуна, видневшегося вдали на берегу замерзшей речки, пытаясь пробудить воспоминания, но вместо них ему почему-то вдруг вспомнился бал в Ораниенбауме и лицо жены наследника, ее мягкий вкрадчивый голос и устремленные на него глаза. Она и сейчас присутствовала рядом с ним и с усмешкой вглядывалась в его понурую фигуру, робко застывшую подле закрытых ворот семейства мельника. Василий зло выругался, стараясь прогнать навязчивый образ, и в этот момент послышались чьи-то тяжелые шаги, потом приоткрылась калитка, и он увидел через небольшую щель заросшее щетиной лицо мельника Томаса, недоверчиво разглядывающего его.
– Что надо? – спросил он сухо, не спеша выходить наружу. – Мне нечего вам дать, все уже давно забрали: и зерно, и муку, а нового привоза давно не было. Так и передайте это тем, кто вас сюда послал.
Он хотел закрыть калитку и уйти обратно в дом, но Мирович не дал ему этого сделать. Подойдя ближе, спросил:
– Герр Томас, неужели вы не узнали меня?
Тот с удивлением повернулся в его сторону, и унылое выражение его лица сменилось вдруг удивлением, густые брови сдвинулись на лице. Он слегка прищурился и, наконец вспомнив что-то, спросил осторожно:
– Вы тот русский офицер, что встречался с Урсулой?
– Да, конечно, это я, Василий, – радостно отозвался Мирович, ожидая, что наконец-то рассеются все недоразумения, вызванные его появлением. Но мельник был далек от радости и спросил сурово:
– Зачем пожаловал? Тебя тут никто не ждал. Ты поступил sehr schlechte, weggehen… – Потом, поняв, что Василий мог не так истолковать его слова, добавил по-русски: – Ты есть плохой человек, что бросил мою дочь. Уходи отсюда, пока я не взял в руки топор, – и вновь попытался закрыть калитку, но Мирович опять не дал сделать ему этого и извиняющимся тоном попросил:
– Скажите, где Урсула? Я приехал повидаться с ней… Умоляю, не прогоняйте меня, мне очень нужно встретиться с ней.
При этом Василию стало неловко, что сидящий в санях Шурка слышит их разговор, но он не мог его прогнать, как это сейчас сделал с ним мельник. Внутри у него вдруг закипела злость, и он переменил прежний просительный тон и властно заявил:
– А ну, зови Урсулу, а то я с тобой иначе говорить стану! А за топор схватишься, пристрелю, как собаку. Не забывай, с кем разговариваешь! Я русский офицер, и в моей власти поступать так, как считаю нужным, – с этими словами он распахнул епанчу и поправил заткнутый за пояс пистолет.
Лицо Томаса помрачнело, весь он как-то осунулся и, ни слова не сказав, отправился, шаркая подошвами старых сапог, в дом. Мирович был уже сам не рад неожиданно проявившейся вспышке гнева, родившейся неизвестно по какой причине. Сейчас, слегка остыв, он даже не мог себе объяснить, что с ним произошло. Может, сказалась запоздалая реакция на петербургские события, недовольство всем, чем бы он ни занимался: Ушаковым, видом пожарищ, оставшихся после продвижения русской армии в глубь страны… Так или иначе, ему стало неловко перед старым мельником, которого он незаслуженно обидел, и захотелось войти в дом и извиниться перед ним. Но больше всего Василия угнетало чувство вины перед Урсулой, которой он ни разу не дал знать о себе более года.
– Долго ждать еще? – окликнул его Шурка, так и не вылезший из саней. – Лошадку бы покормить, а то за день ее ничем не угостили. Вон там сено какое-то лежит. Хозяева не заругаются, коль поест чуть? Что скажете, Василий Яковлевич?
Мирович махнул рукой в его сторону, давая понять, что тот может поступать по своему усмотрению, и вновь принялся ждать. Шурка же развернул лошадь и подъехал к сену, сложенному возле забора, потом вышел из саней и вынул удила изо рта лошади, после чего она принялась аппетитно хрумкать запрелое сено, лежавшее там непонятно с каких пор.
Наконец послышались чьи-то легкие шаги, и со двора навстречу Мировичу вышла Урсула. Она с удивлением смотрела на него своими широко открытыми васильковыми глазами и, чувствовалось, порывалась убежать обратно, но какая-то сила удерживала ее на месте, словно она увидела что-то страшное для себя и в то же время притягательное. На голове у нее была серая вязаная шапочка, а на плечи наброшена легкая накидка, отороченная лисьим мехом. Она сильно изменилась после их последней встречи, став по-женски статной и от этого еще более привлекательной.
Мирович сделал несколько шагов ей навстречу, но она вся сжалась и тихо что-то прошептала.
– Что ты сказала? – переспросил ее Василий, не расслышав. – Не ждала? Извини, то не от меня зависело. Война…
– А ты совсем другой стал, – сказала она, вглядываясь в него. – Отец даже не узнал тебя поначалу…
– В чем другой? Постарел? – попробовал пошутить Василий. Но она не приняла шутки и покачала головой, повторив:
– Просто другой… – Потом через паузу добавила: – Чужой совсем. Я уже и думать о тебе перестала. Думала, умер или уехал.
– Да что со мной сделается? Глядишь, поживу еще… – вновь, как бы шутя, ответил Василий, хотя понимал, что шутки сейчас неуместны и что девушка ждет от него совсем других слов.
Тогда она задала вопрос, которого Василий боялся больше всего, поскольку не знал, что на него ответить:
– Зачем приехал?
– Тебя увидеть, – ответил он единственное, что пришло ему в голову. – Не рада? Мне очень хотелось повидаться с тобой. Сама понимаешь, война не закончилась, а я состою при армии. В одном сражении уже побывал, а сколько их еще будет, кто знает… Всякое может случиться…
– Я понимаю, ты солдат и должен воевать. Но я тебя в армию не звала. Говорила: оставайся…
– Ты так не говорила, – торопливо прервал ее Мирович.
– Пусть не говорила, но думала, а ты знал, о чем я думала. Понимал, на что идешь.
– Не я ту войну затеял.
– Да, но ты в ней участвуешь.
– Я солдат, и никто меня не спросил, хочу я воевать или нет. Но я все это время думал о тебе, – выдавил он из себя почти через силу, понимая, что говорит не всю правду.
Урсула словно прочитала его мысли и усмехнулась, но ничего в ответ не сказала. Мирович тоже не знал, как продолжить разговор. Он совсем иначе представлял себе их встречу и никак не ждал подобной холодности от Урсулы. А сейчас был окончательно сбит с толку, тем более что в дом его не приглашали. Меж тем уже почти совсем стемнело, и надо было возвращаться обратно, чтобы не сбиться с едва видной дороги. Но и вот так, ничего не сказав девушке, он уехать не мог.
– А где твой брат? Его, кажется, звали Петер? Правильно? – наконец нашелся он, что спросить.







