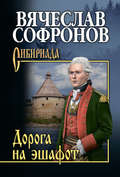Вячеслав Софронов
Кучум
© Софронов В.Ю., 2018
© ООО «Издательство „Вече“», 2018
© ООО «Издательство „Вече“», электронная версия, 2018
Сестре моей Елене и брату Игорю посвящается
Часть первая. Половодье
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Евангелие от Матфея, гл. 5, 8.
И создал Бог землю…
Унылой и неказистой выглядела она. Голая и нагая, вся серого цвета. Кинул Бог горсть зерен – и взошли травы. Кинул другую – выросли леса. Только тихо в лесах, песен, гомона не слышно. Взял Бог кусок глины и вылепил из него зверушек, пташек разных, пустил их на землю. Побежали они, полетели, кинулись в разные стороны. Сплошная суета и никакого порядка.
Вырвал Бог из бороды клок и слюной скрепил, вылепил Медведя, поставил его главным над всеми, чтоб за порядком следил, вершил суд-расправу и лишь перед Богом ответ держал. Ходит Медведь по лесу, рыкает. Пташки-зверушки как его голос услышат, так и присмиреют враз, тихо становится, никто друг дружку не обижает, всяк в своем углу живет.
Смотрит Бог на землю и не нарадуется – до того все хорошо и спокойно на ней – мир да благодать. Умаялся он от работы и заснул, притомившись. А за ним и солнышко на бочок прилегло, за край неба спряталось, не светит, не греет. Студено на земле стало, снег полетел, вьюга запуржила, песню угрюмую завела, запела. И Медведь загрустил, нашел глубокую берлогу, вход камнем завалил, лег на бок да и уснул до весны, когда тепло обратно на землю придет, возвернется.
Видит Волк серый, что нет никакого надзора за зверьем, начал свои порядки наводить, с каждой зверушки дань требует, велел себя царем лесным звать-величать, издалека кланяться. А кто не по нраву, разговор короток – хвать зубами за горло, и полетела шерсть клочьями, побежала кровь на землю, одна шкура на снегу лежит, да косточки под деревьями блестят, белеют.
Вылез весной Медведь из берлоги, начал подданным своим счет вести и половины досчитаться не может. Куда подевались, сгинули? Лисица рыжая шепнула ему на ухо, мол, Волк серый свой порядок завел, задрал зверей и велел себя царем лесным звать-величать.
Взревел Медведь от известия такого, обратился к Богу:
– Помоги, Боже, наказать Волка серого, что ввел в разор подданных моих, покарай его за злодеяния.
А Бог и отвечает ему:
– Куда же ты глядел, когда Волк серый бесчинствовал? Для чего я тебя на землю отправил? Найди Волка серого и накажи его властью своей, чтоб больше не губил зверье малое.
Отправился Медведь в лес дремучий Волка серого искать, к присяге того привести, наказать примерно. Только тот узнал обо всем от Сороки-стрекотуньи, что разговор Бога с Медведем слышала, обратился в камень-валун, лежит на опушке лесной, не шевельнется.
Ходил Медведь по лесу, искал три дня и три ночи Волка серого, а найти никак не может. Притомился, едва обратно бредет, тащится. Как стал мимо камня проходить, а Волк серый как хватит зубами его за зад и клок волос вырвал. Взревел Медведь, обернулся, а никого нет.
Бог все сверху видел и говорит Медведю:
– Неужели ты не понял, что Волк серый в камень обратился да еще тебя и укусил исподтишка? Пойди, найди камень тот, утопи в реке.
Кинулся Медведь обратно, а Сорока-стрекотунья успела рассказать все Волку серому, и тот в лес убежал и там в шиповник колючий превратился, стоит меж березок белых, колючки выставя.
Ходит Медведь по лесу, Волка серого ищет. Шесть дней и шесть ночей ходил, а ничего не выходил, не нашел обидчика своего, зато о шиповник в кровь ободрался, половину шерсти на колючках оставил. Вышел на полянку, задрал морду к небу, спрашивает Бога, как быть ему, где Волка серого сыскать. Велел Бог шиповник весь вытоптать, землей присыпать и ждать, когда Волк серый покается в злодеяниях своих.
Бежит Медведь к лесу обратно, а на том месте, где шиповник рос колючий, лишь ветки сухие лежат. Вытоптал их, зарыл в землю, упарился. А с ветки осиновой Змея гадюка спустилась тихонечко, ужалила Медведя в ухо и обратно уползла. То Волк серый в Змею обернулся, над лесным хозяином в который раз насмеялся. Тому обидно, зло берет, а как совладать с серым, не знает.
Смотрел Бог, смотрел, а потом собрал медвежью шерсть в клубок, намочил своей слюной и вылепил Человека, повелел ему помогать во всем Медведю, почитать за главного, Волка серого поймать и наказать примерно за непослушание.
Так и стали Человек с Медведем на земле жить один подле другого, с серым разбойником бороться, зверье малое от него защищать. Только и Волк не дремал, обернулся Сорокой-стрекотуньей, нашептал Человеку, будто Медведь готовится напасть на него, жизни лишить. Не стал Человек ждать напасти такой, соорудил ловушку, поставил на тропе. Попал в нее Медведь, взревел от горя-обиды. Поднапружился, разломал ловушку, выбрался на волю и ушел в дальний лес-урман, перестал с Человеком дружбу водить. А Волку серому того и надо, рад-радехонек.
Но прошел срок, понял Человек, что обманули его, насмеялись, решил помириться с Медведем, устроил пир-праздник, насобирал ягод разных, трав душистых, разложил на полянке, сидит, ждет, когда Медведь к нему из леса выйдет. Ждал день, ждал другой, да на третий и уснул, не выдержал. Тут Медведь на полянку и вышел, отведал лакомство-угощение, все умял и обратно подался, не стал ждать, когда Человек проснется. А на другой день принес к его жилищу шишек кедровых, меда липового, у порога положил, а сам из кустов смотрит, как Человек обрадовался, когда дары лесные увидел.
С тех самых пор и живут Медведь с Человеком в мире, в согласии, если Волк серый меж ними распрю не затеет. И пока будут доверять они один другому, то и прочее зверье плодиться будет, в лесах жить, и Божия радость на земле не переведется, не исчезнет.
Ташкын[1]
Земля и воздух были одинаково пропитаны влагой, словно брынза, только что вынутая из кислого молока.
Влагу источала каждая веточка, покрытая мельчайшим бисером дождевых капель; набухшее от воды небо пучилось заворотами серых туч, едва удерживающихся в чреве своем и готовых в любой момент обрушиться вниз многодневным дождевым потоком; наконец земля, вобравшая талую воду через овраги, ложбины, буераки, ямы и впадины, казалось, захлебнулась от неудержимого буйства весеннего разлива и не в состоянии уже больше поглощать льющуюся отовсюду, радостно журчащую, посверкивающую миллиардами разноцветных брызг извечную свою соперницу, лишь жалобно, тяжко вздыхала и чавкала, отзываясь на каждый шаг ступающего по ней человека.
Казалось, еще чуть – и вода одолеет, поглотит принявшую вызов к единоборству землю, восторжествует, возрадуется и станет полновластной правительницей мира, зовущегося земным. Но проходит день, два, неделя, выступают суглинистые проплешины, бугры, просыхают тропинки, сбрасывая, сгоняя с себя влагу, так и не захотев слиться с ней, сделаться одним целым, единым существом, и снова до следующей весны расходятся, разделяются, не уступив своих владений.
Блажен тот, кто поостерегся выйти в дорогу в те дни, когда две могучие соперницы, земля и вода, затеяв извечный спор, слились в жестоком объятии, забыв обо всем на свете. Горе человеку, попытавшемуся в пору половодья отправиться в дальний путь пешим или конным. Вот тогда он в полной мере ощутит, поймет малость и незащищенность свою. Весеннее половодье, происходящее ежегодно на Сибирской земле, не дает человеку забывать, кто он есть, умеряет дерзновенность замыслов, широту свершений, делая его столь же жалким и беспомощным, как всякая малая тварь на этом свете. И человек, кто бы он ни был, властелин народа или раб властелина, останавливался, глядя на безбрежную гладь всепоглощающего весеннего половодья.
Кучум, привстав на стременах, взирал на бесконечный простор водной глади, внешне столь мирный, спокойный и безмятежный, однако таящий в глубине смертельную погибель. Вода за одну ночь обошла их со всех сторон, отрезав путь к возвращению, затопив еще вчера вечером слабо угадываемую тропинку, по которой он со своими нукерами ехал четвертый день, чтоб усмирить взбунтовавшихся диких карагайцев.
Последняя зима была особенно неспокойной: отказались платить наложенную на них дань табердинцы, ушли в дальние степи тевризцы, не пустили к себе даругов, сборщиков дани, закрывшие ворота жители Саургачика, и, наконец, чашу его терпения переполнили вечно всем недовольные карагайцы. Их предводитель Кузге-бек, прозванный невидимкой, разрушил недавно построенную в их земле мечеть, обесчестил муллу, убил пятерых даругов, чьи головы кто-то из мятежников перебросил темной ночью через крепостную стену Кашлыка. Этого простить карагайцам Кучум не мог! И, едва дождавшись, когда чуть просохнут дороги и лесные тропы, сам повел нукеров усмирять бунтовщиков.
Конечно, он мог отправить башлыком и старшего сына Алея, и племянника Мухамед-Кулу, и любого из преданных ему князей. Каждый посчитал бы за честь выполнить волю сибирского хана. Он было в первый момент именно так и хотел поступить, призвав к себе Алея, но, взглянув на его расплывшееся в улыбке молодое безусое лицо, светящиеся радостью глаза, передумал. Нет, сын пока не готов, не осознал важность безжалостной расправы с бунтовщиками. Он мягок, сердце не зачерствело, не обострилась воля, нет той ярости, что сдерживает в груди каждый правитель, чтоб в нужный момент обрушить ее на головы провинившихся отступников, не пожелавших подчиниться его воле. Нет, Алей не годился для подобного. Рано возлагать на юношу столь важную задачу, от которой зависит покой и порядок всего ханства.
Мухамед-Кул уже несколько лет жил в собственном улусе и редко наезжал в Кашлык. Он мог бы покарать мятежных карагайцев, придав огню их селения, повесить на деревьях каждого второго, взявшего в руки оружие, пригнать в Кашлык детей и женщин и сделать так, чтоб народа, зовущегося карагайцами, более не существовало, и через несколько лет никто бы и не вспомнил о них. Но для этого мало быть воином, и пусть он даже родной племянник хана Сибири, но сам Кучум никогда не забывал, чьим сыном тот был. Карача-бек несколько раз уже намекал, подпуская в голос таинственности, мол, косо поглядывает племянник на своего дядю, отпускает злые шутки, не является по первому зову. С чего бы это? Да все от того, что гордость и зависть говорят в почуявшем собственную силу Мухамед-Куле. Да, он бесстрашный воин, меткий стрелок, но Аллах наделил его знатностью происхождения, неумеренностью запросов и жаждой власти. И кто знает, как он поведет себя, встретившись вдали от ханских глаз и ушей с мятежным Кузге-беком. Не переметнется ли он на его сторону, не повернет ли сотни против законного правителя… Кто знает… Тут надо тысячу, десять тысяч раз подумать, взвесить и выбрать единственно правильный путь.
Единственно, кого бы мог отправить Кучум на усмирение карагайцев, не задумываясь ни на мгновение, это Карача-бек. Тот слишком умен и осторожен, чтоб принимать чью-то сторону. Он будет бить наверняка. А что карагайцы? Сегодня они с ним, а завтра пожелают видеть иного правителя. Тот народ, что усомнился в сегодняшнем господине, до конца дней останется таковым. Привыкший оступаться конь – ненадежный спутник в дальнем походе. Понимает это и Карача-бек и никогда не протянет руку мятежникам, не примкнет к ним. Но Кучум слишком дорожил своим визирем и, признаваясь лишь самому себе в том, не хотел рисковать им. Мало ли что могло случиться во время похода. У Карача-бека не было того воинского опыта, который накопил сам хан.
Да и самое главное – Кучуму опостылело день за днем просиживать на кожаных подушках возле заботливо раздуваемого рабом костра в укрытом толстыми шкурами шатре. Он всю зиму мечтал сесть в седло, огреть плетью молодого коня-пятилетку, заменившего любимца Тайку, промчаться по самой кромке высокого иртышского берега, слететь вниз к воде и по узкой полосе желтого глинистого песка нестись вперед, осыпаемым брызгами речной воды, вбирая в себя силу могучей реки. Он даже вздрагивал, явственно представляя себе радостный миг скачки, когда сидел, сосредоточенно глядя на огонь, долгими зимними вечерами.
И вот уже четыре дня он едет впереди своих нукеров, растянувшихся длинной цепью по лесной тропе. Кучум верил и не верил, что карагайцы, узнав, кто идет башлыком против них, разбегутся или вышлют старейшин просить о мире, о снисхождении. И верил и не верил. И он, и Кузге-бек, и жители мятежных улусов знали, какова будет расплата за ослушание. Смерть каждого второго! Так и не иначе! Он их властелин и вправе распоряжаться жизнями своих подданных. Вправе карать и миловать. Еще вчера они вступили на земли карагайцев и проехали через два пустых, оставленных жителями селения. Даже бездомные псы попрятались в чащу леса, чуя издалека приближение его воинства. Его никто не встречал, не падал на колени, не просил о мире. Значит, крови прольется вдвое больше, чем он думал. Сегодня, не позже чем в полдень, они должны достичь их главного селения, где, по донесениям лазутчиков, укрылся Кузге-бек со своими воинами. Но вода, весеннее половодье, неожиданно преградила им путь.
…Кучум, привстав на стременах, снова и снова взирал на бесконечный простор водной глади, искал и не находил решения. Неужели взбунтовались не только подлые карагайцы, но и природа встала на их сторону? Может, то речные и лесные боги, которым до сих пор поклоняется дикий сибирский народ, словно в насмешку затопили тропу, отрезав им путь? Если с людьми он может бороться, то как бороться, противостоять стихии? Тут он бессилен.
– Проверь, на много ли поднялась вода, – крикнул он сотнику Сабиру.
– Будет исполнено, – с готовностью откликнулся тот, будто только ждал его команды.
По взмаху руки Сабира от основного отряда отделились двое всадников и, понукая настороженно взмахивающих мордами коней, поехали вперед, древками копий щупая глубину поднявшейся воды. Но уже через полсотни шагов кони брели, погрузившись по самое брюхо, вскоре первый всадник замахал высоко поднятым копьем, показывая, что не может достать дна.
– Что хан прикажет делать? – подобострастно заглядывая в глаза, спросил Сабир. – Может, отправить еще нескольких человек рядом с тропой поискать проход?
– Отправляй, – кивнул Кучум, зло хмурясь. Он хорошо понимал свое бессилие, но гордость не позволяла повернуть обратно. Он не может вернуться в Кашлык, не проучив карагайцев, иначе… иначе на следующую зиму взбунтуются остальные племена – и останется лишь сидеть в Кашлыке, наглухо заперев ворота.
Еще два десятка всадников направились в разные стороны от тропы, ища проход. Конь воина, что ехал по направлению к небольшому березовому леску в двух сотнях шагов от тропы, попал передними ногами в яму, запнулся, и всадник полетел, не удержавшись в седле, головой вперед, но вскоре вынырнул, встал на ноги, выплевывая изо рта воду, поймал коня за повод.
– Не так и глубоко, – показал рукой в его сторону Сабир. Действительно, вода доходила тому до груди. – Пройти можно…
– А как дальше? – и словно в ответ на его слова из березняка вылетела, тонко пропев, стрела и ударилась в шлем стоящего спиной к леску нукера. От испуга он пригнулся, опять уйдя с головой под воду.
– Засада!!! Карагайцы!!! – завопили остальные.
– Молчать! – крикнул Кучум. – Луки к бою! Всем спешиться!
Нукеры соскочили с коней, очутившись по колено, а кто и выше, в холодной талой воде, повытаскивали луки, настороженно ожидая команды.
– Первая сотня, взять их! – выкрикнул хрипло Кучум, сам оставшийся в седле, и, дав шпоры, поехал вперед, прикрыв лицо круглым щитом.
Со стороны леска вылетело с десяток стрел, но, не долетев до нукеров, попадали в воду. Зато первая сотня тут же осыпала редкий лесок тучей стрел, и оттуда послышались крики, протяжные стоны.
– Хан, смотри, – указал влево сотник Сабир.
Кучум повернул голову и увидел десятка два лодок-долбленок, что, рассыпавшись полукругом, плыли прямо на них.
– И там лодки! И сзади! – послышались голоса.
Кучум крутанул коня на месте, и былая острота зрения вмиг вернулась к нему, как случалось в минуты наивысшей опасности. Со всех сторон к ним направлялись долбленки, низко сидевшие в воде, с двумя, а то и тремя-четырьмя лучниками, укрытыми плетенными из прутьев щитами.
– Вторая сотня… – зычно, набравшим силу голосом, растягивая слова на окончании и чуть торжественно, отдал приказание Кучум, краешком глаза следя за выражением лиц нукеров. – Рассыпать-ся-я-я… прикрыть нас сзади… Близко лодки не подпускать! Стрелять по команде, – и уже негромко, вполголоса, но зная, что нукеры ловят каждое сказанное им слово, интонацию, добавил: – Думают, они нас взяли, песьи дети… Это мы их выманили на себя. Теперь они наши…
Второй сотней командовал Кутай-бек, и он, не сходя с коня, подбадривал нукеров, указывая коротким взмахом руки, где кому встать, посматривая на быстро приближающиеся к ним долбленки.
– Копья готовь, – кивнул он тем, что стояли в первом ряду. – Как подплывут ближе, на бросок, бросайте в гребцов.
Меж тем первая сотня мерным шагом брела по направлению к березовому леску, все больше погружаясь в воду, вытягивая вверх руки с зажатыми в них луками. Наконец они миновали наиболее глубокое место и с криками бросились на укрывшихся меж березок карагайцев. Те не выдержали и бросились бежать, но их тут же настигали, рубили саблями, кололи короткими копьями. Вскоре все было кончено, и нукеры, возбужденные короткой схваткой, радостно закричали, потрясая оружием.
Но карагайцы добились своего, задержав отряд Кучума возле леска, и теперь сжимали их кольцом, обложив, словно волка в логове, цепью вертких и юрких долбленок. Но подплывать на выстрел они опасались, держась на порядочном расстоянии. Может, они надеялись на испуг, когда, увидев их, нукеры бросятся бежать, не сумев организовать должной обороны. И Кучум в который раз поблагодарил Аллаха, что сам повел отряд, не доверился кому-то. Кто знает, как бы повел себя иной человек на его месте.
– Может, попробовать отбить у них несколько лодок? – предложил Сабир. – Потом мы оттеснили бы остальные…
– А ты сам когда-нибудь садился в такую лодку? – криво усмехнулся Кучум.
– Нет, а что…
– А вот то, что не усидеть тебе в ней, перевернешься тут же.
– Тогда нам нужно идти вперед, – робко пожал плечами сотник, – не век же здесь стоять…
– Они только и ждут этого. Нет, вперед нельзя. Надо выбираться на сухое место. – И Кучум повел головой, всматриваясь в окрестности, отыскивая ближайшее возвышенное место.
– И что потом? – не унимался Сабир. Наверное, велико было его желание отбить лодку у карагайцев.
Кучум тоже допускал, что найдутся воины, которые смогут управлять верткой долбленкой, но что-то подсказывало ему об опасности подобного решения. Он не мог объяснить, в чем именно, но… опыт старого воина противился тому.
– Хорошо, я согласен, – наконец согласился он, – но мне не столько нужна лодка, как один из карагайцев. И желательно молодой.
Сабир, не задавая больше лишних вопросов, побрел к нукерам и о чем-то начал совещаться с двумя плотно сбитыми коренастыми воинами, время от времени указывая им в сторону долбленок. Те согласно кивали головами, внимательно слушая сотника.
У Кучума наконец созрел хоть какой-то план, и он, покусывая тонкий ус, подозвал к себе Кутай-бека. Тот подъехал ближе и заявил как ни в чем не бывало:
– Хорошо, комаров пока нет, а то бы заели давно…
– А эти комары как? – Кучум кивнул в сторону долбленок.
– Э-э-э… хан! Разве у них есть крылья? То караси, а не комары. Сонные караси, ленивые, – скривился, показывая полное презрение к противнику. – Пусть себе плавают. Нам они не мешают.
– Раненых нет?
– Ни единого, мой хан.
– Но глазеть на этих карасей я больше не желаю, – Кучум сплюнул в воду и смотрел, как плевок застыл у конской ноги, постепенно растворяясь в ней. – Сделаем так. Пусть твоя сотня прикроет отход первой, а потом меняется местами. Мы с тобой отходим последними. Все понял?
– Конечно, что тут не понять. Отходим…
– Не просто отходим, а медленно, прикрывая друг друга.
– Пусть будет так, хан, – беспечно пожал плечами Кутай-бек. – Значит, обратно в Кашлык возвращаемся? – он все же хотел незаметно, исподтишка уколоть Кучума.
– Когда-нибудь мы вернемся в Кашлык, но не сегодня. Отдавай приказ.
Вторая сотня по приказу Кутай-бека растянулась строем на две стороны, образовав широкий проход для первой. И нукеры под предводительством Сабира медленно попятились назад, огрызаясь как раненый зверь, поводя угрожающе луками и копьями в сторону карагайцев. Кучум подумал, что эти воины, многие из которых пришли с ним когда-то из-под Бухары, не предадут, не бросят, скорее умрут, чем позволят упасть хоть волосу с его головы. Приятно было смотреть, как покрытые сабельными шрамами нукеры неспешно отступают, не выказывая паники или малейшей растерянности. Таким же неспешным шагом они проходили мимо его шатра во время посещения Кашлыка послами от других правителей. Вот они прошли меж прикрывающих их рядов и остановились, образовав ровный строй для выхода второй сотни. Так, меняясь местами, не подпуская к себе близко плывущих следом карагайцев, они выбрались наконец на сушу, где рос густой хвойный лес и виднелась уходящая вдаль широкая тропа. Только раз позади раздался чей-то крик, звонкие удары веслом о воду, всплески, но и они быстро смолкли.
– Всем разводить костры! – приказал Кучум. – Выжимайте одежду и сушите на огне. Остаемся здесь до вечера. А вам проследить за мятежниками и выставить охрану, – кивнул Сабиру и Кутай-беку.
Но Сабир вскоре вернулся и, радостно улыбаясь, сообщил:
– Взяли, мой хан…
– Кого? – удивился тот, забыв уже о своем прежнем распоряжении, но по сияющему лицу сотника понял, кого он имеет в виду. – А-а-а… Ну, веди, веди. Одного взяли?
– Остальных зарубили, – все так же радостно улыбаясь, поведал Сабир. – А надо было и тех привезти?
– Поглядим, что этот скажет.
Сабир провел Кучума на небольшую полянку, где сидел привязанный спиной к разлапистой ели совсем еще молодой карагаец. Он с тоской поглядывал на своих охранников, тех самых плотных и кряжистых воинов, с которыми совсем недавно совещался сотник. Они еще не успели обсохнуть и стояли, подрагивая от холода, стуча зубами, вода капала с них, и когда Кучум махнул им рукой, что могут идти, то с радостью побежали к ближайшему костру, даже не взглянув на доставленного ими пленника.
– Как зовут? – присаживаясь на корточки, спросил Кучум.
– Маймыч[2], – трясясь всем телом, покорно отозвался тот.
– Точно, Маймыч, – ухмыльнулся Кучум, оглядывая тщедушное тело карагайца, что так же неимоверно дрожал от холода и страха, с ужасом смотрел на беседующего с ним человека. – Догадался, кто я? – Тот еще сильнее затряс головой. – Вот и хорошо, значит, все поймешь с первого раза. – Кучум вытащил из-за пояса кинжал и поднес его к пленному, закрывшему от страха глаза. – Не бойся, я не стану тебя убивать, – и с этими словами он разрезал ремни на руках и ногах карагайца, но тот даже не шевельнулся и лишь сильнее вжался в комель ели, словно пытался врасти в нее. – Встань, – резко приказал хан. – Пленный вскочил и тут же упал назад, больно ударившись головой о корень. Так он и лежал, как вынутый из силков зайчонок, лишившийся сил от испуга. – Видишь, – провел кинжалом перед его лицом Кучум, – я могу лишить сил любого человека, а тебя, Маймыч, уже лишил.
– Пощади, хан, – прошептал тот и заплакал, – меня мать дома ждет.
– Выполнишь все, что я прикажу, вернешься к матери. Скажи, выполнишь? Да? А не то… умрешь медленно и мучительно. Ты не сможешь шевельнуть рукой или ногой, коль ослушаешься, и будешь долго так лежать и видеть, как разлагается твое тело, его разъедают черви, вывалятся наружу кишки, и пока не вытекут глаза, ты все будешь видеть, но и после этого еще долго, много дней, чувствовать все происходящее с твоим телом. Ты в моих руках и не смеешь ослушаться моего приказа. Попробуй, шевельни хоть пальцем. – Пленный бросил взгляд на прижатые к туловищу руки, и по тому, как напряглись вены у него на лбу, было понятно, каким неимоверным усилием он заставляет сделать хоть одно движение пальцами. Но те не слушались, словно окаменели, и слезы покатились по сморщенному лицу пленного, делая его еще более жалким и беспомощным. – Не надо реветь, ведь ты мужчина. Все кончится хорошо, коль будешь слушать меня. Договорились? – Маймыч захлопал короткими ресницами, но страх не уходил из глаз, и так он слушал Кучума, теперь уже окончательно став похожим на кролика, лежащего перед раскрывшим пасть удавом.
Кучум еще долго говорил с ним, а потом резко выбросил руку вперед и воткнул в толстый ствол кинжал. Маймыч вздрогнул, неожиданно вскочил, сделав несколько неуверенных шагов, и побежал, поминутно оглядываясь.
– Помни, что ты в моей власти, – крикнул вслед ему Кучум.
Поздно вечером с одного из постов раздался окрик дозорного, и вскоре Кучуму доложили, что к их лагерю приплыл на лодке тот самый пленник, с которым хан долго беседовал. Пройдя вслед за воином, Кучум еще издали различил маленькую фигурку карагайца, покорно стоящего у берега, сложив руки на груди.
– Это ты, Маймыч? – спросил для верности.
– Да, мой хан. Я все выполнил, как было приказано, – и он указал на темнеющую неподалеку лодку.
– И тебе удалось справиться одному? – в голосе Кучума послышалось неимоверное удивление. – Как ты смог?
– Хан своим заклинанием дал мне сил вдесятеро больше, нежели прежде.
– Понятно, понятно, – свел брови на переносье Кучум, – веди, показывай.
Они прошли к лодке, на дне которой лежало тело мужчины в боевых доспехах. Кучум ногой пошевелил его, и по всему было видно, что тот мертв, а рана, зияющая на горле, лишь подтверждала это.
– Кто-нибудь видел, как ты убил его?
– Нет, – спокойно ответил Маймыч, – я позвал его к своей лодке, желая сообщить что-то важное, а когда он наклонился, то ударил в горло кинжалом, – и он протянул Кучуму его собственный кинжал, покрытый коркой крови. Хан принял его, отер о рукав и небрежно опустил в ножны. – А остальное было нетрудно сделать…
– Хорошо, хорошо, – хан брезгливо поморщился, – можешь не пересказывать. Ты свободен, плыви обратно.
– А как же награда? – тонким голоском спросил Маймыч.
– Я даровал тебе жизнь, – коротко ответил Кучум.
Когда лодка карагайца отплыла довольно далеко от берега, хан продолжал стоять на берегу, напряженно глядя в едва темнеющий ее силуэт. Потом вынул кинжал, несколько раз прочертил в воздухе круг и с силой воткнул его в ствол ближайшего дерева. Тут же лодка остановилась, замерла, над ней показались очертания человеческой фигуры, а потом послышался вскрик и отдаленный всплеск. Вскоре все смолкло, и лишь невысокий борт долбленки спокойно покачивался на водной глади.
– Так-то оно лучше, – негромко обронил Кучум и, повернувшись, встретился взглядом с одним из охранников, что оцепенев наблюдал за всем происходящим.
– Тс-с-с! – хан приложил указательный палец к губам. – А то знаешь, что с тобой может случиться? Вот и ладно. Лучше найди веревку покрепче и за ноги привяжи этого мертвеца к верхней ветке вон той березы. Справишься?
Охранник молча закивал головой и кинулся к убитому, которого оставил на берегу Маймыч.
Вернувшись к своему костру, где сидели Кутай-бек и сотник Сабир, Кучум как бы между прочим сообщил:
– Завтра возвращаемся обратно в Кашлык. С предводителем карагайцев, которого прозвали невидимкой, Кузге-беком, покончено.
– Как! – в один голос вскрикнули Кутай-бек и Сабир.
– Да очень просто. Он висит вниз головой на ветке березы. Завтра сами можете убедиться в этом. Нет-нет, сидите, – остановил их жестом, – не стоит ради презренного изменника прерывать нашу беседу. Впрочем, я мог бы расправиться с ним, и не выходя из Кашлыка, но решил чуть поразмяться. – Кучум говорил высокомерно, оттопырив нижнюю губу, как бы нехотя произнося слова, а сотник и Кутай-бек благоговейно взирали на своего хана, как на некое высшее существо. Недаром о нем ходили всякие слухи, мол, обращается он то в орла, то в волка, может разить врага, лишь взглянув на него издали. Сейчас они сами убедились в правдивости тех слухов. Что ж, тем лучше. Трудный поход закончен.
Весть, что Кузге-бек убит, мигом разнеслась по лагерю, но ни один из нукеров в сумерках не решился идти к дереву, где висел бунтовщик, все ждали утра. А утром все с удивлением задирали головы вверх, где на толстенной ветке висел привязанный за рукоять крепкой веревкой изогнутый у основания кинжал хана Кучума. Долго искали охранника, которому поручено было втащить на дерево мертвого Кузге-бека, но и его не удалось отыскать. Не было видно и карагайцев, ни одна лодка не разрезала водной глади, да и сама вода заметно пошла на убыль.
– Отправляемся обратно в Кашлык, – хмуро приказал Кучум, для которого исчезновение бека, прозванного невидимкой, было такой же загадкой, как и для остальных нукеров.
«Может быть, карагайцы сняли его с дерева и увезли с собой, – успокаивал он себя всю обратную дорогу. – Только как не видели их караульные, что менялись дважды за ночь. Странно все это…»
Все селения, лежащие на их пути, казались вымершими. Люди бежали от ханского отряда в глубь леса, прятались на болотах. С одной стороны, это злило Кучума, а с другой… подданные должны бояться своего правителя. Так было и будет всегда, пока существует этот мир.
А земля вокруг них просыпалась, оживала, наливалась силой, и грешно было не улыбнуться ее первозданной девичьей наготе, сбросившей пелену зимних одежд и пока не успевшей надеть летнее одеяние. Ее погрузневшее, разомлевшее под весенним солнцем тело роженицы устало дышало всеми порами кожи-земли, вздымалось буграми холмов, провалами оврагов.
Весенние воды ушли, освободив место для буйства трав и цветов, что украсят землю, оденут ее и возвестят миру о появлении на свет еще одного года жизни, несущего с собой радость и веселье.
Цепочка медленно едущих над речным обрывом всадников напоминала издали стаю черных птиц, парящих у самой земли. Впереди ехал, опустив плечи, человек с седой бородой, тягостно думающий о чем-то своем и не замечающий пьянящих красок весны и прихода на Сибирскую землю нового и молодого года, обещающего множество перемен.
В Кашлыке их ждало известие, что взбунтовались вогульцы, живущие в верхнем течении реки Тавды. В другой бы раз Кучум немедленно направил несколько сотен на их усмирение, но сейчас… сейчас у него просто не было сил для нового похода. Приказав начальнику не пускать к нему кого бы то ни было до следующего утра, он лег, укрывшись с головой, чтоб не слышать доносящихся снаружи шорохов, вскриков гнездившихся неподалеку птиц, радостных воплей детей, радующихся весеннему солнышку и теплу.