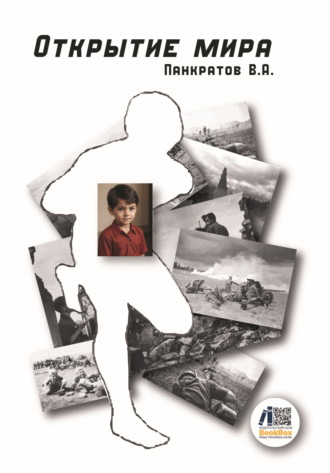
Вячеслав Панкратов
Открытие мира
Глава 4
День рождения
Мир расширяется. Алька уже не удивляется, что мир вокруг него достаточно велик и в нем так много интересного. Это даже становится привычным. Непривычно то, что чем больше он узнает, тем, оказывается, еще больше можно узнавать, и обнаруживается, что окружающее, внешне обыденное и спокойное, часто оказывается непонятным, даже угрожающим, и возбуждает в нем множество странных ощущений и вопросов.
…Они сидят в той же комнате, где Альке гадали по ладони. Светлая солнечная комната с кружевными подушками на кровати и кружевной скатертью на столе, удивительно чистая для барака. Девочки делают себе «дочек», а Алька сидит рядом на стуле с твердым напутствием от Риты не мешать и наблюдает за процессом.
Делают «дочек» следующим образом: каждая девочка рисует себе на бумаге в фас девочку, какую ей нравится, – то с коричневыми волосами, то с желтыми, то с косичками, то с кудряшками, – но обязательно с бантами, с огромными синими глазами и в окружении не менее огромных ресниц, отчего их лица становятся одновременно яркими, но и слегка устрашающими. Все дочки рисуются без платьев, но в трусиках и в маечках, иногда даже с кружевами, после чего начинается процесс изготовления платьев.
Платья тоже рисуются на бумаге, удивительным образом: передняя часть платья рисуется обычным способом, а задняя пририсовывается к ней вверх ногами, или, точнее, вверх юбкой, и обрезается по рисунку ножницами. Если теперь сложить такое платье по линии шеи, а на месте шеи вырезать ножницами небольшую щель, то получается платье, которое можно надеть прямо на голову своей дочке. После этого начинается процедура оценки и прямого хвастовства. Каждая девочка убеждает, что ее дочка лучше, и находит множество изъянов в чужих дочках, в связи с чем споры разгораются.
Поскольку Альке из-за экономии дефицитной бумаги ни рисовать, ни резать не дают, а все рисованные «дочки» кажутся ему довольно неестественными, ему становится скучно. К тому же в какой-то момент он чувствует, что ему хочется пить. Отвлекать девочек он не хочет, тем более что хорошо знает, где находится вода: за занавеской на табурете, в большом зеленом чане с тяжелой крышкой, и кружка стоит рядом.
Он сползает со стула, идет за занавеску, берет кружку, одной рукой снизу вверх приподнимает крышку чана, а другой, правой, – засовывает в чан кружку, чтобы зачерпнуть воды. Но литая чугунная крышка с неровными краями давит на пальцы левой руки, так что он невольно отпускает руку, и тогда крышка острыми краями врезается в кожу правой руки, засунутой в чан, словно захлопывает челюсти. Он еще пытается поднять крышку левой рукой и вытянуть правую руку, но, поняв, что попал в западню, как с селедкой, плачет и зовет Риту.
Рита, конечно же, прибегает, поднимает крышку, вытаскивает руку и, конечно же, дает ему шлепка по попе:
– Ну зачем ты туда полез? Вечно ты куда-то лезешь! Нельзя тебя оставить на минуту!
– Пить хотел, – плачет Алька.
– А попросить не мог?.. Уж лучше в ясли тебя водить, чем сидеть с тобой…
«А попросил бы, сказала бы, что я опять им мешаю», – с упреком думает Алька.
…Снова приходит отец. Алька сталкивается с ним внезапно, вбегая в свою комнату, и, узнав, с радостью бросается к нему на руки. Но мать, стоящая рядом, сердится, забирает Альку у отца и снова что-то резко и настойчиво выговаривает отцу. Она сурова, губы сжаты, брови нахмурены. Он пытается что-то объяснить матери, доказать ей, но она непреклонна.
– Уходи, уходи, – единственное, что успевает понять Алька из ее слов, – не дергай ребенка.
«Почему он дергает?» – не понимает Алька. Отец берет Альку на руки, целует его, снова ставит на пол и, повернувшись, уходит. Последнее, что замечает Алька, – это слезы в его глазах.
«Но почему, почему он должен уходить, когда и так бывает очень редко? Почему он плачет? Почему он не может остаться?» И Алька сам начинает кривить губы, вопросительно глядя на мать. Но тут он замечает слезы на ее глазах и начинает плакать уже в голос. Мать берет его на руки, говорит, что отец снова уехал в свою командировку, уговаривает его замолчать и, успокоив, отпускает в коридор.
Гораздо позже он узнает начало этой истории от самой матери и не сможет осудить ее, но вошедшая тогда в него боль останется с ним навсегда и еще многое предрешит в его жизни в отношениях с людьми.
Но все же самое сильное впечатление, которое остается в Алькином сознании от первых встреч с людьми, и, пожалуй, самый больной вопрос, который будет мучить его потом всю жизнь, оставляет в нем другая встреча, со своим сверстником, которая происходит ближе к осени, когда взрослые девочки уже отвлекаются от игр и начинают собирать книги и тетради, чтобы идти в школу, а мать однажды одевает Альку как-то особенно тщательно и ведет его, а потом даже несет в еще неведомые для него ясли.
– Ты помнишь этот дом? Помнишь? – спрашивает мать, опуская его с рук на землю и снова беря его за руку. – Это твои ясли, помнишь?
Нет, он ничего не помнит из того, что видит перед собой, и ему кажется, что он видит все это в первый раз: желто-серый песок под ногами, прибитый сверху каплями дождя и усыпанный длинными желтыми иглами, золотисто-коричневые стволы деревьев с иглами вместо листьев, уходящие куда-то вверх так высоко, что приходится запрокинуть голову назад, чтобы рассмотреть их кроны, квадратную песочницу, крашенную синей краской, и за деревьями низкий и длинный, как барак, но красивый, тоже выкрашенный голубой краской дом с большими окнами, окаймленными белыми наличниками. Нет, признается он матери, он не помнит. Мать смеется и вводит его через стеклянные двери внутрь дома.
Выходит какая-то женщина, здоровается с матерью (видимо, они знакомы) и начинает разговаривать с ней. Потом мать раздевает Альку, ставит его ботинки в маленький шкафчик и надевает вместо них тапки. Женщина о чем-то спрашивает Альку, кажется, о том, не боится ли он, и он отрицательно качает головой. Потом мать целует его, говорит, чтобы вел себя хорошо, и женщина за руку вводит его из коридора в очень большую комнату, где уже шевелятся на полу и по углам человек двадцать таких же, как он, детишек.
– Иди играй, – говорит она Альке, подталкивая вперед, – вон сколько игрушек.
Игрушек действительно много, даже больше, чем детей: цветные кубики невероятно большой величины, маленькие деревянные – для строительства домов, разноцветные пирамиды кольцами, которые можно надевать на палку, уже знакомые Альке, и еще какие-то мягкие, непонятные, валяющиеся горкой на большом вытертом ковре. Алька никогда не видел ковра и такого количества игрушек и детей и некоторое время стоит, оглядываясь вокруг и осваиваясь в новой обстановке. Никто из детей не обращает на него внимания, и Алька отходит к игрушкам и, выбрав одну, малопонятную, но большую и мягкую – нечто среднее между зайцем с хвостом и крокодилом без пасти (возможно, это был еще неведомый ему тогда кенгуру), – садится на пол и начинает рассматривать ее, пытаясь определить, что это такое. Определить этого зверя ему так и не удается, игрушка уже начинает надоедать ему, и Алька начинает искать глазами, что бы взять в руки более интересное, как видит, что со стороны к нему направляется крупный пузан с круглым лицом и сосредоточенным взглядом. Подойдя к Альке метра на два, он останавливается и внимательно рассматривает Альку темными раскосыми глазами, не моргая и не отводя взгляда, словно видит что-то невероятное. «Что это он уставился? – думает Алька. – Познакомиться, что ли, хочет?» Алька не против знакомства, но что-то в поведении пришельца его настораживает. Тот подходит к Альке совсем близко, плюхается на пол напротив него и снова замирает, ничего не говоря и пристально глядя то Альке в глаза, то на игрушку в его руках. Алька уже собирается протянуть ему игрушку в преддверии знакомства, но пузан, видимо, выяснив для себя что-то важное, неожиданно протягивает руки к Альке, вырывает из его рук неведомого зверя и, не обращая никакого внимания на Альку, начинает сам изучать игрушку, выгибая ей лапы и крутя хвост.
От такой бесцеремонности Алька замирает. Он бы и сам с удовольствием отдал пришельцу эту игрушку, если бы тот попросили, но таким способом!.. Альку всегда учили не брать ничего чужого без разрешения, и никто в бараке не поступал с ним так. Но этот невежа с круглым лицом и косыми глазами!.. К тому же Алька замечает, что игрушка, попав в руки пришельца, неожиданно становится интереснее, чем в руках у самого Альки, то ли потому, что находится теперь на более далеком от него расстоянии, то ли потому, что двигает ее теперь другой и кажется, что она двигается сама. И Алька решает восстановить справедливость и, протянув руки, не менее решительно забирает зверя из рук пришельца.
Теперь наступает очередь удивиться незнакомцу. Он сидит опешив, даже приоткрыв рот от удивления, и переводит взгляд с Альки на игрушку и обратно, видимо, соображая, как это игрушка так ловко перескочила из его рук в руки Альки. Альке даже начинает казаться, что тот начинает осознавать непристойность своего поведения и попытается сейчас найти способ как-то исправить это. Но, увы, надежды на чужую сообразительность тут же рассыпаются, потому что пришелец снова молча вцепляется в игрушку и тянет ее на себя, видимо, даже не сомневаясь, что право обладания ею принадлежит только ему. Но и Алька, уже наученный опытом, крепко держит зверя в руках, вовсе не желая сдаваться, и тогда происходит то, чего Алька уже никак не ожидает. Пришелец отпускает игрушку, открывает рот и орет так, словно его внезапно ударили доской по голове, – Алька еще никогда не слышал такого громогласного рева, разве что от танка. При этом лицо у пришельца краснеет и сжимается в губчатую маску, глаза превращаются в щели, а из этих щелей брызжут вперед огромные светлые слезы и ручьями катятся по круглым щекам. Крик разносится по всей комнате, дети останавливают свои игры, издали бежит воспитательница и бросается к орущему, спрашивая, что случилось, а тот – вот верх коварства! – продолжая орать, указывает пальцем на Альку и на игрушку. Воспитательница начинает укорять Альку, зачем он взял чужую игрушку, Алька, путаясь в языке, пытается объяснить, что это он первый взял игрушку и играл с ней, а тот пришел и отнял, дети, окружив их, с осуждением взирают на происходящее, а бегемот орет, распуская по лицу слезы и слюни, и конца этому, кажется, не видно.
Наконец воспитательница, пытаясь как-то решить проблему крика, уговаривает Альку отдать игрушку орущему. Алька, конечно, соглашается, и тот, добившись желаемого, – надо же! – моментально прекращает рев и удовлетворенно, словно на это и рассчитывал, удаляется в сторону с игрушкой, даже не всхлипнув напоследок. Воспитательница объясняет Альке (не тому крикуну, а почему-то Альке), что игрушек много, всем хватит и не стоит ссориться из-за игрушек (можно подумать, что он и сам этого не понимает или с кем-то ссорился!), и тоже уходит к другим детям, а Алька остается сидеть один, глубоко задумавшись о превратностях судьбы и над тем напором и коварством (этих слов он, разумеется, еще не знает, но понятие уже возникло), которые неожиданно открылись ему в новом представителе рода человеческого. «И как это получается, – думает он, – что мирного, который никого не трогает, обижают, невиновного обвиняют, а виновного, да еще вруна, не то чтобы наказать за его поведение, так еще отдают ему игрушку, чтобы он не нарушал общего спокойствия?»
Он сидит в недоумении, еще не представляя, сколько раз в жизни он столкнется с подобным явлением в поведении людей и сколько еще раз будет скорбеть по поводу этих черт человеческой натуры: не думать о других, без стеснения присваивать себе чужое и самозабвенно отстаивать свои личные интересы, переходя порой все мыслимые границы морали. Позже, будучи уже взрослым, он напишет однажды с грустной иронией в стиле старых восточных поэтов:
Часто бывает, что опыт один получает, от жизни идущий, хуже того, и награду других получает порою орущий.
Но, написав это, так и не решит, как избавить человечество от этого порока. (Многие ли взрослые задумываются о том, как рано в детях зарождается понятие справедливости, чувство собственного достоинства и первое ощущение обиды на внешний мир и людей, переходящее порой в глубокое разочарование людьми и даже в убеждение, что все в мире устроено не так, как должно бы быть?)
Некоторым утешением от этого дня для Альки становится вечер, когда приходит мать, и воспитательница рассказывает ей о случившемся, но Альке, кажется, все же удается объяснить им, как все происходило на самом деле.
А когда они возвращаются с матерью домой и вместе с Ритой садятся ужинать вареной картошкой, мама неожиданно восклицает:
– Господи! Рита!.. Совсем забыли! У Альки же сегодня день рождения! – И начинает искать по дому, что бы ему подарить, но так ничего и не находит.
– Даже вкусненького ничего нет, – сокрушается она, передвигая тарелки в шкафчике у плиты, и отдает Альке свой кусочек сахара.
Но зато любопытный Алька узнаёт в этот вечер удивительные вещи: что, оказывается, он – родился; что раньше, пока он не родился, его, оказывается, и вовсе не было; что всех людей тоже раньше не было, пока они не родились; что все люди рождаются и умирают, когда постареют; что он родился три года назад и поэтому ему уже целых три года, а через год будет уже четыре, а когда он умрет – неизвестно. Заодно он узнает, что такое годы и месяцы, как появляются и проходят времена года; что такое день рождения и как он должен праздноваться; что Рите уже десять лет, а маме через два месяца будет тридцать один год, и они пока умирать не собираются, потому что еще не старые. Одновременно он узнает, что у него, оказывается, есть множество родственников: дяди и тети, которые являются братьями и сестрами мамы и папы, а также бабушки и дедушки, которые для мамы, тетей и дядей являются мамой и папой; и что мамины папа и мама еще живы, а папины уже умерли, и их теперь нет, потому что их похоронили и закопали в землю. То же самое, оказывается, есть и у других людей: и папы, и мамы, и бабушки, и дедушки. Осознать такое сразу не очень просто, особенно если в объяснении одновременно с мамой участвует Рита, которая считает своим долгом объяснять все это вместе с мамой, потому что ей все это уже известно и многих родственников она знает и видела сама, а на похороны папиной мамы, их бабушки, она даже ездила вместе с папой. На Алькин вопрос, а где же они все, эти дяди и тети, ему объясняют, что дяди сейчас сражаются на фронте с немцами, бабушка, дедушка, тети и его двоюродные братья и сестры находятся у себя дома, но «под немцами», в оккупации. Потому что немцы захватили тот город, где они живут, и узнать, что с ними сейчас происходит, невозможно, потому что письма туда не ходят, и поезда туда не ходят, и вообще ничего туда не ходит, потому что там фронт и идет война.
Алька только хлопал своими голубыми глазами, пораженный хлынувшей на него информацией, едва успевал задавать вопросы и разбираться со своей родословной и самим процессом рождения и смерти людей, но так до конца и не мог понять, как он все-таки родился, хотя мог и не родиться, как поместился в животике у мамы, даже если был гораздо меньше, и – главное – как смог оттуда вылезти? Но мама говорит, что этого он пока еще не поймет, а поймет, когда подрастет, а поэтому надо ложиться и спать, чтобы быстрее вырасти и стать взрослым. А утром следующего дня, когда он снова приходит в ясли, он сталкивается взглядом со вчерашним крикуном-незнакомцем, который наверняка еще ничего не знает ни о своем рождении, ни о возможных родственниках, но зато несет куда-то в руках того самого зайце-крокодила-кенгуру, опасливо поглядывая на окружающих. Увидев Альку, он сначала замирает на месте, упершись в него неподвижным взглядом, а потом, сморгнув, бочком-бочком обходит Альку стороной, не отрывая от него взгляда и на всякий случай крепче прижимая к себе свое приобретение.
«Ну, пусть так и ходит», – решает про себя Алька и уходит на ковер складывать пирамидки и кубики.
Опыт учит не всех, но многих.
Глава 5
Мир – прекрасен?
Мир прекрасен в раннем детстве. Мир прекрасен, пока мы, защищенные взрослыми, еще не слишком сталкиваемся с его неприятными сторонами, быстро успокаиваемся, принимая ласку родных, быстро забываем о боли и переходим от одной новизны к другой, еще не осознавая двойственности и обратимости любой новизны. Мир прекрасен, пока нас понимают и оберегают. Но если этого нет?
Что там этот бутуз-крикун, который ходит теперь один, таская за собой свою игрушку, и которого сторонятся другие дети. Можно спокойно собрать пирамидку, чередуя кольца так, чтобы она то раздувалась бочкой, то вытягивалась стройной елочкой. Можно взять большой кубик и сесть на него, а можно взять маленькие и начать собирать из них дом или ставить их один на другой, стремясь, чтобы этот столб не рассыпался. К тебе подойдет маленькая девочка и будет стоять в стороне, наблюдая за тобой и столбом, но не вмешиваясь. Потом столб рассыплется, и она станет помогать тебе собирать кубики и подавать их тебе, с восхищением глядя, как растет столб, а когда он снова не удержит равновесия, бросится подхватывать его, чтобы он не упал, но он все равно рассыплется, и вы будете снова вместе собирать его. Да, девочки явно внимательнее и деликатнее мальчишек. Вот только с незнакомыми девочками как-то все же стеснительно…
Мир прекрасен? Возможно… Через два-три месяца все это становится обыденным и малоинтересным: раннее вставание, когда еще так хочется спать, одевание, полусонное жевание пищи, которая с утра не лезет в горло, поход в ясли в утренних сумерках под хмурым или вовсе дождливым небом, раздевание, укладывание днем в постель, постепенное знакомство с детьми, вполне глупые и непонятные игры…
– Гуси-гуси!
– Га-га-га!
– Есть-хотите?
– Да-да-да!
– Ну летите!
И здесь куда-то надо бежать и зачем-то махать руками, выказывая при этом ничем не объяснимый восторг. (Видели бы они, как рвется по полю танк или сходятся на горизонте рельсы железной дороги!..)
Или еще, не менее достойное: все берутся за руки, становятся в круг и – кто скучая, кто с преувеличенным усердием – поют, расхаживая по кругу то в одну, то в другую сторону, обязательно сталкиваясь и спотыкаясь при этом:
– Как на наши именины
Испекли мы каравай.
Вот такой вышины!
Тут надо поднимать руки вверх и сбегаться в одну кучу.
– Вот такой ширины!
А здесь надо пятиться назад, опуская руки (при этом кто-то обязательно падает).
– Каравай-каравай,
Кого хочешь, выбирай!
И так далее.
– Алик! Ты зачем трогаешь цветок?.. Цветы трогать нельзя!..
– Алик! Почему ты не ешь? Ты о чем думаешь? Надо есть быстрее…
– Алик! Ты почему стоишь в стороне?.. Иди в круг, берись за руки и делай как все!..
Что такое «гуси», Альке объясняет дома всезнающая Рита – она до войны успела с ними познакомиться, – но почему при этом надо кричать «Га-га-га» и махать руками, изображая гусей, непонятно. Что такое именины и каравай и зачем нужна такая сложная процедура выборов, не может объяснить даже Рита, и приходится обратиться к маме. Но зачем этот каравай пекли такой вышины и ширины, ведь его совершенно неудобно есть, и какое отношение имеет этот уникальный хлеб к выбору кого-то из круга, объяснить не может даже мама. Приходится удовлетворяться тем, что это – «такая игра». Правда, в «Каравае» еще можно попеть, но что это за пение! Что это за спевка и голоса!.. Один бубнит на одной ноте куда-то себе под нос, другой кричит с радостным энтузиазмом, вряд ли понимая, что именно он кричит, третья выводит тонюсеньким фальцетом: «Кававай-кававай, кава хочишь выпивай…» Разве это похоже на то, как они поют с мамой, когда она берет в руки гитару и, опирая ее о колено, перебирает струны: «По-за-ра-аста-али стежки-и-доро-ожки, где про-о-о-оходи-или мило-о-ого-о но-ожки, по-зараста-а-али мохо-о-ом, траво-ою, где мы гуля-яли, милый, с тобо-ою» [1].
Или еще:
Что так жадно глядишь на дорогу,
В стороне от веселых подруг?
Знать, забило сердечко тревогу… [2]
И еще интереснее:
В глубокой теснине Дарьяла,
Где кроется Терек во мгле,
Высокая башня стояла,
Чернея на черной скале [3].
Здесь тоже многое непонятно: и Дарьял, и Терек, и теснина, и скалы, и тем более – ничем не объяснимое поведение башенной царицы. Но зато как славно петь под гитару, рисуя себе картины неведомых гор и ущелий:
В той башне, высокой и тесной, Царица Тамара жила: Прекрасна, как ангел небесный, Как демон, коварна, и зла [4].
(Далее смотри по тексту М. Ю. Лермонтова и некоторым смущенным комментариям мамы.)
Песен так много, и так много узнаешь, когда их поешь, что даже дух захватывает.
По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперед,
Чтобы с боя взять Приморье —
Белой армии оплот.
И надо узнать, что такое дивизия, как это она такая большая шла, как сороконожка?.. и что такое Приморье, и оплот, и «знамена кумачом последних ран», – оказывается, раны, это болячки, из которых льется кровь, а кумач – красное, как кровь, полотно, из которого делают флаги… и еще «эскадроны», «партизаны», «атаманы», «воеводы»…
Или другая, которая ему особенно нравилась:
Артиллеристы, Сталин дал приказ!
Артиллеристы, зовет Отчизна нас!
Из сотен тысяч батарей,
За слезы наших матерей,
За нашу Родину – огонь! Огонь! [5]
Что тут какие-то «Гуси-гуси, га-га-га»! Вот только выговаривать эти «сотни тысяч батарей за слезы наших матерей» не очень удобно: язык все время во рту заплетается.
Он, конечно, не понимал, что уже начал изучать и историю, и географию, и даже математику из песен, но зато какие картины рисовало воображение!..
Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой [6].
Катюша – это, оказывается, девушка по имени Катя, яблоки он уже видел, а груш – нет, как расцветают деревья – не видел, а чтобы на них сами росли и просто висели такие вкусные вещи – и представить себе не мог. Он-то и деревья представлял себе плохо, потому что на их пустыре, кроме бурьяна и мелких кустов, ничего не было, а вокруг яслей росли одни сосны.
Жаль только, что маме все время приходится что-то делать: то стирать, то штопать, то варить еду – и уговорить ее взять гитару и попеть удается нечасто. А учитывая, что ей утром нужно бежать на работу, а Рите – в школу и оставлять Альку просто не с кем, приходится соглашаться с яслями, несмотря на раннее вставание и необходимость ложиться днем в холодную постель. («Дети днем должны спать!» – это говорится строгим, категоричным тоном и не подлежит обсуждению. Здесь в яслях, кажется, все не подлежит обсуждению.) Но если хотя бы не еда и не процедура кормления: вот это – действительно трудно.
…Алька еще не знает голода или не помнит его. Он еще не понимает сосущего чувства в желудке, от которого начинает мутить и болеть голова, чувства, выбивающего все мысли и даже желания, кроме одного – желания что-нибудь пожевать. Когда это возникает, Алька начинает рефлекторно жевать оставшуюся еще с «до войны» соску и сглатывает слюну, забивая это чувство. Алька не помнит, что папа на «Пятом участке» привозил из командировок серые замерзшие лепешки бараньего жира и мать строгала этот жир в кипящую воду и подсыпала пшенной крупы, чтобы сварить подобие супа, – может быть, от этого у Альки и разболелся желудок. Алька не знает, что сейчас Рита со всей детворой барака бегает после школы к заводской проходной, и родители, работающие на заводе, выносят им то, что экономят на своих рабочих пайках: кто хлеб, кто капустный суп, кто вареную картошку, завернутую в обрывок газеты.
Алька ест немного, и после своей болезни он не очень любит есть, но мать именно поэтому старается, чтобы он ел больше, и ему, как младшему, достается лучшее, что есть в доме, и это вызывает некоторую ревность быстрорастущей десятилетней сестры. Правда, иногда он просыпается от непонятного чувства, потому что видит во сне хлеб, и ему вдруг нестерпимо хочется его, и тогда он просит: «Мама, дай мне хлебца». Но все же это еще не то сознанное голода, которое уже знают тысячи детей в Ленинграде и еще сотни тысяч его сверстников, разбросанных в детдомы и интернаты или оставшихся в оккупации, где порой едят осоку, крапиву, овсяной жмых или просто траву, чтобы выжить. Понимание этого придет к нему позже.
Пока он сидит в столовой, которая по совместительству является еще и спальней, на маленьком стуле за маленьким квадратным столиком вместе с тремя такими же, как он, малышами над миской с манной кашей, помешивая ложкой сероватую жижу, похожую на цементный раствор, и думает о том, как избежать этого кормления: то ли попытаться все-таки это проглотить, то ли как-то незаметно протянуть время до того момента, когда все кончат есть, и начнут собирать посуду. И как бы было хорошо, если бы нянечка не заметила, что у него не съедена каша и не стала бы ругать его при всех. Он может есть все: и суп, и картошку, и пшенную кашу, и даже рыбий жир, который не любят все дети, но манную кашу он есть не может…
Кто ел эту ясельную манную кашу военных лет, запомнил ее на всю жизнь. Вытащенная из неизвестных хранилищ, замоченная и полусгнившая еще в мешках, сваренная на скорую руку без соли и сахара, с затхлым запахом прели, который, попадая в нос, вызывал тошноту еще до того, как ложка достигала рта, со слипшимися в ней комками, напоминавшими по вкусу скользкую глину, в которой вязли зубы, она не просто не лезла в горло – она подпирала нёбо изнутри, запирала горло, носоглотку и не давала дышать, вызывая спазмы.
– Аля, ешь. Почему ты не ешь?.. Ты что, не умеешь есть сам?.. Что значит «не вкусно»?.. Вон, посмотри, как едят другие…
И указывают на того самого крикуна-бутуза, который, услыхав похвалу, гордо закидывает голову и загружает в рот такие ложки каши, что его щеки раздуваются от напряжения. «Как он может?..» И мало того что говорят такие обидные слова, но еще берут у Альки из рук ложку, зачерпывают ею манную кашу и начинают засовывать ему в рот.
Он пытается не задохнуться, хочет отделить языком эти противные комки от остальной массы, загнать их между зубами и губами, чтобы хотя бы проглотить остальное, но сверху раздается:
– Аля, почему ты не глотаешь?.. Глотай, надо хорошо есть, иначе заболеешь. Глотай…
Он пытается что-то ответить с набитым ртом, но вместо этого вся каша изо рта выплескивается обратно в тарелку.
– Да что же это такое!.. Почему ты не ешь?!
И уже оборачиваются другие дети и смотрят на него осуждающе, и снова бежит откуда-то воспитательница, а он не знает тех слов, которыми можно было бы объяснить, почему он не может есть такой каши, и тихо плачет, опустив голову вниз и капая слезами в тарелку.
И так – каждый день: пробуждение в темноте, торопливый чай, торопливая ходьба или тряска на руках матери, игровая комната, вдоль и поперек изученные стены и игрушки, кормление, холодная постель («Аля! Почему ты не спишь? Закрой глаза!») и целый день без мамы, без Риты, без друзей.
Мир прекрасен, когда нас не напрягают жить так, как мы не хотим, когда мы можем все объяснить и нас понимают. Мир прекрасен, когда мы получаем от него радость и не чувствуем недостатка в чем-либо, когда нас не торопят есть и не кормят через силу, когда нас не заставляют делать противное, когда мы слышим, как поет мама под гитару, когда узнаем интересное, когда ты чувствуешь себя свободным от напряжения и воли взрослых людей, стоящих выше тебя… Но мир становится нудным и малоприятным, когда всего этого нет.
И все же из той зимы сорок третьего года он вынес еще одно интересное наблюдение, положившее начало его долгому изучению мира взрослых и соотношения себя с ними. Это произошло под Новый год в день празднования первой на его памяти новогодней елки.
…То, что приближается Новый год и это большое и радостное событие, Алька узнал от своего основного источник информации – девочек в бараке. И дети, и взрослые в бараке как-то повеселели и стали менее строгими по отношению к ребячьему шуму и беготне по коридору. Ему рассказали про елку, которую приносят из леса, про то, что ее надо украшать, о том, что в Новый год можно ложиться спать поздно, так как Новый год встречают ночью и все веселятся, танцуют и поют. Девочки постарше и прилипающая к ним детвора стали собираться вместе, приносить из своих комнат дефицитную бумагу, красить ее и клеить из нее цепочки, флажки и разные игрушки. Нечто живое проявилось и в яслях в поведении взрослых: все стали как-то менее строгими и начали разучивать с детьми разные стихи и даже песню «В лесу родилась елочка, в лесу она росла…», что было явным прорывом в музыкальном образовании. И вот наконец Альку повели «на елку» в ясли.
…Уже давно все было заметено снегом: и земля, и песочница, и дверь, огражденная сугробами, и даже сосны стояли, замерев от мороза, с ветвями, облепленными снегом. Они с матерью прошли в сени, оттуда за толстую дверь в коридор, и Алька с удивлением увидел, как все изменилось со вчерашнего дня. Все шкафчики были сдвинуты в один угол, и все пришедшие раздевались перед ними по очереди, толкаясь между собой. Дальше весь коридор был очищен от мебели, только стоял зачем-то прислоненный к стене большой дощатый щит.
В коридоре было полно народу: нянечки, воспитательницы, дети – видимо, все дети яслей сразу – и многие матери. Все были одеты празднично и заведомо радовались пока неизвестно чему, а среди них – тетя, одетая Снегурочкой, и длинный дядя в синем кафтане и с ватной бородой – Дед Мороз. Все разговаривали, приводили себя в порядок, но в игорную комнату почему-то не входили, и вскоре открылось почему. Дед Мороз громогласно объявил, что в комнате уже стоит наряженная елка, но попасть туда нельзя, потому что ключ от комнаты куда-то потерялся и прежде надо найти ключ, тогда можно будет открыть комнату, и вот тогда… Ключ потерялся где-то здесь, в коридоре, и всем детям надо его искать, иначе…
– Дети, ищите ключ!
И все ринулись в разные стороны искать ключ.
Альке сразу же эта история показалась сомнительной. Зачем надо было запирать комнату на ключ, если раньше этого никогда не делали?.. Как можно было потерять ключ перед таким важным событием, да еще в пустом коридоре?.. Как его до сих пор еще никто не обнаружил у себя под ногами при таком стечении народа, и – главное! – почему они все такие радостные, если не могут найти ключа и даже поручают сделать это детям?.. Но рассуждать об этом было особенно некогда: все суетились и толкались по углам, а ключ не находился. И где он мог застрять в этом голом коридоре, разве что где-то рядом с этим новоявленным и никому не нужным щитом, прислоненным к стене. Но рядом со щитом прочно обосновался длинный дядя Дед Мороз и, как умелый разводящий, разгонял малышей рукавами своего кафтана в стороны, словно раздувал ветер.





