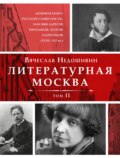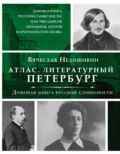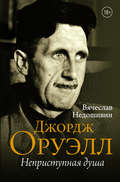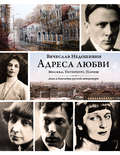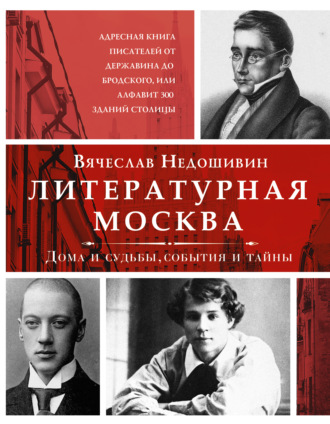
Вячеслав Недошивин
Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны
Так вот, здесь, на Вспольном, жил давний и очень близкий друг поэта – Николай Вильмонт. Он среди всех оказался единственным свидетелем этого разговора – он был в коммуналке поэта (Волхонка, 14/1), когда зазвонил телефон. И его «мемуар», надо сказать, не часто поминают ныне присяжные «пастернаковеды».
«Помню, – пишет Вильмонт, – в четвертом часу пополудни раздался длительный телефонный звонок. Вызывали "товарища Пастернака". Какой-то молодой мужской голос, не поздоровавшись, произнес: "С вами будет говорить товарищ Сталин"». Пастернак не поверил и бросил трубку. Звонок повторился, и боящемуся розыгрыша поэту предложили самому набрать некий номер. «Пастернак, – продолжает Вильмонт, – побледнев, стал набирать номер.
Сталин: Говорит Сталин. Вы хлопочете за вашего друга Мандельштама?
– Дружбы между нами, собственно, никогда не было. Скорее наоборот. Я тяготился общением с ним. Но поговорить с вами – об этом я всегда мечтал.
Сталин: Мы, старые большевики, никогда не отрекаемся от своих друзей. А вести с вами посторонние разговоры мне незачем.
На этом разговор оборвался. «Конечно, – пишет Вильмонт, – я слышал только то, что говорил Пастернак, сказанное Сталиным до меня не доходило. Но его слова тут же передал мне Борис Леонидович… И немедленно ринулся к названному ему телефону, чтобы уверить Сталина в том, что Мандельштам и впрямь никогда не был его другом, что он отнюдь не из трусливости "отрекся от никогда не существовавшей дружбы". Это разъяснение ему казалось необходимым, самым важным. Но телефон не ответил…»
Так заканчиваются иные «литературные легенды». Надо ли говорить, что «дружба» между поэтом и жильцом этого дома стала после этого эпизода сходить на нет. Но Василий Ливанов, актер, чей отец многие годы дружил с Пастернаком, в своих воспоминаниях однозначно подчеркнул: «Нет никаких оснований не верить его свидетельству: репутация Вильмонта, как честного человека, безупречна…»
Это, кстати, знала, чуяла Марина Цветаева, вернувшаяся из эмиграции через пять лет. Ведь дом на Вспольном оказался почти единственным, который она посещала, очутившись в кругу «страха и даже ненависти» литераторов тех дней. Она дружила с Вильмонтом, и если у Пастернака все и позже будет хорошо: личный шофер, богатая дача и двухэтажная квартира в «писательском доме» (Лаврушинский пер., 17), то бездомная Цветаева, как раз здесь, на Вспольном, идя в этот дом, вдруг (как вспомнит шедшая с ней жена Вильмонта) нагнулась и, никого не стесняясь, подобрала с асфальта валявшуюся луковицу: «Суп сварю, – задорно сказала при этом. – Привычка. Бывали дни, когда я варила суп из того, что удавалось подобрать на рынке…»
Так заканчиваются иные «легенды» и так пишется великая история великой русской литературы.
80. Выставочный пер., 8/31 (н. с.), – Ж. – в 1940–50-е гг. – разведчик, литератор, издатель, полковник МГБ, начальник отдела МГБ СССР (1946–1947) и зам. гл. редактора журнала «Советская литература», участник похищения в Париже белого генерала Е. К. Миллера и убийства с группой С. Я. Эфрона (мужа М. И. Цветаевой) политэмигранта И. С. Рейсса (1938) – Борис Мануилович Афанасьев (болгарин, настоящее имя – Борис Емануилов Атанасов). До этого, до «командировок» на Запад, жил в 1920–30-х гг. на 1-й Тверской-Ямской, 16/23. Там, на Тверской-Ямской, получил первое жилье эмигрант из Болгарии, член компартии, сначала слушатель Академии комвоспитания, а затем научный работник, преподаватель Коммунистического университета им. Якова Свердлова Б. М. Афанасьев. В 1932 г. его пригласили на работу в иностранный отдел ОГПУ, после чего он получает направление на нелегальную работу сначала в Австрию, а с марта 1936 г. – в Париж.
В Париже к нелегальной группе Афанасьева (позывной «Гамма») и его подельника Владимира Правдина (псевдоним Роллан Аббиа) присоединяют группу завербованного НКВД в качестве «наводчика-вербовщика» мужа Марины Цветаевой – в прошлом прозаика, актера и редактора Сергея Эфрона (разведывательный псевдоним «Андреев»). Под руководством Афанасьева, знакомство с которым не отрицала позже и Цветаева, группа с участием Эфрона организует ночное похищение в одном из домов Парижа архивов Троцкого и его сына – Седова. А следующим поручением Центра, в котором парижским координатором двух групп стал Эфрон, был поиск и ликвидация «невозвращенца», резидента НКВД – Игнатия Рейсса (Игнаса Порецки). Рейсс не только отказался вернуться по вызову в СССР, но написал открытое письмо в ЦК ВКП(б): «Я шел вместе с Вами, ни шагу дальше. Наши дороги расходятся! Кто теперь еще молчит, становится сообщником Сталина и предателем дела рабочего класса и социализма… Близок день суда международного социализма над всеми преступлениями последних десяти лет. Ничто не будет прощено… Я возвращаю себе свободу. Назад к Ленину, его учению и делу…»
Рейсса «вычислили» в Лозанне и 4 сентября 1937 г., с помощью еврейки-коммунистки Шильдбах, его знакомой, заманили в автомобиль якобы для «встречи» с двумя товарищами – «нашими единомышленниками». «Товарищами» оказались Роллан Аббиа (Вл. Правдин) и Афанасьев. Был еще в машине и некто Кондратьев. Но ныне пишут, что именно Афанасьев лично выпустил восемь пуль в предателя.
«Труп выбросили на тротуар в районе Уши, называемом Шамбланд, – пишет ныне писатель Михаил Шишкин, живущий в Швейцарии. – В кулаке Порецкого был зажат клок волос Шильдбах. Убийцы благополучно скрылись во Франции, бросив свои вещи в гостинице, а взятый напрокат автомобиль – в Женеве… Швейцарской полиции не составило труда арестовать бывшую учительницу Ренату Штейнер (знакомую Эфрона. – В. Н.), на чье имя была взята машина в прокатной фирме. Стали известны и другие имена, и тогда швейцарская полиция обратилась к французской. 17 сентября арестовали Дмитрия Смиренского и Ренату Штейнер, и Смиренский назвал тех, кто вместе с ними выслеживал Рейсса».
Правдину, Кондратьеву и Эфрону пришлось спешно бежать на советский корабль и покинуть Францию. Но не Афанасьеву, который через две недели с помощью бывшего белого генерала Николая Скоблина и его жены – певицы Надежды Плевицкой осуществил удачное похищение и вывоз в СССР белого генерала Миллера, который возглавлял в Париже Общевойсковой Союз. Его Скоблин пригласил в свою машину у метро «Жасмен», и генерал исчез навсегда…
Через три года, в 1941 г., в Москве будет расстрелян как «предатель и изменник» муж Цветаевой – Сергей Эфрон. И в 1941 г. Афанасьев получит на Лубянке уже второе повышение – станет начальником отделения Первого управления (внешняя разведка) НКГБ СССР. Позже, когда его все же уволят со службы, он свяжет свою жизнь, представьте… с литературой. До 1953 г. будет работать в издательстве «Иностранная литература», потом литсотрудником в журнале «Новое время», позже возглавит журнал на фр. языке «Произведения и мнения», а с 1965 г. и до смерти в 1981 г. будет трудиться замом гл. редактора журнала «Советская литература»…
Разумеется, стихов Марины Цветаевой или ранней прозы Сергея Эфрона, кому история, связанная с ним, сломала жизнь, этот журнал не печатал… Но это – тоже страничка истории литературы, которую, увы, не вырвешь, не вычеркнешь и не спрячешь.
Г
От Гагаринского до Гусятникова переулка

81. Гагаринский пер., 11 (с.), – дом архитектора Н. Г. Фалеева. Ж. – в 1919–1920 гг. в этом доме (по одной из версий – подаренном лично В. И. Лениным) – американский журналист, поэт (книга стихов), прозаик, военный корреспондент, член Исполкома Коминтерна, автор книги «Десять дней, которые потрясли мир» – Джон Рид и его жена – журналистка Луиза Брайант. Здесь в октябре 1920 г. Д. Рид скончался от тифа и был похоронен у Кремлевской стены. Ныне – посольство Республики Абхазия.
82. Гагаринский пер., 18/2 (с.), – церковь Святого Власия. Здесь 12 апреля 1906 г. венчались поэт Максимилиан Александрович Волошин и его первая жена, художница Маргарита Васильевна Сабашникова. Волошин ради этого случая даже облачился во фрак, чего никогда не делал раньше. А аристократичная Сабашникова позже вспомнит, что долго не решалась сказать матери, что решила выйти замуж за Макса. Боялась гнева ее: «Я чувствовала свою внутреннюю зависимость от нее и, может быть, именно поэтому… поступала ей наперекор… Было странно только, что я не чувствовала себя счастливой…»
В книге воспоминаний «Зеленая змея», уже в эмиграции, Маргарита признается, что перед свадьбой «находилась в каком-то странном состоянии… Я как будто отсутствовала и даже церковное венчание, которое в православной церкви так красиво, воспринимала как сон, нисколько меня не затрагивающий».
А что же Макс Волошин, уже признанный к тому времени и художник, и поэт? А он, когда одна девушка, балерина, спросит его в конце 1920-х гг., почему они расстались с Сабашниковой, ответит: «Маргарита всю жизнь мечтала иметь бога, который держал бы ее за руку и говорил, что следует делать, что не следует. Я им никогда не был…» Этим, возможно, объясняется и неприятие его родней невесты, и отношение к нему самой Сабашниковой. Богом он был для других, уже тогда способных оценить его значение. А для обывателя, для просто «прохожих по жизни» он был, представьте… «дворником».
Это не метафора. Так однажды одна маленькая девочка, увидев новобрачных, громким шепотом спросила мать: «Мама! Почему эта царевна вышла замуж за этого дворника?..» Мама стушевалась, Маргарита рассмеялась, а Макс, как пишут, просиял.
«Маргарита, – вспоминая этот эпизод, напишет потом Марина Цветаева, – действительно походила на царевну, во Флоренции ее на улице просто звали: Ангел! Но от себя прибавлю, что дворник в глазах трехлетней девочки существо мифическое… Дворник рубит дрова огромным колуном, на который страшно и смотреть. Дворник на спине приносит целый лес, дворник топит печи, то есть играет с огнем… лопата у дворника вдесятеро больше девочкиной, а сапог выше самой девочки… Дворник может сделать то, на чем кататься, и то, что катается, салазки и гору… Папа ничего не может, а дворник – все. Значит, дворник – великан…»
Волошин и мог все. Но через год поэт и художница расстались. Он женится второй раз, а Маргарита, навсегда уехав в 1922 г. за границу, так замуж больше и не выйдет… Некому, видимо, было больше говорить: что «следует делать», а что – «не следует»…
83. Гагаринский пер., 29 (с.), – трехэтажный дом, построенный на деньги гвардейского штабс-ротмистра П. А. Дурново (1905, арх. М. Я. Кульчицкий). Ж. – с 1905 по 1910 г.: построившая этот дом дочь П. А. Дурново – революционерка и мемуаристка Елизавета Петровна Эфрон (урожд. Дурново), ее муж – «чернопеределец» и эсер – Яков Константинович (Калманович) Эфрон и их дети, в том числе – будущий прозаик, публицист, муж Цветаевой и будущий сотрудник НКВД – Сергей Эфрон.
Удивительна судьба обитателей этого сохранившегося дома. И не потому только, что один из сыновей супругов, Сергей, станет мужем Марины Цветаевой. Удивительна тем, что здесь жили реальные революционеры, что родители Сергея именно тут устроили подпольную социал-демократическую типографию, существование которой не раз становилось причиной обысков полиции.
Елизавета Дурново, происходившая из старинного дворянского рода, единственная дочь рано вышедшего в отставку гвардейского офицера, флигель-адъютанта Николая I, вместе со своим будущим мужем Яковом Эфроном, слушателем Высшего технического училища, вступила в партию «Земля и воля», а при расколе организации в 1879 г. на «Народную волю» и «Черный передел» примкнула к последней группе. В июле 1880 г. Елизавета была арестована при перевозке нелегальной литературы и типографского оборудования из Москвы в Петербург и заключена в Петропавловскую крепость. «Ее отец, благодаря сохранившимся связям, сумел взять дочь на поруки, и ей удалось бежать за границу», куда последовал за ней, также отсидевший в тюрьме ее будущий муж. Там они обвенчались и обзавелись тремя детьми, причем одну из дочерей назвали Верой в честь своего товарища – Веры Засулич, а другая, старшая, когда они вернутся в Россию, – помогала в 1905 г. строить баррикады на улицах Москвы.
Потом была новая тюрьма – уже Бутырка, куда непокорную Елизавету заключили за «принадлежность к террористической группе эсеров-максималистов». Что говорить, Сергей, будущий муж Марины Цветаевой, позже в Париже то ли в шутку, то ли всерьез рассказывал друзьям, что еще семилетним «прятал от полиции бомбу в штанах».
Но закончилось все в этом роду поистине трагически. В 1909-м скончался отец. Мать Сергея, выпущенная под залог, бежала во Францию, но в 1910-м, после самоубийства ее младшего сына, в аффектации свела счеты с жизнью и сама. А Сергей, напротив, попав за границу с отступившей Белой армией, был завербован НКВД, бежал из Парижа в СССР и в 1939 г. был заключен в ту же Бутырскую тюрьму, где в 1941 г., как «предатель и шпион», был расстрелян.
Могила его, как и могила его жены – Марины Цветаевой, – до сих пор неизвестна.
84. Гагаринский пер., 31/6 (н. с.), – Ж. – до 1797 г. в собственном доме Николай Андреевич Тютчев и его жена – Пелагея Денисовна Тютчева (урожд. Панютина) – дед и бабушка поэта Ф. И. Тютчева.
Позднее, с 1820-х гг. и до 1831 г., здесь, в семье своего тестя, бригадира Дмитрия Александровича Новосильцева, жил поэт, прозаик, драматург, «русский Вальтер Скотт», по мнению современников, будущий директор московских театров и академик (1832) – Михаил Николаевич Загоскин и его жена – незаконнорожденная дочь Новосильцева – Анна Дмитриевна Васильцовская. Именно в этом доме Загоскин, живший бедно и стесненно, написал и издал в 1829 г. свой знаменитый роман «Юрий Милославский, или Русские в 1612 г.».
Загоскин с детства мечтал быть писателем. Рассказывал, что уже в 11 лет написал и пьесу «Леон и Зыдея», и повесть «Пустынник». Жил с родителями в Пензе, но, разумеется, не догадывался, что его мать Наталья Михайловна «прославится» в будущем тем, что ее племянник Мартынов убьет на дуэли Лермонтова.
В Петербург юного Загоскина привез в 1802 г., чтобы «пристроить мальчика на службу», его троюродный брат, сын пензенского губернатора и будущий мемуарист Филипп Вигель. Он писал: «Ему было тогда лет четырнадцать, и уже по тогдашнему обычаю его готовили на службу, хотя учение его не только не было кончено, мне кажется, даже не было начато. Имя Миши, коим звали его, было ему весьма прилично; дюжий и неуклюжий, как медвежонок, имел он довольно суровое, но свежее и красивое личико…»
В 1812 г. этот «медвежонок» не только записался в ополчение, но и после боев был награжден орденом Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». А в 1816 г. юноша с «красивым личиком», вопреки желанию родни, взял в жены незаконнорожденную дочь бригадира Новосильцева. И этот дом в Москве, дом его тестя, стал первым жильем писателя-драматурга.
Писатель Сергей Аксаков, посетивший здесь драматурга, напишет потом и про этот дом писателя, и про жизнь его здесь: «Загоскин жил… в мезонине с женой и детьми, и помещался очень тесно. Я видел, что мое посещение его смутило. Комнатка, в которой он меня принял, была проходная; все наши разговоры могли слышать посторонние люди из соседних комнат, а равно и мы слышали все, что около нас говорилось, особенно потому, что кругом разговаривали громко, нимало не стесняясь присутствием хозяина, принимающего у себя гостя. Загоскин, очень вспыльчивый, беспрестанно краснел, выбегал, даже пробовал унять неприличный шум, но я слышал, что ему отвечали смехом. Я понял положение бедного Загоскина посреди избалованного, наглого лакейства, в доме господина, представлявшего в себе отражение старинного русского капризного барина екатерининских времен, по-видимому, не слишком уважавшего своего зятя…»
Видимо, в подобной обстановке Загоскин принимал здесь и заехавшего к нему, как утверждают, Пушкина. И в такой атмосфере писались им здесь три части его «Милославского», который прославил его и был довольно скоро переведен на шесть языков. Остается лишь добавить, что, разбогатев после выхода этого романа, Загоскин первым делом купил и переехал уже в собственный дом в Москве (Денежный пер., 5).
Впоследствии в этом доме жил в 1830–40-е гг. философ-русист, академик Иван Иванович Давыдов, а в начале 1900-х гг. – живописец, график, критик, член кружка «Голубая роза» и объединения «Мир искусства», иллюстратор Пушкина, Гоголя, Сервантеса – Василий Дмитриевич Милиоти. До этого художник жил на Воздвиженке 18/9 (с.), а позже, в 1920 г. – в левом флигеле «Дома искусств», бывшем доме Соллогубов на Бол. Никитской, 52 (с., ныне дом Союза писателей), где у него вспыхнет «мимолетный роман» с Мариной Цветаевой, про который он уже в эмиграции скажет, что это была его «последняя любовь».
85. Газетный пер., 3 (с.), – Ж. – в 1822–1826 гг., в не сохранившемся до наших дней доме князя Петра Ивановича Одоевского (позже – дом В. И. Ланской) его двоюродный внук – прозаик, музыковед, композитор, князь Владимир Федорович Одоевский, будущий директор Румянцевского музея (с 1846 г.). Здесь по субботам у князя собирался литературно-философский кружок «Общество любомудрия». Б. – Д. В. Веневитинов, И. В. Киреевский, Н. М. Рожалин, А. И. Кошелев, В. П. Титов, С. П. Шевырев, Н. А. Мельгунов и др. Позже, в 1850-е гг., в этом утраченном доме жил поэт, прозаик, филолог, историк, переводчик и издатель Осип (Иосиф) Максимович Бодянский, на квартире которого в 1858 г. останавливался поэт и художник Тарас Григорьевич Шевченко.
Но вот, заметим, – странность! Дом, где у князя Одоевского собирались поэты и музыканты, снесли. На его месте выстроили ныне существующее здание. Но что-то такое «помнила» сама земля, на которой вырос этот, по тем временам, «новодел». Ибо уже в этом здании в 1921 г. поселилась литературовед, критик, редактор и библиограф Евдоксия (Евдокия) Федоровна Никитина (урожд. Плотникова, в первом браке Богушевская), та, которая осталась в истории русской литературы как организатор «Литературных субботников».
Выпускница Высших женских курсов, влюбленная в литературу, она, вроде бы по предложению академика А. Н. Веселовского, стала собирать у себя дома поэтов и прозаиков еще с 1914 г. А после переселения сюда ее «субботники» превратились уже в регулярные и многочисленные собрания, которые насчитывали более сотни имен писателей, поэтов, критиков, литературоведов, художников и даже актеров.
Кто только не поднимался к Никитиной по лестнице этого дома! Луначарский, Андрей Белый, Городецкий, Вересаев, Грин, Новиков-Прибой, Форш, Чуковский и Пришвин, Цветаева и Парнок, Пастернак и Луговской, Леонов и Пильняк, Бабель и Сейфуллина, Шишков и Булгаков, Шенгели и Инбер, Клычков и Эренбург. Здесь читали стихи, прозу и пьесы, здесь Никитина в 1922 г. организовала издательство, которое так и назвала – «Никитинские субботники», тут энтузиасты стали выпускать даже свой альманах «Свиток», в котором спорящие до хрипоты «письмэнники», печатались без учета принадлежности к разным воинствующим «группировкам». Шутка сказать, издательству удалось не только до 1931 г. выпустить более 300 изданий книг и брошюр, но позже, когда в 1931-м в стране полностью ликвидировали «частное предпринимательство», Евдокии Никитиной удалось договориться с властями и включить свой «книжный проект» в состав государственного издательства «Федерация». К тому времени с 1929 г. и Никитина, и ее «субботники» переехали в новую квартиру (Тверской бул., 24). Но главное, к тому времени Никитина, ставшая без научных работ, вообразите, профессором МГУ, вышла в третий раз замуж за высокопоставленного чиновника Бориса Этингофа, в прошлом кадрового чекиста, который немало помогал ей в ее «деле». В «деле», но – каком?..
Ныне все чаще исследователи склоняются к мысли, что в 1920-х гг. «Никитинские субботники» собирались, что называется, «под контролем» могущественной спецслужбы ОГПУ. Именно потому им и позволили существовать в самые страшные годы. Более того, утверждают, что именно семья Никитиных была связана с этим ведомством. Это, в частности, утверждает ныне Марина Арсеньевна Тарковская, дочь поэта, который также бывал в этом доме. Но доказательств этому, конечно же, нет.
Впрочем, один «факт» установлен вполне реально. Здесь, в этом доме, на одном из «субботников» 1925 г., Михаил Булгаков прочел собравшимся свое «Собачье сердце». Публика бушевала, смеялась и ехидничала. Но почти сразу на писателя поступило в ОГПУ два доноса: «Вся вещь написана во враждебных, дышащих бесконечным презрением к Совстрою тонах…» Последовал обыск на квартире Булгакова (Чистый пер., 9) и изъятие его рукописей и дневников, в том числе и рукописи «Собачьего сердца». Кто донес, неизвестно до сих пор. Но очевидно, что «кружок», подобный «никитинскому», без «пригляда» Лубянки просто бы не существовал…
Впрочем, этот дом знаменит еще и тем, что в нем на 6-м этаже жили в начале 1920-х гг. поэты Иван Васильевич Грузинов и Матвей Давидович Ройзман, друзья Есенина, Мариенгофа, Шершеневича, Всеволода Иванова, Орешина и Пильняка, которые все бывали у них. И в этом доме, но раньше, в 1915–1916 гг., жил актер, режиссер, мемуарист, племянник Чехова – Михаил Александрович Чехов и его жена – актриса Ольга Константиновна Чехова (урожд. Книппер, племянница жены А. П. Чехова). Так вот здесь, видимо, в 1916 г., и родилась их дочь – будущая немецкая актриса Ольга (Ада) Чехова, ставшая в будущем (по слухам) совсекретным агентом наших спецслужб в фашистской Германии.
Ну как тут не поразиться, что земля действительно помнит все!
86. Газетный пер., 12 (н. с.), – Ж. – в 1844 г. – прозаик, критик, цензор и мемуарист Сергей Тимофеевич Аксаков, его жена Ольга Семеновна Аксакова (урожд. Заплатина) и их дети, прозаики и критики Константин, Иван и Вера.
Вообще в Москве домов, где жили Аксаковы, специалисты насчитывают более двадцати. Но в этом доме жили недолго, он стал одним из домов «в череде переездов».
Именно здесь старший сын Аксаковых – 27-летний поэт и драматург, друг Хомякова, Киреевского и Самарина, Константин Сергеевич, становится, по сути, главой русских славянофилов. У него уже вышла отдельная брошюра о Гоголе «Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения Чичикова, или Мертвые души», он вот-вот ввяжется в полемику с Белинским, а ссоры с «западниками» идут у него уже всерьез. В это вот время и произошла одна памятная встреча Константина Аксакова здесь – в Газетном.
Александр Герцен, бывавший у Аксаковых, вспоминал: «В 1844 году, когда наши споры дошли до того, что ни славяне, ни мы не хотели больше встречаться, я как-то шел по улице; К. Аксаков ехал в санях. Я дружески поклонился ему. Он было проехал, но вдруг остановил кучера, вышел из саней и подошел ко мне.
– Мне было слишком больно, – сказал он, – проехать мимо вас… Вы понимаете, что после всего, что было между вашими друзьями и моими, я не буду к вам ездить; жаль, жаль, но делать нечего. Я хотел пожать вам руку и проститься. – Он быстро пошел к саням, но вдруг воротился; я стоял на том же месте, мне было грустно; он бросился ко мне, обнял меня и крепко поцеловал. У меня были слезы на глазах. Как я любил его в эту минуту ссоры!..»
Здесь бывали у Аксаковых, как и прежде, М. Н. Загоскин, С. П. Шевырев, А. С. Хомяков, Н. М. Языков, аксаковские «субботы» посещали Белинский, композитор А. Н. Верстовский, актеры П. Мочалов, М. Щепкин и многие другие.
87. Глазовский пер., 8 (с.), – особняк Н. К. Ушковой-Кусевицкой (1899, арх. Л. Н. Кекушев). Ж. – с 1900 до 1917 г. в собственном доме – музыкант-контрабасист, дирижер Сергей Александрович Кусевицкий, у которого останавливались композиторы Александр Николаевич Скрябин (1908) и Клод Дебюсси (1913). А бывала в этом доме едва ли не вся музыкальная Москва и самые крупные звезды ее – Рахманинов и Прокофьев. Заглядывали сюда «на огонек» и поэты – тот же Бальмонт и Андрей Белый. Но лишь одно из известных ныне имен как бы совместило в себе и музыку и поэзию.
Этот дом, на удивление, сохранился и снаружи, и внутри. Говорят, что архитектор Лев Кекушев строил его для себя. Но обстоятельства (финансовые прежде всего) заставили его продать свой «шедевр» богатой жене Сергея Кусевицкого.
Ныне здесь официальное представительство одной из областей России – так запросто не войдешь. Но я бывал там и свидетельствую: там сохранилось почти все – и великолепные залы, и деревянная лестница на 2-й этаж. Там даже есть рояль, новый, конечно, не тот, на котором по вечерам при свечах играли и хозяин дома, и Скрябин, и Рахманинов с молодым Прокофьевым.
Но мало кто знает, что здесь, за роялем Кусевицкого, сидел в один из вечеров 1909 г. молодой Борис Пастернак, тогда не поэт еще, а неизвестно кто. Мечтал быть композитором, но именно в этом доме порвет с музыкой навсегда. Вывалится, как пьяный, из этого дома и в вечерних сумерках, не замечая повозок, телег, пролеток, будет, как в безумии, – так сам вспоминал потом – по нескольку раз пересекать каждую улицу. Ему, девятнадцатилетнему, Скрябин, кумир его, только что сказал: музыка – истинное призвание его. А он, выскочив на улицу, тут же решил: он рвет с музыкой. Навсегда! Станешь тут пьяным!
Он сыграл Скрябину две сочиненные им прелюдии и сонату. Тот, вспоминал, обомлел. О способностях, сказал, говорить нелепо, налицо «несравненно большее», ему дано в музыке «сказать свое слово». Именно так! Но, выскочив в сырую ночь, Пастернак вдруг решил: с музыкой кончено! Нет, видимо, там, на небе, музы, покровительницы искусств, не просто ссорились – дрались за него. Ведь он хотел и мог стать художником, как отец: его рисунки и ныне хранятся в музее. Бросил – увлекся музыкой. Учась в университете, бегал в консерваторию, занимался оркестровкой и контрапунктом с Глиэром. Мучило будущего поэта отсутствие абсолютного слуха – способности узнавать высоту любой взятой ноты. Скрябин в тот вечер успокоил: это не важно, для композитора даже не обязательно. Но приговор юноши себе станет строже.
«Это был голос требовательной совести, – напишет Пастернак про ту ночь, – и я рад, что этого голоса послушался». Потом так же порвет с философией, хотя в Марбурге, в университете, куда поедет доучиваться, и профессор Коген, и будущее светило философии Кассирер – все советовали ему остаться и преподавать. «Вы нашли золотую жилу, – кричал ему Кассирер, прослушав его реферат. – Теперь надо лишь работать!..» И намекал на докторантуру, на феерическую карьеру в науке. Но ему уже не надо было и этого. Другу в Москву сообщил из Марбурга, что как раз в день защиты реферата написал сразу пять стихотворений…
Нет, все-таки «абсолютный слух» у него был! Иначе не услышал бы истинного призвания, не понял бы, что миссия его все-таки поэзия, а стихия – стихи…
Сам хозяин дома, Кусевицкий, музыку не бросит и, уехав отсюда в эмиграцию, в 1924 г. станет в Америке дирижером Бостонского симфонического оркестра. И не оставит палочки дирижера почти 20 лет – до 1942 г.
88. Гнездниковский Бол. пер., 3/5 (с.). Когда-то на месте этого дома, до 1819 г., жил в собственной усадьбе поручик лейб-гвардии Московского полка, знакомый Пушкина, родовитый дворянин – Михаил Николаевич Щербачев.
Это одно из мест Москвы XIX в., где в 1810–20-е гг. кипела светская жизнь. Сам Щербачев, воин, храбро воевавший в 1812 г., остался известен в связи со своей последней дуэлью. 2 сентября 1819 г. он был смертельно ранен под Петербургом на поединке с «молодым повесой» Руфином Дороховым, также «добрым знакомым» Пушкина, а с 1840-го и другом, однополчанином Лермонтова (в скобках заметим – в некоторых чертах именно Дорохов станет прототипом Долохова в романе Толстого «Война и мир»).
По сохранившемуся доныне свидетельству секунданта Пушкина на его последней дуэли Данзаса, поэт, смертельно раненный на дуэли с Дантесом, сказал ему, возвращаясь в повозке после последнего поединка: «Я боюсь, не ранен ли я так, как Щербачев…» Ранен на той самой дуэли 1819 г.
С Руфином Дороховым, сыном генерала, героя 1812 г., поэтом, представьте, и даже драматургом, но человеком «буйного нрава», который, по словам А. В. Дружинина, был «из породы удальцов», воспетых Денисом Давыдовым, Пушкин, пишут, неоднократно кутил, играл в карты и, возможно, встречался и в этом несохранившемся доме. Ибо впоследствии здесь жил родственник Нащокина, сын гофмаршала и камергера, лейб-кирасир и также – картежник и кутила, друг известного авантюриста и дуэлянта Федора Толстого-Американца – Петр Александрович Нащокин и его жена – Анна Михайловна Нащокина (урожд. Еропкина).
От этого «шумного гнезда», поставленного, как говорили тогда, на «широкую ногу», до нас дошло только строение 3 дома 3 (с. п.), где в 1850–60-х гг. жила младшая дочь П. А. Нащокина – музыкантша, композиторша, исполнительница романсов Елизавета Петровна Нащокина, которая в 1852-м вышла замуж за известного прозаика, драматурга (автора более 100 пьес и водевилей), композитора, критика и режиссера Константина Августовича Тарновского (псевдоним Семен Райский и Евстафий Берендеев). Отсюда супруги уедут в Париж, где Е. П. Нащокина прославилась своими романсами, а ее муж – популярными водевилями, о которых наперебой писали французские «Figaro», «Gaulois» и «Presse».
Наконец, здесь, в нынешнем доме № 3/5, в 1950–60-е гг. жил прозаик, драматург и переводчик – Александр Мелентьевич Волков – автор книги «Волшебник Изумрудного города». До этого, до 1954 г., он жил в Наставническом пер., 20, а позже, до 1977 г., жил по адресу: Новопесчаная ул., 19/10 (с.).
89. Гнездниковский Бол. пер., 10 (с.), – дом инженера-строителя Э. К. Нирензее (1914), первая «высотка» города. Здесь, на 1-м этаже, располагался театр Н. Ф. Балиева «Летучая мышь» (с 1914 г.). 21 января 1914 г. в театре чествовали англ. писателя Герберта Уэллса. Б. – М. Горький, В. Я. Брюсов, В. Ф. Ходасевич, Б. В. Савинков, Б. А. Садовской, И. Г. Эренбург, М. А. Кузмин, В. В. Каменский, Л. Н. Сто`лица, Т. Л. Щепкина-Куперник, Н. А. Тэффи, А. Н. Толстой и многие другие. Позже сцена театра принадлежала последовательно театру «Кривой Джимми», с 1924 г. Театру сатиры, с 1928 г. студии Малого театра, с 1930 по 1950 г. – театру «Ромэн».
В этом же доме на последнем этаже в 1917 г. открылся ресторан «Крыша», а в 1920-х гг. на 2-м этаже разместилась русская редакция берлинского журн. «Накануне». В нем сотрудничали: О. Э. Мандельштам, Б. А. Пильняк (Вогау), К. А. Федин, В. П. Катаев, М. А. Волошин, Ю. Л. Слезкин, А. Б. Мариенгоф, Вс. В. Иванов, М. А. Булгаков, В. Г. Лидин (Гомберг), Вс. А. Рождественский, П. В. Орешин, К. И. Чуковский и многие другие. Здесь же размещались редакции журналов «Огонек», «Творчество», «Литературная учеба», издательств «Радуга», «Россия», а с 1934 г. – и издательство «Советский писатель».