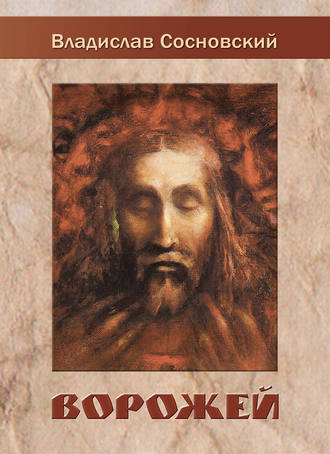
Владислав Сосновский
Ворожей (сборник)
Хирург поднял голову к небу и медленно, вкусно вдохнул родниково чистый, влажный воздух, ощутив, что вместе с хвоей, речной свежестью в нем растворено еще эхом звучащее: «Радуйся!»
– Ну ты даешь, командир, – попенял Хирургу Борис, когда за тем захлопнулась дверь теплушки. – Мы думали, не уснул ли ты часом где-нибудь под кустом. Живот, что ли, схватил?
– Догадливый ты парень, Боря. И это в тебе – золотое качество, – ответил Хирург и начал стаскивать с себя волглую фуфайку.
Боцман поднялся и открыл настежь дверь. Дым от выкуренных папирос волной стал выливаться в бездонную ночь, а та вмиг наполнила вагон лесным еловым ароматом, хорошо приправленным запахом реки.
– Что ни говори, – сказал Боцман открывшейся ночи, – а море пахнет лучше. Сильней пахнет. Сильней.
– Я не против, – сказал Хирург Борису. – Пойдем завтра вместе. В тайге-то бывал?
– По-настоящему – нет. Так… на экскурсии.
– Вся наша жизнь – экскурсия, – философски заметил Боцман.
– Это точно, – согласился Хирург, – большая экскурсия.
Автобус, наконец, заполз на очередной подъем и остановился. Дальше дорога была ровной, но вдали виднелся глубокий спуск перед новым, спирально кольцевым витком вверх.
Слева, завернутая в метельное покрывало, сонно стояла тайга. Справа же, в низине, покоилось гранитно-седое плато океана.
– Перекур! – крикнул шофер. – Кому побрызгать – выходи.
Разбуженный народ зашевелился, потягиваясь и зевая.
– Половину отмотали, – сказал кто-то.
Хирург, оторвавшись от воспоминаний, взглянул на местность.
«Пожалуй, что так», – подумал он, припомнив, как года два назад по этой же дороге подвозил его один «веселый» водитель. И именно в этом месте, изумленный видом открывшегося моря, чуть было не свернул, чтобы прокатиться к нему по обрыву.
Старатели с сенокосчиками дружно выстроились у обочины, возглавляемые шофером, одетым, как бросилось в глаза, в черный морской китель с двумя рядами золотых пуговиц.
– Ну, дядя, на тебе кнопок, что на гармошке, – рассмеялся Борис. – Хоть Камаринскую шпарь.
Добытчикам понравилась незлобная Борисова шутка, и они басовито погудели, как шмели, продолжая поливать невысокий снежок.
– А я, слышь, это… – оживился имевшийся у приисковиков личный Гомер. – Еду раз с Киева у Белую Церкву…
– Так, хлопцы, по местам, – скомандовал морской шофер. – Я и так опаздую. Не тянет, холера. Посадют на рухлядь – и колупайся с ей.
Расселись. Машина теперь побежала по ровной дороге легко, ухватисто. Народ достал курево и проветрившийся, было, салон вновь наполнился густым, тяжелым дымом.
– Ага. Дело было летом, – продолжал свое повествование сказитель и поправил на круглом, румяном лице пышные соломенные усы. На голове у него блином лежала белая фуражка, из-под козырька которой весело и озорно светились быстрые рыжие глаза.
– Еду. И как раз же по дороге кум живет. Километров пятнадцать. А время у меня было, что я мог и назавтра вернуться. На мне пиньжак. Ага. При Сталине носили такие. И пугвицыж, конечно, золотые.
Заворачую до кума прямо во двор. А как-то так получилось: давно перед тем не виделись: то работа, то – то, то – это… Жинка кумова давай сразу доставать огурцы соленые, сало. Курку зарезала. Самогона четверть. Все как положено. Ага. Сели в садочке. Вечереет.
Разговариваем. Раз и приходит соседка. Женщина – я тебе говорю. Вдовая. Жаром от нее, как от печки. Села рядом. Ага. Села. Я аж сомлел близом с ей. Грудей у той соседки – мама родная. Что два гарбуза за пазухой. Такая прорва тела в женщине. Видать, она тем своим телом мужа и укатала. Здоровый такой хлопец был, Федя. Я его знал. Комбайнер. И вдруг помер. Говорили – сердце. Ну, правильно, какое сердце ту прелесть выдержит. Слоном надо быть. Но при этом та самая вдовая соседка – Лида имя – сильно образованная гражданка. Одну стопку, другую, третью. И давай смеяться над правительством, министрами, над военными. Главное, мы с кумом замечаем – правильно смеется. Ага. И все она тебе знает: и за Михайлу Сергеевича, и за Лукьянова, и за Пугу. Где, что, когда, с кем. В общем, туда-сюда. Еще по чарке. Тут энтоя самая Лида песняка как вдарит. На всю деревню. Чуть уши не полопались. Ну и кум мой с жинкою рты пооткрывали – голоса показуют. Вот это, думаю, контора. И сам заспивал, аж слезы бежат. Ага. Еще выпили. Давай теперь по брундуршафту целоваться. Тут вдовая Лида мине смехом и говорит, что это, мол, у тебя, Степа, пиньжак такой модный, а сама пугвицы золотые пальцами трогает. Хочешь, говорит на ухо, я тебе массаж через энти пуговицы исделаю. И заливается горлом – меня прямо в пот кинуло.
Старатели, радуясь за друга, погагатывали, одобряли положение.
– Ага. Говорю: зачем массаж? У меня, говорю, уже есть. Я ж с пьяных глаз решил, что массаж – телевизор такой. На хрена, говорю, мне массаж, когда у меня «Рекорд» стоит. Считай новый.
Тут у Лиды моей чуть груди с кофты не выпали – так она зашлась вся. Ну умирает, «Рекорд», так «Рекорд». Лишь бы стоял. А я спьяна никак не пойму, на что она намекает, заливаючись. Сам же горю, как пожар. Ага. И тут только до меня дошло, когда она головой своей пышной в колени мине упала от смеха, а локоть ейный будто нечаянно в самое мое твердое место и уперся. Меня аж током вдарило. Вот это, думаю, массаж.
В салоне снова раздался взрыв хохота. Гомер же невозмутимо прикурил погасшую сигарету, словно вокруг него ничего не происходило.
Старатели, смеясь, гордились товарищем. Им было приятно, что неиссякает в мужике былая казацкая сила.
– Ага. Ну что? Туда-сюда, – продолжил Степа-сказитель. – Уже ночь легла. Жинка кумова каже: я тебе, Степа, у сарае на соломе застелю. Ты ж, помню, любишь на соломе. Люблю, говорю, а у самого уже, чую, язык из глины. Не годится, думаю. Надо еще чарку спустить. Выпили мы с Лидою. Она все заливается смехом. Вот баба веселая! Я смотрел, смотрел на нее, и сам стал. Смеюся – не знаю, чего. Пять раз уже бегал в огород отлить. Прибежу, слышишь – обратно смеюся. Аж в животе колет. Ну контора! И так мы с той вдовицей довеселилися аж до самого сарая. Кум с жинкою уже спать полягали у хате. А мы с Лидой гогочем, что те гуси. Ага. Она и шепчет як бы смехом: зараз я тебе тут массаж и сделаю. Аж бегом. Слышишь? И як повалила меня на ту солому, як придавила усем своим телом, усеми своими грудями – я и затонул под ними, что подводная лодка. Ага. Так с нею бултыхалися в том сарае всю ночь. Ну что? Утром прокинулся – где штаны, где пиньжак – еле нашел. В голове соломы больше, чем волос. Ага. Туда-сюда. С кумой попрощался, поехал. А сам же ж чуть живой. Вечером вертаюсь до дому. Жинка каже: что ты, Степа, такой зеленый, як детский понос. Ну, ничего, каже, зараз помоешься, я тебя покормлю, та пойдем спать-отдыхать. Ох, и приласкаю ж тебя! Во я соскучилася, аж не могу. Ты, говорит, где-то ездишь там, а мне тут – страждай. Иди, мойся скорее. Ну, думаю, все. Мине – каюк. Бо жинка дуже горячая на это дело. Тогда, говорю, наливай стакан самогона: сильно я заморился на работе. Но если, хлопцы, вы думаете, что на этом усе кончилося – глыбоко ошибаетесь.
– У меня раз тоже было, – отозвался еще один рассказчик, но Хирург его уже не слышал.
Еще толком не рассвело, когда они, Хирург с Борисом, отошли от стоянки. Низкие тяжелые тучи все так же орошали тайгу водяной пылью. Лес стоял настороженно тихий, тревожный, повитый лишь едва слышным, травным шелестом дождя.
Сначала шли узкой, хорошо убитой в прежние годы тропинкой, петлявшей, как ящерица, по берегу речки Лайковой. Борис то и дело спотыкался с непривычки, громко матерясь в спину Хирургу. Хирург не выдержал. Остановился.
– Ты чего? – осторожно спросил вполголоса Борис.
– Слышишь? – сказал Хирург и показал в сторону реки.
Борис прислушался.
– Что?
– Речку слышишь?
– Ну.
– Лес?
– А что?
– Тебя все слушает, Боря. А ты ругаешься. Тем более по матушке. Это вообще ни в какие ворота. Кто только придумал такую пакость? Нельзя, Боря. Нехорошо. Беду накличешь. В тайге надо ходить тихо. Уважительно. Медведь в двух шагах от тебя пройдет – ветка под ним не хрустнет. А ты шумишь. Не нужно. Тайга этого не любит. Ты же книги мудрые читал. Разве они матом написаны?
– Ну вот, – поморщился Борис, – началось… Понеслась пропаганда.
– Это не пропаганда, Боря. Это здесь закон жизни. Все злое вернется к тебе двойным злом. Доброе сделаешь – добро и получишь. Вот что запомни.
Борис промолчал, достал пачку папирос, предложил Хирургу.
– Спасибо. Натощак не курю. Это все равно, что на живую рану кислоту лить.
– А-а… – махнул рукой Борис. – Пока что здоровья хоть отбавляй.
– Не отбавлять нужно, чума. А прибавлять, – усмехнулся целитель и окинул взглядом экипировку напарника.
– Эх, дундук я старый! – всполошился Хирург. – Как же недосмотрел?
– Что еще? – стал оглядывать себя Борис.
– Ты куда кирзачи напялил, корова? Нам болотами ходить, вброд переправляться, а ты… Вроде не маленький. Ну-ка, бегом. Переодень болотники. Хорошо, недалеко ушли.
Когда Борис скрылся за кустами, Хирург закурил.
– Вот чума, – пожаловался природе. – Детский сад, ей-богу. Никакого понятия.
Он присел на мокрое лысое бревно, и в своей запахнутой плащ-палатке с капюшоном сам стал похож на переломленный бурей или старостью острый ствол дерева.
«Как же ты дойдешь, Витя? – вспомнил тогда последний разговор с Тибетским Виктором перед его побегом из лагеря. – И куда идти? Погибнешь. Тайга на сотни, а то и тысячи верст».
Виктор в ответ засмеялся.
«Вера выведет, Дима. Как-нибудь, с Божьей помощью. А идти нужно все время на юго-восток. Это проще простого. Доберусь до Амура, а там до материка уже рукой подать. Во Владивостоке – на пароход и прощай, Колыма. Но не вздумай, Дима, идти за мной. Вот ты не дойдешь. Мало в тебе еще высшего знания. Новый Завет, который я тебе пересказал – это только начало. Крепись, Дима. Говори с Богом, как я тебя учил. И настанет твой день. Настанет!»
Тогда начинался июль, и Колыма открыла двери недолгому лету.
На следующее утро после прощального разговора в лагере обнаружили оглушенного охранника без автомата. Он то терял сознание, то его мутило и рвало. Видно, Виктор не рассчитал силы удара, и у военного охранника произошло сотрясение мозга. Плюс ко всему у пострадавшего оказалась сломанной челюсть, потому сказать что-либо вразумительное он был не в состоянии.
Организовали погоню с собаками, но у первого же болота она застряла: вода. Кругом стояла, текла, журчала и бурлила вода.
Хирург часто, на протяжении многих лет пытался вызвать для беседы образ Виктора, но тщетно. В том качестве, в каком являлись к нему души умерших, Виктор не приходил, из чего Хирург сделал заключение, что духовный учитель жив, здоров, а его Вера и умение посредством высшего знания находить с природой общий язык, в конце концов, вывели Виктора к животворной реке Амур.
Конечно, побег из лагеря, в который упекли Хирурга и еще тысячи подобных ему страдальцев, был безумием, равным самоубийству. Но тем сильнее победа Тибетского странника грела Хирурга, восхищала до скрытой от всех ночной улыбки, ибо та победа была явным доказательством неограниченных возможностей человеческого духа, о коих и проповедовал Хирургу Виктор.
Целитель, сидя на голом, как колено, бревне, так увлекся своими теплыми мыслями, что не сразу оценил посторонний шум позади себя. Когда же чуждый звук заторможено достиг его слуха, Хирург насторожился. Тот, кто произвел за его спиной неожиданный шорох, не мог быть Борисом. Борис ожидался на тропинке, с другой стороны. Хирург осторожно обернулся. Ему почудилось, будто среди сосен мелькнула тень какого-то крупного животного. Но пасмурный сумрак утра еще так плотно лежал в тайге, что разобрать что-либо было невозможно. Тем не менее, Хирург поднялся и, тихо ступая, пошел навстречу Борису – мало ли. Медведя и лося в тех местах водилось предостаточно. Один резиновый сапог чуть поскрипывал, и Хирург поднял палку, чтобы, опираясь на нее, скрадывать противный, ненужный звук. Он прошел метров двести. Здесь тропа резко огибала раскидистый куст, а дальше пересекала небольшую, уже поросшую мелкой травой поляну.
Хирург бесшумно добрался до куста и замер: в пяти метрах от него, чуть присев на задние лапы, задом к целителю стоял медведь, совершая рядовое житейское дело опорожнения. Хирург почувствовал слабость в ногах: с другой стороны поляны вот-вот должен был появиться Борис. Что могло произойти дальше, Хирург не знал. Сердце громко застучало внутри целителя, и он испугался, не выйдет ли внутреннее биение наружу, не услышит ли его зверь. В это мгновение из чащи кустарника с противоположной стороны вынырнул Борис. Он двигался быстрым шагом, что-то напевая себе под нос.
Медведь, не прекращая своего дела, поворотил к нему морду. Их разделяло не более тридцати метров, когда Борис заметил зверя и остановился, напряженно вглядываясь в то, что увидел. Медведь приподнялся и встал на все четыре лапы. Наступило то жуткое, нервно-выжидательное мгновение, упустить которое Хирург не имел права. Он выскочил из-за куста с рвущим тишину криком и ударил медведя палкой. От неожиданности и испуга тот рванул в сторону и, уже убегая, обиженно заворчал. Вскоре он скрылся в тайге, а Хирург почувствовал усталость во всем теле, словно отработал целую смену в лагере. Он сел прямо на мокрую траву и достал папиросы.
– Кури, – предложил подошедшему Борису.
Тот присел рядом. Закурили, пряча от сырости папиросы в кулак. Дым плотно и тяжело поднимался вверх, но тут же таял и растворялся в мороси. Теперь, когда внезапное напряжение схлынуло, Борису стало весело.
– Надо было мне тоже штаны скинуть да присесть рядышком. А ты его палкой, словно это барбос какой.
Успокоено посмеялись.
– Но вообще-то, лихо ты его, Александрович.
– Рыба еще не пошла. Голодно ему. Здесь всего можно ожидать. Хорошо, что боятся они неожиданного, резкого шума. Вот я и поорал слегка. Видишь, почуял он тушенку нашу, к лагерю двигался. К Боцману, конечно, не сунулся бы, а палатку с продуктами разворотить – это для него плевое дело. Собачку бы нам. Да где ее взять?
– Мебелю закажи, он доставит. Только вместо собаки из-за своей дырявой башки козу какую-нибудь слепую притащит.
– Это верно, – согласился Хирург. – Такое за ним водится. В прежние годы Мебель раз в две недели прилетал обязательно. Как, мол, дела? Что нужно? Почту привозил, газеты, журналы. Тут ничего не скажешь. Но насчет дела – действительно беда. Все просьбы запишет в блокнотик. Аккуратно, правильно. Но потом, как пить дать, перепутает. Первый с пятым участком, шестой с третьим и так далее. Понятно, если у человека сплошной склероз и дым в голове – не до хорошего.
Ладно. Мебель Мебелем, а двигаться нужно. Философа необходимо найти. Как нам без философа?
Теперь шли, зорко осматриваясь по сторонам. Впрочем, уже достаточно рассвело. Тропка приползла к обрывистому краю Лайковой и здесь струилась почти по самому его срезу.
Местами берег поднимался довольно высоко, местами же плавно стекал к реке, образуя волнистые песчаные отмели, по которым прибегали в Лайковую быстрые, веселые ручьи, расцвеченные на дне мокро-золотыми кристаллами колчедана.
Сама же река Лайковая имела внутри себя довольно крупный, основательный галечник, и перебираться через стремительные перекаты ее было не так-то просто и безопасно. За перекатами то здесь, то там устрашающе громоздились под выступами берегов завалы из бревен с торчавшими, как боевые копья, отточенными водой, окостеневшими стволами.
На одном из бродов Борис круто оступился, черпанув сапогом ледяной воды. Хирург протянул ему свой посох, но тот, чертыхаясь, выбрался на противоположную сторону самостоятельно. Стащил мокрую резину, вылил из сапога воду.
– Не простудишься? – обеспокоился Хирург.
– Не страдаю, – уязвлено ответил тот.
– Смотри. А то костер разведем, подсушишь портянки, – не унимался целитель.
– Обойдется, – пробурчал Борис. – С костром много возни будет. Не та погода – костры жечь. Все сырое. Время только потеряем. Вот перекусить не мешало бы: живот к спине прилипает. Километров семь уже, небось, отмотали.
Борис был явно в азарте их путешествия. Он действовал быстро и ловко. Сильными, точными движениями крепких рук выкрутил мокрую портянку, аккуратно сложил ее и засунул в боковой карман рюкзака. Из нутра же его достал сухую и привычно, в три приема намотал портянку на ногу.
– Вот и все. Давай поедим, бригадир.
Хирург отрешенно подумал, что когда-то и ему было столько, сколько Борису, и он тоже обладал такой же силой и ловкостью. Когда все это было? Возможно, сын его сейчас столь же хваток и селен.
«Конечно, как иначе», – поразмыслил Хирург, и ему снова, до боли в сердце, захотелось увидеть сына. Они наскоро перекусили и снова двинулись в путь. Чтобы сократить его, нужно было пересечь топкое болото, и Хирург строго наказал Борису идти след в след. Сам же, помолившись перед тихим, мертвым полем, осторожно стал пробираться вперед, перешагивая с кочки на кочку. Топь жадно чавкала под ногами, раскачивалась, как застывшее, студенистое озеро. Сапоги утопали во мшистой, зыбкой почве, которую и землей назвать было трудно.
Хирург несколькими тычками палки проверял место своего будущего шага и лишь затем опускал ногу на зеленый обманчивый холмик, всякий раз рождавший потревоженное комариное облачко.
Уже совсем рассвело. Дождь прекратился. Окутанная туманом, тайга стояла напряженно-тихая, безмолвная, будто сама слушала и выжидала кого-то.
Комары назойливо вились над головой, липли ко лбу, щекам и Хирург подумал: лето, вот и настало последнее Колымское лето. Отчего же он раньше не решался улететь на материк или, как говорили здесь, на «землю»? Ведь прошло уже немало времени со дня его освобождения из лагеря.
Все дело было в том, что раньше ему некуда и не к кому было лететь. Искать в Питере родных или знакомых казалось бессмысленным. И лишь недавно, весной, Хирург случайно услышал по радио выступление одного из своих любимых в прошлом учеников, а ныне профессора, заведующего Петербургским кардиоцентром, Гавриила Станиславовича Кренча. Ошибки быть не могло: ни имя, ни отчество, ни фамилия Гаврика, как называл его когда-то Хирург, не попадали в число распространенных. Более того, Кренч, человек необыкновенной честности и порядочности – таким он помнился Дмитрию Валову – в докладе о последних достижениях в области хирургии сердца упомянул своего учителя, то есть его, Хирурга, трагически пропавшего в годы Сталинских репрессий неведомо куда.
Хирург в момент радиопередачи находился в пищеприемной столовке, где хлебал щи из квашеной капусты. Когда он нечаянно услыхал фамилию Кренча, то выронил ложку, и она с оловянным бряканьем свалилась на пол. Сам же целитель, ничего не видя, почти наощупь пробрался в туалет, запер себя в кабинке на крючок и впервые за много лет залился мокрыми настоящими слезами.
Теперь ему было, куда и к кому лететь.
«Ты услышал меня, Господи! Услышал!» – шептал воспитанный в бескомпромиссном атеизме лекарь и растирал по морщинистым щекам, покрытым седою щетиной, соленую влагу.
Но об этом происшествии Хирург не доложился никому, даже Боцману, суеверно боясь спугнуть всплывшие на горизонте, заветные очертания новой жизни. Он, разумеется, не знал, что может сулить ему встреча с бывшим учеником. Одно было ясно: вспыхнула, наконец-то зажглась звезда надежды, и Хирург с нежностью поселил ее у себя в душе.
Они прошли уже больше половины болота. До леса оставалось каких-нибудь метров пятьсот, как вдруг пронзительно тонко, неистово заверещала какая-то неведомая птаха. Хирург поднял глаза и в следующее мгновение едва сумел увернуться от пикирующего прямо ему в голову кулика. Он успел подставить руку и отбить птицу, остро ударившую его в локоть длинным, с иглу, черным клювом. Кулик снова взмыл вверх и зашел на вираж, готовясь к новому броску. Его верная подруга, сидевшая, как видно с птенцами прямо по курсу непрошенных гостей, продолжала отчаянно кричать.
– Вот это истребитель! – восхитился за спиною Хирурга Борис. – Дай-ка я его охреначу палкой в следующий раз.
– Стой, где стоишь, и не дергайся, – предупредил напарника Хирург. – Не вздумай даже замахнуться, корова. Обойдем стороной. Видишь, гнездо у них там.
– Он же тебе сейчас башку насквозь прошибет, – не унялся Борис. – Заметил – клювище, как у орла. Только острей.
– Не прошибет. Всего-то, пташка болотная. Было бы чего бояться, – отозвался Хирург, почувствовав, как сапоги его от долгого стояния на одном месте стали медленно погружаться вместе с кочкой в воду. Он кинул быстрый взгляд влево, затем вправо, но и с одной, и с другой стороны стояли, покрытые жутковатой зеленой ряской, черные, бездонные ямы.
Кулик тем временем заходил к точке нового пике.
Хирург погрузился уже почти до колена.
– Ты что, адмирал, решил затонуть здесь? – спросил Борис наигранно весело, но в голосе его сидел страх.
Кулик, описав над путниками небольшой круг, на мгновение замер в воздухе. Его возлюбленная в этот момент тоже затихла.
Хирург взглянул на следующую по курсу кочку, затем на провальную яму справа и вдруг четко и ясно услышал внутри себя голос, произнесший одно только слово: «Иди!»
И он ступил в болотную зыбь, даже не проверив ее посохом.
…– Да, хлопцы, – продолжал неистощимый Гомер. – Як шо вы думаете, что на том кончилося – глыбоко ошибаетеся. Только, значит, моя жинка угомонилась, ага, дня через три звонок у двери. Мы ж у поселке живем. Ага. Звонок. Жинка – открывать. А я з малым сыном возюся. Бачу – Лида вдовая стоить. Мол, привет от кума. И уже кошелки на стол выгружает. И уже гогочет-заливается. У меня все аж захолонуло внутри. Вот, думаю, чертова баба. Моя говорит: что ж ты, Мыкола, не зустричаешь гостью, а сама так поглядае на меня, что жутко у пузе. Я думаю: значит, она, стерва, допыталася у кумовой жинки адреса и вот тебе – здравствуйте, я ваша тетя. Тут Лида моей уже какую-то кофточку подарила. Уже бежит до малого. Ага. Хватает его и давай танцювать по хате. А у моей яичня на кухне шкворчит. Вот это, думаю, контора.
Старатели любили жизнь во всех ее проявлениях и потому повесть сказителя-земляка воспринимали с большим интересом и волнением.
– Ну и шо? – не утерпел кто-то, когда Мыкола намеренно долго затягивался папиросным дымом, а затем так же блаженно-долго пропускал его сквозь густые пшеничные усы и те еще какое-то время слегка дымились после очередной затяжки.
– Да-а… – вздохнул Мыкола, вспоминая, как видно, критический момент своего прошлого. – Ну шо? Сели за стол. Все чин-чином. Ага. Кинули по стопке. Закусываем. Лида, мол, как тут у вас, у городе. Шо, мол, почем? Сколько сало? Тряпки? Туда-сюда, в общем, бабские разговоры. Я трошки успокоился. Но вижу, что-то тут не то. Что ж, думаю, насчет сала, что ли, она узнать приехала? А моя Валька спрашивает: «Ну и как там кум? Что у него нового? Как жизня протекать?» Ага. И тут вдовая Лида открывает вот такие коровьячьи глаза и говорит: «Тю… А что, Мыкола не рассказывал?» Моя смотрит на нее… Ага. Потом, слышишь, на меня. И говорит. Медленно так говорит: «А что он должен рассказывать?» Ага. Та падлючая Лида (я уже видеть ее не могу!) обратно каже: «Тю… Так Мыкола ж был у нас. Еще неделя не прошла». Валька моя говорит: «Шо? Ах, ты, твою мать, давай, докладуй». А что мине докладувать? Я сидю, курю. Кажу: «Ну был у кума. Выпили пару пляшек. Шо ж усе тебе докладувать?» А сам чую: подступает хана. Ага. Вдовая Лида, гадская, говорит: «Э-э-э, говорит, кум – кумом, а дело в другом. Дело в том, что промеж нами с Мыколой сильная любовь произошла». Я аж очи вытрещил. «Любовь, – говорит моей жинке. – Сильная, Валя, любовь меж нас. И думаю, – каже, – Мыколе надо перебираться до меня». Я – прямо язык проглотил. А Валька моя смотрит на меня, глаза блещат. Она ж баба огненная. Щас, думаю, убьет к едреной фене. «Какая, – говорит, – промеж вас любовь была?» А сама сковородку за ручку трогаить. «Да ты шо, – кричу, – Валя, дурная? Ты ж бачишь, Лидка белены объелася». Тут уже Лидка как заорет: «Это я белены объелася?! А хто мине у соломе любовные признавания делал? Хто укрывал белым пиньжаком с пугвицами? Га? Хто жениться обещал?» И как заревет, что корова на родах. Ага. Тут моя Валька той сковородкой мине под самый глаз як засветит, аж колбаса к стене прилипла.
Гомер закурил новую папиросу, ожидая, когда поутихнет новый взрыв хохота.
– Ну? – не выдержал теперь старатель в волчьей шапке, сотрясаясь и пунцевея от превратностей жизни.
– А что? – продолжил после паузы пострадавший Гомер. – Захватила моя жинка ту вдовую Лидку, кошелки ей в руки, кофточку туда затолкала. Забирайся, каже, чтоб и духу твоего не було. И, забудь, каже, дорогу. Ага. Лидка ревет. Малой мой ревет. А я за глаз держуся. Ох и контора… Неделю ходил перебинтованный. Такой синяк выскочил – аж на полморды. Начальник колоны да и усе кругом говорять, слышишь, ты где это, Петренко, говорять, воевал? И гогочат. А я что им скажу? Смейтесь, говорю. Не приведи Господи вам такое.
– Ну а жинка?
– Что жинка? Недели две не подпускала.
– А потом?
– Потом?.. – Мыкола улыбнулся. – Постель усех мирить.
…Хирург шагнул в черный омут, но на удивление нога его не только не провалилась, напротив, он словно выбрался на более прочное место, где вода едва достигала щиколотки.
Кулик совершил еще одну пикирующую атаку, однако на сей раз она была больше предупредительной, чем боевой.
Забрав вправо градусов на тридцать, Хирург с Борисом благополучно достигли леса. Куличиха успокоилась, и вокруг вновь воцарилась дремотная тишина.
– Вот так, Боря, – сказал Хирург, сделав небольшую передышку. – Никому не делай и даже в мыслях не желай зла – и по морю пройдешь.
– Я не Христос, – ответил Борис. – На мне грехов, что на твоем кулике перьев.
– Да ты никак Библию читал? – приятно удивился Хирург.
– Я, между прочим, крещеный, – сказал Борис. – И Библия была моей первой книгой. Но становиться Христом или, что еще хуже, кланяться ему, походить на него – не желаю. У меня своя дорога. И кончим этот бесполезный разговор.
– Дорога у тебя, конечно, своя, – огорчился Хирург. – Жаль только, не ту дорогу ты выбрал.
– Да откуда вы все знаете: ту – не ту. Главное, она моя, понимаешь, моя! – вскипел Борис. – Кругом одни учителя… куда ни плюнь.
– Никаких моралей, Боря, я читать тебе не собираюсь, – возразил Хирург. – Но ведь ты умный парень и знаешь: есть черное и белое, огонь и вода, свет и тьма, добро и зло. Так устроен мир. И между этими категориями нужно что-то выбирать. Серединное состояние приводит к растерянности, да оно тебе и не подойдет: ты не из тех, кто довольствуется половиной или живет в сговоре с совестью. Твой бунт – естественное состояние: молодой, пылкий. Я лишь прошу, бунтуй со смыслом. Думай. Всегда думай, к чему он может привести, твой бунт. Вот представь, например: сшиб ты палкой того кулика. Кто птенцов кормил бы? Да и куличихе бы сердце порвал. В результате малыши могли погибнуть, а значит, нарушилось бы равновесие в природе. Ведь для чего-то нужен ей кулик, раз она его народила. Зря в мире ничего не бывает. А сотвори ты эту беду, убей птаху лесную – и я не уверен, прошли бы мы с тобой наше болото. Зло, я тебе говорил, всегда аукнется. Так что держись добра, Боря. Это мой тебе совет.
С этими словами Хирург набросил на плечи рюкзак, загасил сапогом окурок и двинулся в путь.
Дальше они пробирались узкой, едва заметной тропкой и когда снова вышли на берег Лайковой, неожиданно из-за туч на них плеснуло солнцем. Трава, кусты, деревья вспыхнули хрустальной росой и повисшей на ветках капелью. Тайга ожила, проснулась и стояла солнечно озаренная, сверкающая, словно совершала счастливую, благостную молитву. Вода в реке помолодела, набросила на себя легкую серебристо-лазоревую одежду, и Хирург оценил это явление как счастье. Ибо иного не знал, а лишь видел или угадывал его где-то далеко за горизонтом. Но то было другое. Здесь же Хирург, сливаясь с красотой мира, не мог даже объяснить ни восторга, ни радости, которые рождались в его сердце, а только пил эту красоту, как священную влагу, упоенно повторяя: «Благодарю тебя, Господи!»
Борис воспринимал рожденную природу по-своему. Ребячливое солнце утра, прыгнувшее из-за сопки на волю, раззадорило его. Оно, словно до отказа, налило каждую мышцу, каждую клетку озорной, упругой силой. Борису захотелось пробежать по берегу километра два-три, а затем с разбега бросить разгоряченное тело в ледяную воду Лайковой и плыть в ней долго, до самого океана. И чтобы удержать внутреннюю, горячую стихию, утихомирить ее, во всяком случае, не обнаружить перед Хирургом, он стал небрежно насвистывать модную мелодию.
Теперь по пути Хирург все чаще начал осматривать мокрую траву, ища в природе следы пропавшего философа. Но то ли дождь за ночь пригасил их, то ли Гегель шел другой дорогой – следов не было.
«Так ли мы идем, отче?» – мысленно обратился к небу старый лекарь, привыкший к заоблачному общению.
«Так», – услышал он краткий ответ и через несколько шагов увидел четкий, не размытый след сапога. Однако было странно, что нигде раньше Хирург с Борисом не обнаружили чужих отпечатков. Значит, Гегель шел тайгою. Зачем?
Хирург вспомнил: он ни разу не задавал странствующему философу этот интересный вопрос и тронул сидящего впереди Гегеля за плечо.
– Слушай, Вася, ты зачем в тайгу нырнул, когда от нас ушел? Двинулся бы берегом. Все равно ведь потом к реке выбрался.
Философ поморгал сонными глазами, снял шапку, погладил редкие волосы и тут лишь до него дошел смысл вопроса.
– А я это… – повернулся он к Хирургу. – Я же говорил: голос был.
– Что же, голос тебе указал лесом идти? – серьезно заинтересовался Хирург, так как голос и для него был явлением знакомым.
– Точно. Так и указал. Ступай, говорит, Василий, в дебрю. Тама путь. Я и пошел. А уже потом ноги сами к Лайковой вывели.
– И часто тебе голос бывает?
– Какой там часто, – вздохнул Гегель. – Если б часто, сидел бы я дома да только его и слушал. А так приходится ходить по свету. Нет-нет и услышишь среди жизни, куда дальше. – Странствующий Василий ближе наклонился к Хирургу и понизил слышимость почти до шепота: – Голос мне однажды знаешь, чего заявил? Ходи, говорит, Василий, в миру. Тама тебе надлежит. Вот я и хожу.
– А польза в том какая?
Гегель улыбнулся.
– Как же это, извини меня, какая? Голос зря не скажет. Беды я не сею. И Он это знает. Хожу, молюсь за всех несчастных. Видно, в том моя есть железа' жизни. Понимаешь, это дело?
– Да, – признался Хирург. – Это дело я как раз очень хорошо понимаю.



