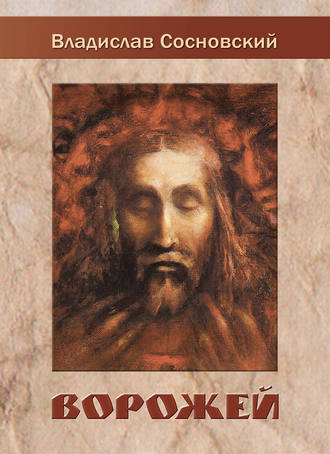
Владислав Сосновский
Ворожей (сборник)
«Что есть сия незыблемая твердь? – огляделся он по сторонам прочных стен. – Всего лишь нелепое напластование обусловленных причин, которые, если их старательно поскрести, по сути своей нематериальны. Выходит, искомый булыжник не физическое тело, а форма искривленного сознания пострадавшего. Его скопившиеся грехи».
С этой мыслью Хирург уперся руками в стенки камня и напрягся так, что на лбу у него выступил рабочий пот. Камень затрещал и посыпался в разные стороны. Теперь Хирург брал мелкие кусочки и растирал их между ладонями в пыль, дабы они могли наконец беспрепятственно выйти наружу. Когда это было сделано, лекарь подумал, что хорошо бы перекурить, поразмыслить о вечном, но обстановка не соответствовала, и Хирург приступил к завершающему этапу операции.
Он вынырнул из обезвреженной почки, проплыл мимо нежных извивов кишечника, отметив, что и здесь не мешало бы провести серьезный ремонт, миновал витиеватые нагромождения двенадцатиперстной и очутился на стыке двух реберных конструкций в солнечном сплетении всех жизненно важных путей организма. Именно тут и покоилась в глубокой спячке душа распорядителя лагерного порядка.
Хирург снял шапку и присел на корточки в знак почтения перед бесконечностью. Обернутая в какие-то жуткие лохмотья, свитые из праха и пепла, душа начальника тихо спала, сложившись калачиком, и не обнаруживала признаков жизни.
Хирург различил в себе трепетное, смешанное чувство, какое, бывало, испытывал прежде перед великими работами гениев-творцов. Он понял, что в данный момент разглядывает вечность. Он даже понюхал, как она может пахнуть. Но вечность запаха не имела. Тогда Хирург отщипнул от лохмотьев на память лоскуток пепла, на котором еще можно было прочесть обрывок обугленной фразы, «…колесиком и винтиком» – повествовала перегоревшая строчка. Хирургу показалось, что он уже где-то читал подобное техническое сочетание, но вот где – вспомнить не смог. Значит, к вечности, то есть к самой душе, весь этот зловредный мусор отношения не имел.
Более того, Хирург обнаружил, что под спудом накопившегося праха здесь ровно трудится некий световой источник и очищение, и освобождение этого источника есть самое, может быть, сокровенное дело всей его Хирурговой жизни.
Он осторожно, слой за слоем, соскреб ногтями со световой сферы гниль и плесень химер, аккуратно собрал все это до последней крошки, чтобы рожденная душа человека жила в первобытной чистоте, и сунул мусор в карман бушлата.
Все нутро начальника лагеря озарялось теперь ясным, мягким светом, который может проистекать от любви и добра и горит изначально в каждом кротко и трепетно. Перед целителем было одновременно и ничто и все, весь путь без первого и последнего шага.
Хирург решил проверить душу подопечного и попробовал проникнуть в нее рукой, но рука прошла насквозь через светящийся шар, похожий на небольшую круглую молнию.
– Ишь ты, – восхитился Хирург. – Цаца какая. А вот, к примеру, можешь ты мне чистосердечно ответить: в чем же при нашей собачьей жизни все-таки смысл и суть всего?
Молния превознеслась в размерах и полностью заполнила все пространство начальника лагеря, поглотив заодно и Хирурга.
– Ты и есть суть, идущая к сути, – был тихий ответ ниоткуда. – Читай небо. Там смысл.
Хирург задумался над мудреностью слов посторонней души, знавшей некую редкую тайну.
– Ладно, – сказал он наконец, напяливая потрепанную зэковскую шапку. – Свети на здоровье. Ты теперь чистая.
Целитель приземлился на свое место, туда же, где сидел, в человека по лагерному прозвищу Хирург, и открыл глаза.
Пред ним возлежало доброе, мясистое тело начальника лагеря. Но, представьте, оно имело теперь, в отличие от прежнего, голубые глаза влюбленной девушки. Вся кровать под начальником была мокрой от извергнувшейся внезапно жидкости. Зато лоб его атласно блестел, и щеки свежо розовели, как у садовника. При виде столь неожиданных перемен Хирург смутился.
– Ты чего, брат? – как можно грубее спросил изверга лекарь, ибо испугался: с такими очами заведующий наказанием заведомо обречен был на гибель.
«Хозяин» вздохнул и улыбнулся, чем поверг Хирурга в полное смятение, так как в лагере на протяжении многих лет вообще редко кто улыбался. Что же до начальников, то этого здесь не делал никто и никогда, словно на улыбку у них существовал особый, тайный запрет.
Но более всего Хирурга поразило неожиданное исчезновение у «Хозяина» родимого пятна, столь схожего с родимым знаком матери целителя. Этому явлению Хирург определения не нашел, а потрогал, изумленный, то место на теле подопечного, где располагался загадочный абрис, чем вызвал у больного дополнительный прилив нежности. «Хозяин» заключил в свои руки изуродованную кисть Хирурга и попытался ее поцеловать. Хирург выдернул, как из мерзости, руку и окончательно понял, что совершил непоправимое. Новая болезнь начальника лагеря ему была уже не подвластна. Впрочем, подвластно теперь Хирургу было все, но обращаться с новорожденными он за свою жизнь так и не выучился.
«Хозяин» поворочался в мокрой постели и кротко спросил:
– Ты что, ворожей? Как ты это сделал?
– Это не я, – сказал Хирург. – Это сделал Бог.
– Бога нет, – произнес от «Хозяина» осколок его кривой памяти.
– Бог есть, – сказал Хирург. – Он один и есть. А все остальное, может быть, лишь игра Его воображения.
– Есть? – удивился «Хозяин», будто услышал это слово впервые.
Хирург взял со стола полстакана спирта, приготовленного для медицинских манипуляций, и одним глотком выпил содержимое до дна.
– Будь здоров. Не кашляй, Михалыч, – сказал он начальнику лагеря и, тяжело поднявшись, вышел из комнаты.
– Ну что? – спросила печальная женщина, жена «Хозяина».
Хирург посмотрел на нее долгим взглядом и вымолвил, чувствуя, что пьянеет: «Живите, раз Бог дал такую судьбу. Живите».
Именно этот день, когда Хирург совершил уникальную в своей жизни операцию, ознаменовался выпадением из сатанинской цепи лагерных устройств одного звена.
Начальник лагеря встал на ноги довольно быстро. Хирург еще несколько раз навестил «Хозяина» в его домашней больничной палате. Но эти посещения, организованные по велению начальника лагеря, имели уже не столько лечебный характер, сколько философски-риторический. «Хозяин» словно начал учиться жить заново, задумчиво выслушивая каждый раз рассуждения Хирурга о добре и зле, о чести и справедливости, о том глубинном понимании Бога в самом себе и во всем окружающем мире, каким к настоящему моменту обладал целитель, пройдя личную школу горя и страданий.
Душа выздоравливающего, очищенная Хирургом от мерзости и грязи, живо впитывала необычные уроки, и в уме нового непорочного «Хозяина» стали рождаться светлые утопические идеи переустройства общества.
В иные моменты богословских или общественных бесед начальник лагеря вскакивал, горячился, как юноша, предлагая немыслимые проекты, сутью которых было превращение системы отвратительных лагерей в череду садов-оазисов.
Тут ничего уже не боявшийся Хирург пугался: творение его рук, его гениальное создание гуляло по краю обрыва. Но как, посредством какой операции установить в человеке золотую середину мудрости – целитель не знал.
Приступив снова к привычной деятельности, начальник лагеря начал с того, что отдал приказ о немедленной реконструкции и расширении больничного корпуса. Контролировать работы и паче заведовать больницей безоговорочно назначил Хирурга. К этому было отдано распоряжение о строительстве клуба с библиотекой и обширной теплицы, которая могла бы снабжать зэков свежими овощами от цинги и прочих зловредных болезней.
В свой кабинет начальник лагеря – Кривошеев Иван Михайлович – наказал доставить из Магадана каких-нибудь комнатных растений типа фикус, например, а также произведений известных художников на все четыре стены, плюс любую певчую птицу для полного ощущения природы в совокупности.
Иван Михайлович мечтал высадить по теплу на территории лагеря декоративные японские ели, которые он видел однажды в теплом летнем городе Находке, и, конечно, кусты жимолости. А как же. Без кустов – никак. Чтобы заключенные в часы отдыха могли по теплу, конечно, сидеть посреди кустов и елей на скамеечках с книжкой в руках.
Был также Кривошеевым наложен строжайший запрет на экзекуции, мордобой, мат, а главное – применение оружия.
Псарня теперь использовалась исключительно как зверинец. Отменялись так же унизительные обыскивания, оскорбления и никому ненужные многократные проверки личного состава.
На входе в лагерь был вывешен основной социалистический лозунг: «Человек человеку – друг, товарищ и брат».
Всех нарушителей гуманного указания велено было заключать для перевоспитания в отельную камеру сроком от пяти до десяти суток. Это наказание распространялось и на солдатско-офицерский состав, невзирая наличные награды и былые заслуги.
После обеда теперь полагался час отдыха, и в этот отведенный час зэки спокойно возлежали на нарах или разгуливали по лагерному плацу, приветствуя проходящего ненароком «Хозяина», как приветствовал встарь своего царя простой люд:
– Здоров, Иван Михайлович!
– Слава Богу, – улыбался в ответ начальник лагеря. – И вам всем желаю здравия.
Страх, тот самый, мерзкий, уничтожающий страх стал выветриваться из лагерной зоны, и даже удивленная природа в этом месте Колымской земли дала послабление: морозы осели, минус покатился к плюсу. Везде гулял смертельный холод, а в лагере Кривошеева разместилось тепло.
Иван Михайлович прочувствовал это явление и, вызвав Хирурга специально, таинственно сообщил:
– Все. Я тут, Дмитрий Александрович, построю церкву. Ты наблюдаешь, что происходит?
– Наблюдаю, – ужаснулся Хирург необратимости российского размаха.
Выходило, что действовать умело и мудро, попав в начальственное кресло, в этой стране не умел никто. Стоило человеку обзавестись портфелем или, что еще хуже, погонами на высоком посту, как им тут же овладевала страсть неуемной деятельности. Причина же заключалась, конечно, в идее. А поскольку ни единый на посту не мыслил себя без идеи, то вот она-то, голубушка-идея, и распахивала своему родителю двери во все концы.
До тех пор, пока Хирург не совершал над начальником лагеря свою беспримерную операцию, Иван Михайлович слепо служил другой оглушительной идее строительства социализма, весело и браво замешанной на рабстве и крови. Этой звенящей идее служили миллионы. Служил, понятно, и Кривошеев, принимая ее за светлую, а главное – очистительную.
Хирург, вооруженный высшей энергией добра, мало того, что спас «Хозяина» от жадной смерти, но открыл ему глаза на себя и окружающий мир. И вот теперь «Хозяин» – Кривошеев Иван Михайлович – свежим, рвущимся умом и чистыми руками рьяно взялся за дело, чем ввел Хирурга в полную тоску, так как дело заведомо обречено было на гибель.
Уголовка, почуяв волю, откровенно захватила власть, и шестой барак пополнился окровавленными трупами, пока Иван Михайлович размышлял, как бы устроить в лагере спортивный праздник. Страх, побродив за воротами, снова вернулся под ошалелые крики воронья.
Вечером после резни, учиненной уголовниками, «Хозяин» явился в больничный корпус, где с некоторых пор целитель проживал как вольный человек.
Они молча и мрачно пили чай, ибо события дня провозглашали, что зло – явление более таинственное и глобальное, чем может показаться на первый взгляд. Добрая же мысль о том, что если тебе проткнули ножом один бок, нужно подставить другой – рассыпалась в прах.
– Что же делать, Дима? – спросил после тягостного молчания «Хозяин» и впервые в жизни заплакал.
Хирург допил кипяток, поскольку не знал, что ответить начальнику лагеря. И тут его осенило.
– Найди виновных и отпусти их на все четыре стороны, – посоветовал лекарь. – Лагерь твой решил жить по-новому, а они не хотят. Пусть идут. Добывают в тайге питание голыми руками. Едят друг друга. Пусть зло истребляет зло. Потому что добро этого сделать не может: жила мягкая.
Виновных оказалось шестеро. Их вывели перед строем, выдали по распоряжению Хозяина хлебный паек на сутки, а затем сопроводили за ворота.
Через две недели вернулись четверо. Ободранные, отощавшие; они стояли перед лагерными воротами, прося свидания с «Хозяином».
Иван Михайлович простил повинных, обязав их, опять же по подсказке Хирурга, следить за порядком. С тех пор в лагере стало тихо.
«Хозяин» поблагодарил целителя за ум и снова ринулся в действие, употребляя себя без остатка на утопию лагеря-сада.
По завершению строительства теплицы он празднично доставил в лагерь духовые инструменты и в один день организовал из зэков оркестр, руководить которым взялась Кривошеева жена, так как по далекому образованию была музыкантом, и все время супружеской жизни томилась полной общественной бездеятельностью и угнеталась.
Теперь по утрам и вечерам зона орошалась победными звуками маршей. Зэки начинали тускло сознавать: да, они рождены, чтоб сказку сделать былью. Но сильнее всех сознавал это начальник лагеря. Под гром оркестра он ликовал. Забывались заключенные, и выл на всю окрестную тайгу собачий зверинец.
Конечно, Ивана Михайловича, как всякого русского, который любит быструю езду, понесло. Он уже трудился вместе с зеками на строительстве свинарни, грелся в лагерном кругу на солнышке и читал взахлеб Пушкина до изумления и слез гордости за отечественную культуру.
Что и говорить: кто-то выкидывал в этом месте земли, на этом крохотном клочке такие коленца, что оставалось только диву даваться. И все из-за уникальной операции Хирурга по очищению человеческой души.
«Вот действительно, фокус так фокус», – удивлялся целитель своей работе и не знал, радоваться ему или печалиться.
Во всей лагерной фантасмагории Хирург принял правильную позицию. С солнечноликой отрешенностью Будды взирал он теперь на происходящее. Мол, деется – и пусть. Так угодно. А между прочим, Тот, кому было угодно, резвился вовсю, ибо Тот, чьих рук это было дело – Вечный Ребенок, мудрость которого непонятна и старцам. Единственное, чем огорчался Хирург, так это тем, что он поступил не научно. То есть, совершая свое гениальное действо, не задумывался о последствиях. А последствия были весьма предсказуемы. Что, если спросить себя, в том страшном мире могло рождать доброе сердце и чистая душа? Только то, что подлежало полному и неминуемому уничтожению.
Вот об этом целитель и не подумал, находясь в межреберной долине Хозяина, там, где обитала его высшая субстанция – душа.
Но тогда получалось, нет смысла заниматься подобной душеспасительной работой.
«Как же, Господи?» – удрученно спросил небо Хирург.
«Пример. Только твой личный пример веры и служения», – был ответ.
А тем окаянно чудным временем, когда вокруг лагеря полыхали пятидесятиградусные морозы, в зоне майора Кривошеева вышла на прогулку первая кучерявая травка и кое-где высунулась для огляда местности мать-и-мачеха.
Хозяин налился здоровым соком и весь сиял и румянился от своей благородной кипучей деятельности, за что вся прежняя охрана окончательно возненавидела Ивана Михайловича, но учинить расправу над ним опасалась из-за всеобщей народной к нему любви.
Для народа Кривошеев стал кем-то вроде крестьянского Ленина. Этот Ленин-Кривошеев развел на заднем подворье кур (благо, погода позволяла), свиней, мечтал о крупном рогатом, притащил из области штук пять гармоней, столько же баянов и двадцать балалаек с дудками. Лагерь стал напоминать гражданский трудовой балаган, нежели военно-карательное учреждение. Сами понимаете – как тут этого Ленина не любить! Любили.
Мало того, Иван Михайлович надумал вообще реорганизовать вверенную зону в коммуну всеобщей любви и братства, чтобы и остальное человечество впоследствии могло оглянуться на себя со стыдом и укором.
Для организации любви и братства предлагались тезисы, разработанные лично Иваном Михайловичем, его женой – Надеждой Кондратьевной Кривошеевой и двумя соучастниками составления – директором мукомольного комбината Лобовым, отбывавшим наказание за подготовку поджога склада в Свердловской области, и механиком Савелькиным, проходившим по делу съедения партийных документов Брянского горкома партии.
Тезисы были обширными и насчитывали сто тридцать восемь пунктов и девяносто семь подпунктов. Куда там настоящему Ленину! Поэтому народ и возлюбил Ивана Михайловича больше живота своего.
В тезисах, например, назначалось каждому:
1. Любить Бога всегда, везде и во всякое время.
Рекомендовалось:
2. Проснувшись, обнять и троекратно поцеловать близлежащего.
3. Иметь думы светлые, лба не морщить.
4. Улыбаться спокойно, благородно, без кривизны.
5. От уха до уха не ржать.
6. По территории лагеря ходить, обнявшись, по двое. (В крайнем случае – по одному, но любя всех).
7. Работать по принципу: лучше меньше, но лучше, чтоб не отвлекаться от любви и братства.
8. Мужеложство запретить навсегда.
9. Песни петь с любовью и ощущением братства внутри голоса.
10. Любить друга, как брата.
11. Любить брата, как друга.
12. Женщину любить так, чтобы она уже ничего не могла сказать, а только рожала население взахлеб.
И так далее. Сто тридцать восемь пунктов и девяносто семь подпунктов.
Тезисы сразу утвердили на лагерном вече, которое стало непререкаемой, полуанархической в лучшем смысле, формой общественной жизни.
Иван Михайлович Кривошеев стоял на специально сколоченном деревянном помосте и с пафосом провозглашал народу означенные пункты. Позади него красовались, сияя и ликуя, соучастники – поджигатель Лобов, пожиратель Савелькин и Кривошеева Надежда Кондратьевна.
При них имелось знамя коммуны, на котором изображалось, по предложению Надежды Кондратьевны, сердце, символизирующее всемирную любовь и согласие.
Знамя двумя руками гордо держал пожиратель партдокументов Савелькин, и было видно, что он еле сдерживается от счастья.
И, между прочим, все заключенные, переминаясь с ноги на ногу, тоже еле сдерживались солидарно с пожирателем, демонстрируя, что вот до каких высот может довести великая идея, когда человек уже не принадлежит себе, а только ей, идее.
В сию пору всеобщего лагерного восторга трудно было даже вспомнить, что когда-то Иван Михайлович стрелял по такому же народу из нагана, без счету пил горькую и носил в почке за грехи два тяжеленьких камня, которые и уничтожил Хирург, вмешавшись в Божий промысел и суд.
Хирург, глядя на одеревеневшую от счастья толпу, теперь понимал, что вся его затея с операцией была ненаучной и алогичной. Потому что человек революции Кривошеев, возродившись, мог зачать лишь новую революцию.
Тогда выходило – врач не нужен вообще.
«Так прикажешь понимать?» – снова задирал Хирург голову вверх.
«Все ты сделал верно, – услышал целитель. – Свое делай всегда. Всякий пусть творит свое. Что дадено. Остальное…» – и тут прозвучал тот далекий, пугающий, раскатистый смех, который Хирург уже слышал не однажды.
Ликовавшие от любви держались друг за друга и смотрели в нечаянный весенний Колымский мир мокрыми глазами. Общий восторг был так велик, что в те минуты никто, ни один из зэков не помышлял о том, что не мешало бы вернуться, раз уж такая выдалась свобода, к заждавшимся и горюющим родственникам. Что вся эта эйфория любви – чушь и зов очередной глупости. Но никто, как водится, не очнулся.
Один Хирург стоял и слушал, как тревожно бьется сердце да брешут в зверинце скучающие собаки.
Прозрение наступило на следующий день. По доносу коммунных братьев Кривошеева, которые клялись любить его до гроба, в зону с инспекторской проверкой явился начальник системы лагерей перековки и переплавки полковник Взбердыщев.
Это был человек почти двухметрового роста, отлитый из какого-то неизвестного пупырчатого железа где-то в дебрях Урала. Лицо Взбердыщева, а вернее сказать, фасадная часть верхотуры его туловища не имела никакого движения кожи. Для сообщений работала одна лишь дырка рта, извергавшая, в основном, шум такой брани, какой заключенные не слыхали отродясь.
Ввиду торжественного повода, весь лагерь был выстроен во фрунт.
Иван Михайлович шел рядом со Взбердыщевым вдоль строя и подмигивал заключенным, мол, все в порядке, ребята, пронесет.
Полковник вдруг остановился. Железная его голова переваривала какую-то думу. Дума переваривалась долго, так, что аж всем надоело. Наконец, отворив на голове дырку, Взбердыщев заорал, глядя на всех сразу мутными стеклянными глазами:
– Почему тепло?! Кто разрешил?!
Но, не дожидаясь ответа, поворотился к ближайшему заключенному, который, забывшись, стоял без шапки от любви к теплому воздуху, и нанес бедняге такой сокрушительный удар, что тот, не успев потерять радости братства, рухнул замертво.
Затем Взбердыщев на неспешном танковом ходу приблизился к теплице, уже дававшей первые стрелки зеленого лука, и тяжелым нажимом корпуса сокрушил десятиметровое в длину сооружение. Это действие сопровождалось непрерывным потоком бранного клекота из дырки на голове.
В течение дня проверяющий полковник трудолюбиво разорял и крушил Хирургову больницу, изломал сцену, с которой пели баяны с дудками, гонялся за курицей, но не поймал, зато разорвал двух свиней и, похлопав ладонь о ладонь, двинулся к машине, но на полпути остановился, долго стоял, мысля думу, вернулся и показал Кривошееву огромный, с хорошую гирю, кулак.
– Держись, сука, – пообещал Взбердыщев загробным голосом Вия и укатил.
Мир любви и братства был пробит пушечным выстрелом навылет.
На лагерь лег туман тоски, тревоги и уныния. Но ненадолго. Спустя некоторое время «Хозяин», потрясший зону дерзкими нововведениями, превращавшими лагерь в вольное поселение пострадавших людей с разрешением многих неуставных свобод, был люто зарезан «соратниками по борьбе за светлое будущее».
Злодеяние отнесли на счет одного опасного политического каторжанина, который, на удивление, знал о коммунизме гораздо больше, чем должен знать рядовой гражданин общественной ячейки, не говоря уже о заключенных.
Мнимый злодей был как бы пойман на месте преступления бдительной стражей, скручен и избит так, что, когда его вывели для показательного расстрела, узнать в лицо этого человека не мог никто. Бедняга, привязанный к столбу, даже не выразил радости по поводу вынесенного приговора.
Похороны начальника лагеря превратились в помпезную литургию в честь торжества великих идей.
«Хозяин», теперь уже бывший, добротно возлежал в собственной избе на жертвенном алтаре и, будучи превращен в национального героя, серьезно выслушивал сквозь вечный сон стенания близких и клятвенные уверения соратников в святой преданности делу.
Его портрет, одетый в красный и черный шелк, красовался для гордости на стене, чуть поодаль от портрета вождя всех времен и народов.
Зэки дружно выдолбили в вечной мерзлоте могилу, и гроб с телом народного страдальца торжественно опустили на место последнего пристанища. Над могилой вырос сверкающий во все стороны металлический обелиск с пятиконечной звездой, и люди отныне знали, что здесь покоится павший от коварной руки врага майор внутренних войск Кривошеев Иван Михайлович, честно отдавший все силы, жизнь и кровь до последней капли борьбе за освобождение пролетариата.
Все воротилось назад. Зона стала прежней, и даже холода снова ворвались на территорию лагеря.
Распутанная Хирургом душа прежнего «Хозяина», путешествовавшая над теми местами вместе с дружественной душой убиенного политкаторжанина, кротко улыбалась в течение отпущенных сорока дней нелепой мудрости земной жизни.
Хирург с печальным интересом наблюдал за происходящими событиями, проницая сквозь стены барака и расстояние зоны. Он уже умел видеть даже то, что будет. Поэтому Хирургу иногда становилось смертельно скучно и страшно от своего всепроникающего таланта. В то же время он понимал, что все охватить и всем овладеть абсолютно не сможет никогда. Лишь это обстоятельство и сохраняло смысл дальнейшего существования.
Заприметив как-то плывущую над бараком наподобие облака душу начальника лагеря, Хирург медленно вытянул руку и мысленно погладил старую знакомую, словно добрую собаку. Душа начальника, как бывшая пациентка, передала целителю некое тепло, в коем содержалось вполне внятное послание из другого мира.
Хирург прочитал таинственное тепловое письмо и задумался.
В послании сообщалось, что все происшедшее за последнее время в лагере должно было случиться именно так и не иначе. Возмездие, которое замышлял Хирург, реализовалось посредством его справедливого замысла, соединенного, правда, с замыслом еще более справедливым, но исключавшим участие самого Хирурга. И что если камень в почке – результат одних неправильных или порочных действий, то ужасная и бесславная смерть – итог действий других, еще более тяжких и необратимых. Не видит этого лишь слепой или человек столь же растленный.
Кроме того, вместе с письмом Хирург получил подробный формуляр, напоминавший десять заповедей, толково разъяснявший, как необходимо действовать целителю в том или ином случае и какими духовными или энергетическими инструментами пользоваться. Вместе с заоблачным посланием Хирургу, по сути, вверялась целая операционная, оснащенная всем необходимым снаряжением, изобретенным неизвестно когда и кем.
После отбоя, укрывшись грубым сукном, целитель составил опись драгоценного инвентаря и, покончив с этой кропотливой работой, поразился сложнейшей простоте наличного имущества.
«Вот теперь, – подумал он, – я могу все». – Подумал и услышал далекий раскатистый смех, долетевший из глубокого ущелья Вселенной.
В этот момент верхний сосед Хирурга по койке, отбывавший восемнадцатый год наказания за умышленную организацию единоличного хозяйства с покушением на колхозного быка, уведенного им из общественного стада для нужды собственной коровы, тихо заплакал, как он аккуратно плакал перед сном последние пять лет, очевидно, осознав, наконец, великое зло содеянного.
– Семеныч, – позвал Хирург.
Но сосед не внял. Тогда Хирург без позволения крестьянина вытряхнул его из собственного тела и отрегулировал в нем разбитую вдребезги нервную систему.
С этого дня Семеныч стал засыпать сухим, решив, что все слезы, какие были, он в своей жизни уже вылил наружу.
Еще раз в течение неспешных сорока дней от кончины «Хозяина» целитель встречался с бывшим управляющим, затерянным в сумрачных дебрях лагеря.
Как-то, перед окончанием рабочей смены, Хирург завернул за угол свежевыстроенной стены, расчерченной пушистыми лентами промерзшего между блоками раствора, чтобы справить малую нужду, и наткнулся на человека, который что-то тихо выковыривал гвоздем из шершавой, словно побитой оспой поверхности.
Человека целитель опознал сразу. Перед ним сидел на корточках в одной нательной рубахе бывший «Хозяин» и, не боясь сорокаградусного мороза, сосредоточенно портил будущую ТЭЦ. Рядом с аспидом вдоль стен и там, и сям прилежно трудилась целая диверсионная группа из десяти-пятнадцати призраков, выполняя такие же загадочные действия.
– Михалыч, – по-человечески опешил Хирург, будто это был не прежний злодей, а его родной дядя. – Ты зачем тут… Опять совершаешь?
– Чудновского помнишь? – спросил, не оборачиваясь, «Хозяин». – Станислава Николаевича. Мы его здесь кончали. Возле этой стенки. Чудновского с товарищами. Видишь, пульки застряли.
С этими словами бывший начальник лагеря действительно выковырял из стены пулю, и она, превратившись в синюю бабочку, стала порхать над ним, излучая слабое фосфорическое свечение.
Хирург поднял голову и увидел множество таких же мерцающих насекомых, безмятежно реявших над серым склепом недостроенного корпуса. Это было похоже на сон, на какое-то далекое кино. Но более всего Хирурга опалило то, что из каждой, очерченной белым, плиты шлакоблока за работающей бригадой приведений строго наблюдала живая пара внимательных человеческих глаз.
Через мгновение целитель пришел в себя, но справить нужду в этом месте не решился, так как поверил в обнаруженный десант больше, чем верил настоящей реальности, каковая уже давно не укладывалась ни в какие рамки нормального понимания.
Другой случай заставил Хирурга убедиться в том, что все происходящее вокруг – только зыбкая сфера, некая жуткая изнанка истинного существования, искаженным отражением которого в виде дикого абсурда и является его жизнь, как, впрочем, и жизнь всех остальных лагерных обитателей.
К примеру, в лагере трудился, неся свой крест, некий заключенный, Семен Ефимович Воронцов, по отцу – Фронт. Подтверждая боевую фамилию, Семен Ефимович добровольно участвовал в войне, хотя для этого ему пришлось оставить кафедру Московского университета. Он прекрасно владел двенадцатью языками, несколько знал просто хорошо и многие понимал внутренним чутьем.
Благодаря удивительным лингвистическим способностям, в армии Семен Ефимович немедленно возглавил интернациональное ядро, а вскоре был назначен командиром батальонной разведки. И вот тут господин случай сыграл с ним злую шутку.
Однажды, хватанув после удачного боя с дивизионным командиром спирта за будущие победы, Воронцов, никогда не пивший водки, получил затмение, которое рассеялось в немецком блиндаже. Еще не придя в себя, Семен Ефимович крепко обижался на незнакомых людей, используя новый военный язык, какой он постиг на войне. Очнувшись, Семен Ефимович перестал ругаться и поразил фашистов редким знанием в первоисточниках Шиллера и Еете на немецком. В тот момент его спасли три обстоятельства. Во-первых, будучи полукровкой, он относился к евреям, внешне на евреев совершенно не похожим. Во-вторых, Семен Ефимович носил благородную фамилию матери и по документам значился как старший лейтенант Воронцов. В-третьих, командир советской разведки, конечно, вызвал у врага несомненный интерес по всем статьям, и немец решил немедленно отправить задержанного в штаб. Однако мотоцикл, на котором двое автоматчиков повезли самовольно явившегося в нетрезвом состоянии красного бойца, нечаянно налетел на свою же мину, оставив в живых только Семена Ефимовича.
Вот с такой подпорченной репутацией и небольшим ранением плеча Сеня Воронцов-Фронт доставился в родной батальон.
Пристально рассмотрев проступок Семена Ефимовича и исследовав имевшиеся до войны места командировок в Париж, Дрезден и Варшаву для изучения произведений искусств, суд покарал гражданина Воронцова всеобщим презрением и назначил ему, как врагу народа, заслуженную трудовую вахту на ближайшие двадцать лет.
Семен Ефимович плакал на суде и предлагал во искупление собственную кровь. Но кровь его никому не понадобилась, так как Воронцова требовалось перековать.
После путешествий по бескрайним просторам России и пересыльным тюрьмам Семен, занимавшийся на воле западным искусством, неожиданно полюбил русский народ. Полюбил его самобытную культуру, своеобразный уникальный язык, традиции, шутки, поговорки и даже незлобный матерок.



