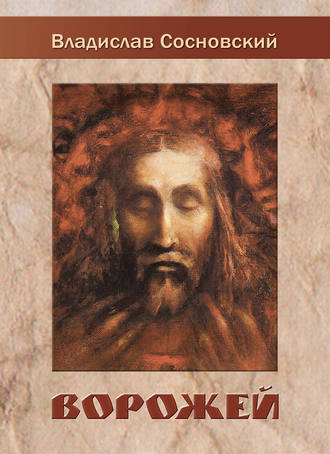
Владислав Сосновский
Ворожей (сборник)
Но особенно возлюбил Семен Ефимович великого вождя мирового пролетариата Иосифа Виссарионовича Сталина.
В то время когда глаза колонны, топавшей на работу, источали тоску и уныние, Сеня Воронцов лучился какой-то загадочной полуулыбкой, сопровождаемой шевелением губ, что означало рождение новой оды вождю.
Благодаря феноменальной памяти, Семен своих стихов никуда не записывал и знал все наизусть. Оды его были так длинны, что его никто не мог дослушать до конца, поскольку у заключенных для подобных занятий не хватало ни времени, ни сил, ни желания. К тому же Сенины оды, сочинявшиеся им с тех пор, как он слегка пошатнулся умом, пахли столь приторно сладко, отдавали такой помпезностью и вместе с тем раболепием, что трудно было представить, как сей человек когда-то занимался высокой, по большому счету, литературой.
Ежедневно Семен наливался звонкими стихами, словно неким духовным веществом, которое распирало его изнутри. Тогда он время от времени не выдерживал внутреннего поэтического давления, выставлялся перед отбоем всей своей тощей фигурой посреди барака, растопырив ноги в драных вонючих обмотках, и начинал долгую, заунывную аллилуйю Сталину. Других произведений он в лагере не писал.
Сошлись коммунары под сенью Кремля, – читал Семен, вздымая костлявые кисти к черному потолку.
– В Москву их послала родная земля.
На славной трибуне наш друг и отец,
Наш Сталин великий, отрада сердец.
И плещут ладони, и возгласов гром,
И души раскрыты пред ясным вождем.
Ему свое сердце народ отдает,
И Сталин – Великий, как солнца Восход.
Он радость для сердца, он свет для души
Правдивые речи его хороши.
И жду с нетерпеньем счастливого дня,
Когда в члены партии примут меня.
Предан наш народ Отчизне,
Дорога ему держава.
Сталину, творцу бессмертной жизни, —
Слава! Слава! Слава!
И это бывало только началом, только запевом к бесконечной, напудренной и разукрашенной песне, уходившей в стынь глубокой ночи, в храп и стоны зэков.
Поэта Воронцова вызывали даже к начальству и там учиняли ему экзамен на предмет выявления в стихах крамолы. Но все бессмертные творения Семена были настолько идиотически искренним панегириком вождю, что командующие лагерным наказанием отступали в тыл.
– Вот ты говоришь: «Когда в члены партии примут меня»… – пытал Семена начальник режима и задал роковой вопрос: – А ты хоть понимаешь, что такое коммунисты?
– Коммунистом можно стать лишь тогда, – смело ответствовал испытуемый, – когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество.
– Это почему? – морщили лбы экзаменаторы.
– Ленин.
– Что Ленин?
– Так говорил в своих сочинениях Владимир Ильич Ленин.
– Гм, – сказал начальник режима, глядя в бумажки на столе. – Значит, ты читал Ленина?
– Так точно! – радостно, по-военному докладывал Семен.
– Какие же ты знаешь сочинения?
– «Империализм и эмпириокритицизм», «Лучше меньше да лучше», «Как нам реорганизовать рабкрин»… еще?
– Ладно, – удовлетворялось начальство. – Иди. Но смотри, твою мать, чтоб это… чтоб не дай бог там что-нибудь… Понял?
– Так точно, – успокоил начальство Семен.
Заключенные, правда, не противились Сениным излияниям: под их монотонную мелодию легче засыпалось. Впрочем, была и другая причина. Однажды некто Панюшин, отбывавший наказание за то, что оставшись во время одного из боев в орудийном расчете один, как ни старался, будучи раненым, не смог вытащить пушку из болота, а потеряв сознание так же, как и Семен, попал в плен. Бежал, был пойман, изорван собаками. Но лишь только поправился, бежал снова, пересек линию фронта и рыдал, словно ребенок, на плече первого, встретившего Панюшина, красноармейца.
Рыдая в гимнастерку русского бойца, капитан Панюшин думал, что самое страшное позади, главное – он среди своих. Но свои оказались разными. В НКВД посчитали, что будет правильнее, если этот самый капитан прочувствует свою вину где-нибудь на Колыме, тем более манеры и тон подсудимого солдата выплескивались за рамки чинопочитания. Рваные раны от собачьих клыков и осколочное ранение не доказывали судьям факта пожертвования Панюшиным в пользу Родины последней капли крови.
В лагере Панюшин был замкнутым, угрюмым человеком, редко произносившим что-либо. И вдруг среди ночи, как гром, прозвучал его голос.
– Заткнись, падаль! – резко выкрикнул Иван Панюшин. – И умолкни вместе со своим Сталиным.
Утром начальник отряда, человек, имевший на лбу волосы до самых бровей, хрипло перечитал список вверенных ему заключенных, но на фамилии Панюшин запнулся и, достав карандаш, жирно вычеркнул с ехидной ухмылкой его в своем кондуите.
Больше командира боевого артиллерийского расчета Ивана Сергеевича Панюшина никто никогда не видел.
Кроме Хирурга.
Хирург давно уже понял и утвердился в мысли, что человек – лишь маленькая частичка в огромной системе природы и космоса. Он знал также: частичка эта неразрывно связана многими нитями со всем окружающим и заоблачным миром, питающим ее и мощной энергией, и живительной силой, исходящей от некоего высшего разума, который люди и называют Богом. Ведомо было Хирургу и то, что после смерти человек не перестает существовать совершенно. А оставив свое тело как пустую личину, и загадочный, продолжающий действовать в качестве памяти о прижизненных делах земной след, душа – суть человеческая – переходит в иные сферы новых миров, о которых ни Хирургу, ни еще кому-либо знать не дано. Однако он, Хирург, после продолжительных философских бесед с тибетским Виктором поднялся на такую ступень знания, когда мог видеть и немо разговаривать с существами, прежде обладавшими людским обликом.
Явившийся Хирургу после отбоя по призыву лекаря Иван Панюшин ясно поведал Дмитрию Валову о том, что обнаженное тело его, получившее шесть пуль автоматной очереди, брошено в таежный снег неподалеку от лагеря на съедение волкам. Но не это главное. А главное то, что Россия платит и еще долго будет платить за те кровавые грехи и богоотступничество, которое она совершила в семнадцатом году. Содеяла это не по своей вине, ибо давно приняла Христианство как единственное Царство Божие, а по вине иродов, сгрудившихся у трона и вторично распявших Христа. А вот оплачивать долги придется всему народу. «Но все-таки, – известил призрак русского воина Ивана Панюшина, – именно на Россию будет смотреть весь мир, так как сохранился в ней и возродится родник духовности божьей в самом высоком смысле, несмотря ни на что. Этим лишь и спасется земля наша. Ибо спасение – это жизнь с Богом и в Боге. А если сие поймут дети и дети их детей, поймут, что кроме любви друг к другу, ко всему окружающему, ко всей Вселенной и Богу нет чувства выше – Россия расцветет, как жасминовый куст, а вслед за ней и вся земля. Иначе – конец мира».
«Ты же, Хирург, делай свое дело, как делал, – наказал Панюшин. – Отдай всем страждущим свое сердце и жизненную силу, и энергию ради исцеления нуждающихся в твоей помощи. Не так ли поступал и Христос, посланный Господом для спасения человека, для прозрения его духа и веры? Неси, Хирург, свой крест тихо и смиренно. Помни: Господь знает, думает о вас, а в нужное время даст и свободу, и искупление, какими бы тяжкими они ни были».
С этими словами бывший боец легко просочился сквозь потолок барака и растаял во мгле, где он теперь проживал.
Хирург некоторое время лежал в глубоком размышлении о словах Панюшина и вдруг неожиданно и, как ему показалось вначале, некстати вспомнил, что и его собственный отец в свою пору ревностно защищал завоевания Великого Октября, служа в войсках НКВД, пока не погиб в одной из перестрелок с «белогвардейскими бандитами».
Хирург вздохнул и первый раз обратился к Богу совершенно осознанно и направленно, с искреннею молитвою о милости и прощении России и всего имеющегося при ней человечества.
Для себя Хирург не просил ничего, только по жесткой, одеревенелой от морозов щеке его медленно ползла одинокая, скорбная слеза.
Вспомнив сейчас последнюю, необычную встречу с Панюшиным, Хирург толкнул в бок дремавшего Боцмана.
– Ты чего, Митя? – поворотил к нему Боцман привядшую ото сна, густо заросшую трехмесячной бородой физиономию.
– Я думаю, Петя, – сказал Хирург, – за что, спрашивается, мы сидели в тех клятых лагерях? А?
Боцман ошарашено поморгал и, не будучи в состоянии ответить сразу на неожиданный вопрос, озадаченно покашлял в кулак.
– Ну как, стало быть, за что? Один – за то, другой – за это, – вразумительно высказался старый моряк. – Я, ты знаешь, чуть башку не снес замполиту. Это ж тебе не шутки. Мне еще повезло, Дима. Я, можно сказать, промахнулся. А попади тогда ему прямо в носовую часть – труба. И ему, ну и мне, конечно. Так что, Дима, я сидел правильно. Что я, палач какой-нибудь? Имел ли я право казнить того шелудивого замполита, когда он, в принципе, и не виноват, если разобраться. Виновата, понятно, моя жена. Но Бог ей судья, и она, вероятно, свое получит. А вот ты, Митя, за что страдал – тут я теряюсь… Да и сколько же вас было там таких, безвинных? Мама родная…
– В том-то все и дело, Петя, – сказал Хирург, – все мы получали свое. За грехи наши. И даже, скажу тебе больше – за грехи предков наших. И близких, и далеких.
– Ну, это ты загнул, Митя, – засомневался Боцман. – Причем тут…
– Причем – не причем, а так оно и есть. Поверь мне. Как-нибудь я тебе растолкую, что к чему.
– Да, – задумался Боцман. – Может, ты и прав. Тебе виднее. Ты, Дима, человек научный. А мне до твоего маяка не доплыть.
– Доплывешь, Петя. Доплывешь. Маяк, он на то и маяк, чтоб на него держаться. Так или нет?
– Так-то оно так, – неопределенно согласился Боцман. – Только уж больно оно все мудрено получается.
– Мудрость, Петр Трофимович, – сказал Хирург официально, – есть свет, истекающий из всех страданий наших. Так-то.
Боцман с некоторой тревогой взглянул на своего друга.
– Это тебе, случаем, не Гегель лекцию прочел?
Хирург улыбнулся.
– Гегель до лекций не дорос. Гегель – Фаэтон. Бродячая звезда. Какие лекции? А вот мне бы и впору, да знаний нужных нет. Маловато. Несмотря на весь мой лагерный опыт. Знаний – с ноготок. Вырвусь отсюда – начну все сначала. Учиться начну. А знаешь, чему?
– Чему?
– Науке постижения Бога. В себе и во всем. Нас этому не учили. А это, как выясняется, главная наука.
– Не поздно?
– Что не поздно?
– Учиться, говорю, не поздно?
Хирург вздохнул.
– Этому, Петя, учиться никогда не поздно.
– Эх-хе-хе, – загрустил Боцман. – Чувствую, улетишь ты скоро в свой Петербург, и останусь я один, как якорь на дне моря. Давай, что ли, дернем по маленькой от тоски.
– Послушай, Петя, – сказал Хирург. – Я больше, приеду в Питер, пьяной капли в рот не возьму. Нельзя быть с Богом и хлестать водку. Мысли должны быть чистыми, как горная речка. А мы что? У нас мозги иной раз, будто портянки нестиранные. Позови меня больной в такой момент, что я с ним буду делать? Чем помогу? Вот ты, к примеру. С виду мужик здоровый, а селезенка, я вижу, у тебя барахлит. Тут вот… – Ткнул Боцмана в левый бок своей культяпкой Хирург. – Вот здесь болит иногда?
– Случается, – сознался Боцман. – Только мне, Митя, на все это наплевать. Пропал у меня интерес к жизни. Понимаешь? Пропал. Раньше была работа по сердцу. Жена. К чему-то стремился, книжки читал. Матросов любил. Не жил, а летел куда-то. Веришь? Да и купюры водились. Тоже, между прочим, не последнее дело. У меня о водке тогда и размышления не было. Купить мог – чего хотел. Да и цены, кстати сказать, стояли божеские. В отпуск – дуй хоть на золотые пески Варны. А сейчас что?.. Нет, Дима, ты себе как хочешь, но я хлебну, – решил Боцман и достал из рюкзака бутылку. – Не сложилась. Куда мне рыпаться: пятый десяток покатил. Такое чувство, будто торчу на причале, а пароход мой – вон он… скоро за горизонтом скроется. Тоска, Дима. Тоска серая. Глотнешь горькой – вроде теплее на душе. И пароход как будто недалеко. Глянешь – матросики по палубе бегают. С ними и сердце оживает. Так что богу – богово, а меня ты тут не убедишь. Как идет – пусть идет. И чему быть – того не миновать. Я ни перед кем не в долгу. Сам за себя в ответе. Да и годы не те – начинать сначала.
– Не нравишься ты мне, Петя. Ох, не нравишься, – в сердцах объявил Хирург. – Что ты сопли распустил? Вспомни, как жил в тайге три месяца. Един был со всем миром и душой спокоен. Не пил же там? Не пил. Никто не пил. И все на людей стали похожи. Потому что жили по-божески, чисто. Разве мне легче, чем тебе? Вот прилечу я в Питер. Кто я? Что я? Кому там нужен? Найду ли сына, жену? Да и признают ли они меня? Может быть, там давно другая семья. И все-таки, я верю, Петя. И молюсь. Нужно верить. Не опускать руки, как ты это делаешь. Есть у тебя дорога – иди по ней до конца. Крест на плечах – неси смиренно. Поставь цель – вернуться на корабль. И дано тебе будет. Так говорил один мой приятель из Тибета. Не забывай только обращаться к небу. Помни: ты человек и рожден для радости. А печаль твоя и хандра неутешная передаются всему миру. Близким твоим, далеким, вон тому дереву, сопке этой, океану. Все мы – одно целое. И если плохо тебе – плохо еще кому-то. А от радости твоей оживает Земля. Радость же приходит, когда, несмотря ни на что, добьешься своего. Вот тогда, Петя, почувствуешь себя человеком.
Водитель переключил скорость, и автобус пошел на взлобье перевала с новой силой.
Пассажиры дремали, похрапывали.
Боцман закупорил бутылку, засунул ее обратно в рюкзак и отвернулся к плывущему в редкой метели окну.
– Откуда ты взялся на мою голову, – сказал он в никуда. – Так было просто: вот мешки, вон ящики. За углом магазин. А теперь сиди, думай. Разбередил ты мне раны, Дима.
– Это не страшно, – ответил Хирург. – Думать, как показывает опыт, всегда полезнее, чем шастать по магазинам. Сие тебе как врач констатирую. И вернуться на корабль помогу. Есть у меня одна мыслишка.
В тот день, когда исчез Гегель – Смирнов Василий Николаевич, Хирург не находил себе места.
Нужно было обустраивать лагерь. Боцман с Борисом стучали молотками, натягивали палатки для хранения вещей и непортящихся продуктов. Мастерили в вагончике, стоявшем на берегу шумной, быстрой речки Лайковой, деревянные нары, а лагерный лекарь все ходил из стороны в сторону с бесполезным в его руке топором, не понимая: зачем, почему и куда устранился их загадочный собригадник.
По опыту Хирург знал, что эти места, сплошь покрытые дремучей тайгой, насквозь прошиты неумолчными речками, питавшимися ледяной водой таявших на сопках снегов, многочисленными протоками и ручьями болот. Пройти сотню верст по такой местности до Магадана мог только человек бывалый, выносливый, зоркий, для которого и примятая трава, и надломленная ветка, и откровенный след, и крик птицы были своего рода сообщением о том, как поступать в той или иной ситуации.
Смирнов же Василий Николаевич, облаченный в старенький, заношенный костюм, нестиранную рубаху, повязанную под воротничком аляповато-ярким галстуком, при затертом дерматиновым портфеле, в коем болталась электробритва, ветхое Евангелие и резиновый заяц, походил больше на заблудшего бухгалтера, нежели на матерого таежника.
– Ну чего ты маешься, в натуре? – угадал мысли бригадира Борис. – Никуда твой очарованный не денется. Хотя зачем ты взял его, никак не пойму. Я таких чумовых знаю. Завалился, как Ванька рязанский. Посидел на пенечке, покумекал – работа тяжелая, комарье, гнус пойдет. Помаши-ка тут косой на болотах… Нет, думает, это не по мне. И пошел втихую. А пойдет он, я тебе говорю, берегом Лайковой аж до Охотского моря. От одной стоянки косарей до другой. Мебель, небось, таких косильных бригад набросал по реке штук двадцать. До самой столицы Колымского края. Так что не боись: везде ему, придурку, и харч, и ночлег, и все прочее. Это чучело и мишка обойдет, и волк с рысью от хохота сдохнут. Другое дело – погреб некому копать. Тут я сейчас упер бы его лопатой в землю. Да и кухню ладить некому. Баню ставить. Не на неделю прикатили. Дрова к вечеру пилить. Работы навалом. Руки, сам знаешь, на вес золота. Четверо – не трое. А он, курва, в самый такой момент взял и сдунул. Но ладно, бугор, не бери в голову. Не вешаться же теперь. Справимся. Жалко, конечно, клешни тебе переломали те твари – Боцман рассказывал – ну ничего, переживем. Не убивайся, Хирург. Как-нибудь потихонечку все организуем.
– Да, скоро горбуша пойдет, – невпопад присоединился к разговору Боцман. – Икра будет.
Тайга по обе стороны реки стояла тихая, стройная. Неслышно умывалась неярким колымским солнцем. Но из дебрей ее тянуло чем-то диковато жутким, первобытно далеким.
– К вечеру дождь будет, – сообщил Хирург. – Надо поторапливаться с палаткой.
Борис оглянулся по сторонам.
– С чего ты взял? Небо кругом чистое.
– Вон ту сопку видишь? – показал Хирург топором. – Я ее Шаманом назвал. Так вот, если Шаман сидит в серой заячьей шапке из облаков – быть дождю. Тем более ветер оттуда. Ежели соболь на макушке снежный сверкает – солнце до заката. Словом, живой прогноз. Ну а сейчас чего мы наблюдаем?
– Серый на голове, – подтвердил Борис.
– То-то и оно, – вздохнул Хирург. – Представляешь, каково Гегелю будет? До ближайшей стоянки, не зная короткого пути, он не дотянет.
– Так ему, козлу, и надо, – вспылил Борис. – Пусть помокнет, раз мозги кривые.
– Мозги, Боря, у всех кривые, – открыл Хирург. – Главное, какие мысли в них имеются. А дурными словами в чей-то адрес бросаться нельзя, Боря. Они, эти слова, к тебе же и вернутся. Бедой, болезнью, переломленной судьбой и прочей неприятностью.
– Получается, много ты налил на кого-то слов таких? – с намеком на Хирургову долю спросил Борис.
Хирург поднял с земли толстую ветку, положил на пень, с которого недавно отделился в тайгу Гегель, и одним ударом пересек ее надвое.
– Нет, Боря, – сказал он. – Слов дурных я ни на кого за свой век особенно не обрушил. Потому и здоровье пока – тьфу-тьфу – слава богу. А жизнь переломилось – тут другое. Как-нибудь я тебя с Боцманом соберу и прочту между вами лекцию. Эта тема сильно глубокая. Признаться, мне и самому в ней многое неясно, но кое-что я все-таки понял. И Гегель, думаю, ушел неспроста. У него, видно, была своя причина, отличная от той, Боря, какую ты выставил. Если к ночи занепогодит – придется искать. Собаку, и ту жалко потерять. А уж человека…
– Вот интересно, Хирург. Чем ты меня берешь? Не могу просечь. Все внутри вроде бы противится тебе. А что-то шепчет в душе: прав он, прав. Святой ты, что ли? Или колдун?
Действительно, Хирург не ошибся. К исходу дня солнце еще не успело спрятаться за сопки, обливало тайгу теплым последним светом, а со стороны Шамана низко поползли лохматые пепельные тучи, ощупывая сивыми лапами верхушки старых сосен.
Стало сумрачно и тревожно. Вода в реке почернела и только на перекатах она по-прежнему вскипала и пенилась белыми вихрастыми бурунами. Чайки, налетевшие в ожидании нереста, притихли на островах, изредка оглашая помрачневший лес вещуньями криками. Предвещали же они непогодь, возможно, затяжную, какими и славится короткое колымское лето.
Хирург прослушал последние новости птиц и решил с утра, не откладывая, отправляться на розыски Гегеля.
Вертолет, вызванный для обнаружения беспутного косаря, впустую покружил над тайгой, да так ни с чем и вернулся на базу.
Тучи начали сеять холодной моросью, но складские палатки уже стояли и кухню успели укрыть полиэтиленом, спрятав под двойной крышей немного сухих дров. Но там кашеварить не стали.
В вагончике растопили чугунку и на ней приготовили японский порошковый картофель, щедро заправленный свиною тушенкой: с утра не держали во рту ни крошки.
Борис достал припасенную в городе бутылку рисовой водки и разлил ее в алюминиевые кружки.
– Ну что, мужики, – произнес Хирург и немного подержал кружку, обхватив ее с двух сторон корявыми пальцами обеих рук.
В свете керосиновой лампы морщины на его лбу и проямины на щеках стали глубже, худое лицо заострилось, и весь он сейчас напоминал старейшину древнего рода. – С началом сезона!
– Бог в помощь, – поддержал его Боцман.
Глухо чокнулись незвонким железом и, обнюхав хлебушка, набросились на еду.
Тихо шелестел по крыше за окошком дождь. Чутко вздрагивал желтый лепесток пламени за стеклом лампы. Пахло сосновыми дровами и керосином. От печки, водки и пищи враз стало жарко.
Обросший бородою, Боцман являл собою дремучее чудище, и ложка в его лохматой лапе казалась не больше булавки.
В свете дня борода старого моряка имела вид осанистый и даже как бы ухоженный. Сама собою разделенная на подбородке на две равные части, она плавно застилала лицо его рыже-золотой порослью с пробитыми сединой в концах скул витыми кольцами. В сумраке же была какого-то пугающего цвета обожженной меди, а вся его всклоченная после работы голова представляла некий далекий ветхозаветный образ.
Глядя на размытые очертания реки за небольшим окошком наскоро обустроенного жилища и думая свою неведомую думу, Боцман неожиданно решил вслух:
– Завтра побреюсь к чертовой матери. Начинать новую жизнь – что с якоря сниматься: надо с чистой мордой.
– Вот комары обрадуются, – засмеялся Борис. – С твоей лысой фотографии им до самой осени крови пить, не перепить.
– А я думаю, ребята, – вмешался Хирург, – придется мне с утра выходить Гегелю наперерез.
– Правильно, – поразмыслив, поддержал друга Боцман. – Все равно никакой работы не будет. Я чаек слушал. Говорят, сырость с неба дня на три, не меньше.
Борис покачал головой.
– Неугомонный ты дядя, бригадир. Но я, если ты не против, пойду с тобой. Найдем твое чудо, хоть посмеюсь над этой мокрой курицей.
Хирург хотел было что-то сказать, но промолчал.
– А мне чего делать? – пробасил Боцман. – Не оставлять же лагерь.
– Ты к вечеру как раз только и побреешься, – прояснил Борис.
– Слушай, Боря, – надорвал тишину лагерный целитель, – скажи мне: за что ты людей не любишь?
Борис помедлил с ответом, закурил питерский «Беломор», выданный сенокосчикам на все лето.
– Как тебе сказать… Не за что их любить пока. Не видел я в жизни ни от кого ничего хорошего. Человек по природе своей злой. Злой, как волк. А ты должен быть еще злее – иначе сотрут в порошок, растопчут и ноги об тебя вытрут. Рви свое – тогда будешь жить. Вырвал побольше – тебя уважают, кашляют перед тобой, кланяются. А не вырвал – ты вошь, гнида. Всякая кляча копытом раздавит. Ты – никто и никому не нужен. Хоть люби человека, хоть не люби. Он к тебе все равно задницей повернется. Если нет ничего в кармане, так и будешь катать с места на место, от берлоги к берлоге, потому что ты – голь перекатная. И цена тебе – один деревянный, да и то – стесанный. А все эти «возлюби», «снимай рубаху», «не укради», «не прелюбодействуй» как раз на такую рвань и рассчитаны. Поскольку им ничего другого не остается. Люби ближнего и все. Может, он корку какую подбросит. А женщин иметь – в кошельке ветер гуляет. Конечно, философия не новая, но как я успел заметить, Хирург, весьма прочная. И в наше время, поверь мне, самая предпочтительная. Соглашайтесь, не соглашайтесь, меня с нее не сдвинешь. Жизнь научила кое-чему. Человек же сам по себе – такое изобретение, что ему все мало. Есть дом – нужна «тачка». Есть «тачка» – подавай дачу. Имеется дача – причаль к ней яхту. И чтоб в ней – красотка. И так без конца. Но здесь-то и зарыт интерес. Жизнь – бой. Будешь изворотливым, сильным – победишь. Нет – извини, подвинься. А любовь – это, Хирург, лирика. Без запаха и цвета. Ее не потрогаешь руками, чего она такое и сколько стоит… Вот прикинь, я на Ривьере, – есть за бугром курорт такой. Выхожу из длинного белого «Форда» в белом костюме с сигарой во рту. И меня сразу все любят. Предлагают и то, и это. А я, усевшись в плетеное кресло, лишь выбираю и то, и это. А почему? Потому что люди мне нужны только как средство достижения своей цели. И я передвигаю их, словно фигуры на шахматной доске. А если я буду любить их, как ты говоришь, то никогда не стану ни Фордом, ни Рокфеллером, ни Лениным-Сталиным. Это – дважды два. «Мы всходим на корабль и происходит встреча, – говорил один французский поэт, – безмерности морей с предельностью мечты». Вникните в эти строчки и поймете, что я прав. Предельность мечты! Есть черта, за которой все обнажается, будто под твоим скальпелем, Хирург. А ты говоришь – любовь. Ты, кто лучше других знает: проведешь по коже этой штукой, и вот они – печень, почки, легкие и прочие предметы. Где она тут, любовь? В желудке, селезенке, кишках? Где она?
На Хирурга тогда навалилась какая-то тяжелая, плотная тишина, в которой издала последний, тихий крик и скомочилась на дне лампы, обожженная кинжальным лезвием пламени, неведомая, мелкая комаха.
– Знаешь, Боря, – с налетевшей тоской произнес Хирург. – Скажу тебе притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И вот он рассуждал так: что мне делать? Некуда мне собирать плодов моих. И сказал: вот, что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие. И соберу весь хлеб и все добро моё. И скажу душе моей: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Бог сказал ему: «Безумный! В сию ночь душу возьмут у тебя, кому же останется то, что ты говорил?» Так вот, не случится ли с тобой то же самое? Средства, какими ты намереваешься пользоваться, не от Бога взяты будут. И не на любви к ближнему хочешь построить дом свой. Твоя философия – философия застывшей лавы, которая всеми силами будет пытаться забыть, что под нею клокочет огненная стихия. Кроме того, помни: ты – русский, и в твоей душе обретается древняя страсть путника, ищущего Града Божьего, для которого безмерная ширь и воля важнее всего. Это проснется рано или поздно. Тебя же сейчас обуяла алчность, тогда как великое приобретение жизни – просто быть, жить и уметь радоваться этому. Алчному же – хоть весь мир отдай, он все будет говорить: «Мало!». Так рассуждают протестанты. У них нет Бога как такового. То есть он есть, но, скорее, в качестве идола, пред которым можно покаяться в чем угодно. И он простит и предательство, и ложь, и намеренное убийство. А дальше можешь делать все то же самое. И лгать, и убивать, и предавать. Покаяния, искреннего, православного покаяния у них, у наших заокеанских друзей нет. Да и ты сейчас не русский, вспорхнувший за золотой бабочкой. Рабство ты уже ощутил на собственной шее. Что же, теперь будешь мазать этим дерьмом других? Худо, Боря. Не о таких людях, как ты, мечтает Россия. Не о таких, Боря. А теперь спи. Ну тебя ко всем чертям. Надоел ты мне. – Хирург устало поднялся и вышел по ноющим, старым доскам вагончика наружу, в мокрую, налитую запахом хвои, темень. Сейчас он казался себе таким же обожженным мотыльком с подгоревшими крыльями, оставшимся лежать на донышке лампы. Не было ни сил, ни желаний. Рядом глухо урчала река. Из глубины леса вырвался и тут же задушено стих далекий звериный крик.
Хирург вздрогнул. Невольное чувство хрупкости всего живущего овладело им. В который раз! Он вдруг испытал отвращение ко всякого рода суетной деятельности. Кто придумал, что праздный ум – мастерская дьявола? Напротив, чистый ум или праздный ум – мастерская Бога. Конечно, черные силы поселяются в уме, обуреваемом безудержной деятельностью. И Борис не исключение. Он молод, он бежит и проваливается то в одну, то в другую яму. Соблазнов много, а ум, как кочерга. Ему нет покоя. Он весь в суете. И вот уже дьявол начинает руководить им. Он никогда не скажет: «Остановись!», «Расслабься!», «Поразмысли». Он говорит: «Действуй! Делай, что угодно, но действуй. Двигайся! В жизни надо успеть!»
На самом деле, стремиться успеть не нужно, потому что именно тогда и не успеешь. Все великие осознали: неспешный ум позволяет божественному войти в него. И быть в нем нетленно. По природе ум пуст, но он содержит в себе все, что нужно.
Иисус сказал: «Если будешь цепляться за себя, потеряешь…»
Хирург невольно, словно по чьему-то велению, обернулся и посмотрел в направлении Шамана. На том месте, где стояла белоглавая сопка, мреял огромный мутно-золотой равносторонний треугольник с легкими красными шарами по углам. В центре же эта геометрия имела ясно различимый зрачок, недвижно взиравший на Хирурга испытующе строго. Под этим взглядом Дмитрий Валов вдруг почувствовал, как усталость и немощь слетели с него, будто шелуха, а тело стало легче птичьего пера. Оно, тело, медленно поднялось от земли и легко взмыло над тайгой косо вверх. Но кроме этого, Хирург с удивлением обнаружил, что и речка Лайковая, на берегу которой он только что стоял, тоже движется вместе с ним в окруженном звездами пространстве. Наконец растаяли звезды и в абсолютной мерцающей пустоте оказались лишь Хирург, серебристая река и загадочный треугольник с живым оком, все так же глядевшим на лекаря с прежним неколебимым вниманием. Хирург неожиданно увидел себя как бы со стороны. Пугающе большим и прозрачным было его тело. Река уходила в бесконечность. Течение ее стало спокойным и плавным. Треугольник теперь занимал всю оставшуюся часть окружающей площади, если таковая вообще существовала.
Хирург увидел, как сначала произошло некое сияние, наподобие северного, а затем Река беззвучно вспенилась легким серебром. Из Нее родились два солнечно-прекрасных, разнополых существа и, взлетев, как боги, они растворились в бесконечности.
– Радуйся боли! – услышал целитель запредельный голос. – Ибо она есть предвестник рождения и дана как очищение и покаяние. Радуйся заблудшему, поскольку ты способен вывести его из мрака. Радуйся искушению, потому что оно дает тебе возможность и силы противостоять. Имея же эти силы, все низкое сделаешь высоким. Радуйся темному, потому что можешь пролить в него свет. Не беги от этого. Не бойся смерти. Смерть – лишь новое рождение. Следуй за любовью и добром, тогда тебе дано будет, а в жизни – достигнешь. Радуйся!
При этих словах большой, боковой образ целителя неспешно наполнился сначала цветом млечным, затем серебряным и, наконец, золотым.
Хирург физически почувствовал тяжесть в затылке и хотел, было, снять фуражку в знак искреннего почтения пред ровным, могучим и мудрым голосом, но головной убор остался в вагончике, в обычном деревянном вагоне, оббитом обычным ржавым железом. Целитель растеряно обернулся, но ничего не смог различить позади себя. Накатившаяся ночь уже поглотила лес, едва обозначив вверху лишь кромку его ровной стены, а заодно и таежный дом, оставив только бледный конфорочный огонь окошка. Простужено дышало моросью низкое небо. Хирург потрогал покалеченной рукой мокрые волосы и понял, что снова на земле. Он опять поворотился к Шаману, но там была сплошная черная мгла. Где-то рядом все так же неусыпно мурлыкала и кипела в перекатах старая подруга – речка Лайковая.



