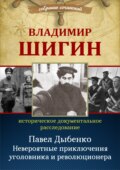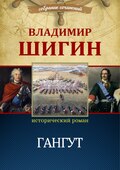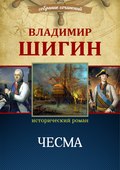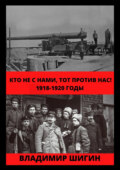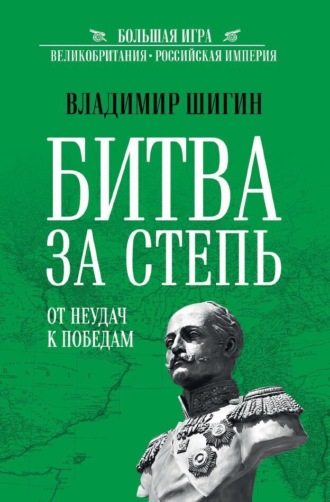
Владимир Шигин
Битва за Степь. От неудач к победам
Глава девятая
В начале XIX века север Средней Азии представлял собой огромный и еще весьма малоизученный мир. Между туркменской долиной Узбой, протянувшейся от Сарыкамышской котловины до Каспийского моря и Амударьи, с одной стороны, и границами с Афганистаном и Персией, с другой, простирались огромные земли, которые, по единодушному мнению русских путешественников, представляли собой «безотрадную пустыню». Обитали там племена кочевников, которые испокон веков занимались не столько разведением скота и сельским хозяйством, сколько работорговлей и грабежами. Похищали, как правило, персов, казахов, а потом попробовали переключиться и на русских колонистов – по мере приближения границ Российской империи к Каспию. Кочевые племена и банды буквально терроризировали российские окраины. Причем действовали они не сами по себе. За ними стояли Кокандское и Хивинское ханства, Бухарский эмират. Подстрекали к набегам, финансировали их, а потом скупали добычу. Большая часть казахов еще в XVIII веке приняли подданство России, но соседи не только их грабили, но и подбивали к бунтам и набегам. Кокандские ханы, кроме того, любой ценой (включая подкуп) стремились заполучить российских солдат, которых использовали для обучения собственного войска. Так продолжалось много лет, пока на границе не появились русские войска.
После этого в набеги кидались уже самые дерзкие и отвязные. Одним из таких разбойников был казахский султан Саржан Касымов, мечтавший ни много ни мало, а о возрождении Золотой Орды. Во главе, разумеется, со своей особой. По этой причине русских он ненавидел, и где мог, там пакостил. Ну, а так как одному против России ему было страшновато, Касымов заручился поддержкой кокандского хана.
Какое-то время Касымов ограничивался мелкими нападениями, но затем решил играть по-крупному.
И в мае 1834 года на север, чтобы помочь своему союзнику Касымову, двинулся уже ташкентский правитель Лашкар кушбеги с шеститысячным войском. Официально это выглядело как поддержка борьбы султана Касымова против русских порядков в степи. На самом деле цель была прозаической – захватить огромный кусок казахской территории, чтобы потом законно обирать казахские аулы. Приблизившись к нашим границам, Лашкар кушбеги возвел на казахской земле крепость Уллу-Тау.
Чтобы пресечь эту дерзость, тогдашний генерал-губернатор Западной Сибири Иван Вельяминов решил послать к Уллу-Тау отряд под командованием полковника Семена Броневского – роту пехоты, сборный казачий полк Сибирского войска, под командой есаула Ивана Карбышева и шесть пушек. При отряде были и казахи, выполнявшие служившие разведчиками и обозниками.
19 мая отряд Броневского вышел в степь. Как писал в своих воспоминаниях сам командир отряда: «Быстрый марш мой в глубь степи простирался от линии прямо на юг за 1000 верст, ибо я рассуждал, что чем далее встречу врагов, тем они менее сделают вреда нашим киргизцам (современным казахам. – В.Ш.), отхлынувшим при первом известии ближе к линии. Нападающим, вследствие такого соображения, досталось разорить только некоторые дальние волости, но разорять со всеми ужасами азиатского свирепства и так совершенно без причины – только чтобы грабить».
Вторую половину пути, на протяжении 500 верст, отряд не встретил ни одного аула. Степь словно вымерла. Дело в том, что казахи, опасаясь набега кокандцев, ушли к казачьим станицам. На подходе к горам Уллу-Тау Броневский послал в разведку казаков. Те пробрались к находившейся там кокандской крепости, осмотрели ее и вернулись.
– Так что крепость сложена из камня и дерна, имеет же пушки и гарнизон немалый! – браво доложился командовавший разведкой казак.
– Каково будет твое мнение на сей счет, Иван Семенович? – поинтересовался полковник Броневский у Карбышева.
– Думаю, Семен Богданович, что лучшее из всего, что можно придумать, – это атаковать! – ответил есаул.
Так и порешили.
* * *
Чтобы атаковать крепость неожиданно с рассветом, последние 25 верст казаки и пехота проделали в ночной тишине. Еще не выглянуло солнце, как казаки стремительно захватили пасшиеся недалеко от крепости кокандские табуны, не дав бежать ни одному табунщику. Когда кокандцы, проснувшись, протерли глаза, то обнаружили свою крепость уже окруженной русскими.
На всякий случай кокандцы решили попугать русских стрельбой из пушек и ружей – а вдруг русские испугаются и уйдут. Увы, кокандская хитрость не помогла.
Наблюдая, как зарываются в землю, не долетая, ядра, Броневский только хмыкал – чего зря добро переводят!
Чтобы не проливать зря кровь, полковник решил дать защитникам крепости одуматься и не стал сразу идти на штурм. Вместо этого послал к коменданту крепости парламентера. Вот как впоследствии описывал это сам Броневский: «Между тем, доставлен ко мне с бекета, пойманный казаками, возвращавшийся из аулов в крепость от своей невесты расфранченный и видный собою кокандец. Он казался довольно покоен, хотя был на веревке. Я шутками моими его более ободрил, предлагая ему ехать к своим в крепость и объявить коменданту, чтобы немедленно сдался, в противном случае будет худо. Кокандец с благодарностью на это согласился и поехал тотчас».
Увидев парламентера, кокандцы стрельбу прекратили.
Спустя некоторое время из укрепления вышла делегация, которая была принята Броневским в поставленной наскоро походной палатке. Делегаты заявили, что они с симпатией относятся к русским, но крепость они построили на казахской территории, которая издавна принадлежит Коканду, и уходить отсюда не намерены.
Когда Броневскому надоело слушать этот вздор, он, прервав очередного оратора, заявил:
– Если в течение двух часов не сдадитесь, то вам придется испытать силу русского оружия!
Понурые переговорщики удалились.
Когда срок ультиматума истек, а из крепости никакого ответа не поступило, Броневский приказал начать бомбардировку крепости из пушек.
На наш первый залп кокандцы ответили также огнем. Но когда внутри крепости разорвалось несколько начиненных порохом гранат, в крепости началась паника.
– Смотрите! Смотрите! – закричали вокруг солдаты. – Кажись, наша берет!
Броневский навел подзорную трубу туда, куда указывали солдаты, и увидел, как с крепостного флагштока медленно сползает вниз кроваво-красное кокандское знамя, а вместо него лихорадочно поднимают огромную белую простыню.
После этого отворились ворота крепости, и оттуда вышел комендант с ближайшим окружением, неся на атласной подушке ключ от крепости.
– Мы просим пощады! – разом прокричали вышедшие и также дружно рухнули на колени.
Взяв ключ, Броневский повертел его в руках. Ключ был железный и тяжелый.
Броневский искал среди вышедших старшин Лашкара кушбеги и Саржана Касымова, но их не было. Как сообщил комендант, они покинули крепость и поспешно ушли на юг, когда Броневский с казаками еще только начинали свой поход.
– Никаких неприятностей никто вам причинять не будет! – объявил полковник свою волю побежденным. – Пусть ваши воины выходят поодиночке из крепости и складывают оружие.
Все было беспрекословно исполнено. Спустя час перед полковником уже была груда сабель, копий и фитильных ружей, а поодаль теснилась испуганная толпа пленных.
После этого всем пленникам был роздан необходимый провиант, на всех дали и сотню лошадей, с тем чтобы гарнизон мог добраться до границ своего ханства. Но прежде чем отпустить пленников, Броневский заставил их срыть построенные укрепления.
Когда от крепости Уллу-Тау осталась лишь гора камней и земли, кокандцев отпустили. С отпущенными пленниками Броневский передал Лашкару кушбеги и Саржану Касымову письма, в которых предупредил, чтобы они впредь не пытались нападать на российских казахов, «в противном случае гнев Великого Монарха возтяготеет на них».
Подводя итог походу, Броневский написал: «Благоуспешным действием вся степь наша очищена от врагов и подданные волости остались неприкосновенны, получив на самом деле удостоверение, до какой степени наше Правительство, приняв их (казахов) однажды под свое покровительство, готово на их защиту».
Возвращаясь, Броневский отделился от отряда с адъютантами и шестью казаками и прямой дорогой двинулся в Кокчетавский окружной приказ, а оттуда в Петропавловскую крепость. Передвижение вдоль берега Ишима маленькой группы всадников не осталось без внимания кочевавшх вокруг казахов. Местный султан Габбай-Дулла-Вали-хан лично выехал навстречу, чтобы поблагодарить русских избавителей. Поставлена огромная юрта из белых войлоков, устланная коврами. Обменявшись подарками, отобедав и отдохнув, Броневский со спутниками продолжили путь домой с чувством исполненного долга. После этого в степи на некоторое время наступило затишье.
Но прошло время, испуг перед русскими притупился, и кокандцы вместе с казахскими разбойниками снова стали тревожить мирные кочевья.
* * *
Время в Азии течет так медленно, что кажется, будто оно совсем остановилось. Из века в век все остается неизменным: выжженные солнцем степи, безмолвные пустыни, да бредущие по ним караваны.
Медленно и мерно шагают верблюды, позванивают колокольчики на их шеях, покачиваются в такт ходьбе дремлющие погонщики. Так было тысячу лет назад. Так происходит и сейчас.
Вот движется по бескрайним просторам на север очередной караван. Не близок его путь. От Бухары до русского Оренбурга две с половиной тысячи верст, на что уйдет полгода. Еще столько же обратно. Сходил погонщик три десятка раз с караваном – вот и жизнь прошла.
Если бы можно было окинуть с высоты взглядом всю огромную Азию, то взору предстали бы тысячи и тысячи караванных троп. Словно огромная кровеносная система, пронизывают они огромные просторы, питая их жизнью. Караванные пути – основа основ Центральной Азии. Им подвластно все: ханства и царства, народы и цивилизации. Порой кажется, что им подвластно само время.
За край этой огромной караванной ойкумены зацепился город Оренбург – крайний российский форпост в Азии. Если Астрахань являлась южными воротами России в Азию, то Оренбург был воротами северными. Основанный в середине XVIII века Оренбург защищал российские границы от кочевников и был местом торговли. Именно сюда шли караваны из среднеазиатских ханств и Китая. Именно оттуда Россия распространяла свое влияние в казахские степи и далее.
Император Александр I учредил в Министерстве иностранных дел особый Азиатский департамент, «имеющий главным предметом своим дела азиатских народов, России подвластных, а равно и тех, с коими сие государство находится в торговых или других каких-либо сношениях…».
В ведении Азиатского департамента, кроме всего прочего, находились дела кочевых народов, обитающих в Кавказской, Астраханской и частью Саратовской губерниях, а также дела всех орд киргиз-кайсаков (нынешних казахов). При этом казахи, вступившие в российское подданство, состояли в ведомстве оренбургского военного губернатора, а частично – Оренбургской пограничной комиссии.
Пограничная комиссия являлась фактическим филиалом МИДа и ведала дипломатическими отношениями с казахскими и среднеазиатскими ханствами, следила за происходящими в них событиями, собирала и изучала материалы по истории и географии, экономике и этнографии этих стран. Вступление казахов в российское подданство требовало постоянного участия наших дипломатов. В отношении с ханствами Средней Азии Россия в первой половине XIX века исходила, прежде всего, из интересов развития торговли, обеспечения безопасности торговых караванов и возвращения российских пленников, находившихся там в рабстве.
Руководил пограничной комиссией дипломат и разведчик, один из выдающихся деятелей Большой Игры барон Григорий Федорович Генс. Выпускник Инженерного корпуса, он всю свою службу прослужил в оренбургских степях, проведя не один год в рискованных степных экспедициях и поездках, зарекомендовав себя превосходным переговорщиком и топографом, строителем укреплений и этнографом. Заслуги Генса не остались без внимания. За свою честную службу его регулярно повышали в чинах, а грудь начальника пограничной комиссии украшали ордена Святой Анны с алмазами и Георгий 4-й степени.
Какие задачи ставила перед собой Россия в Азии в первой половине XIX века? Прежде всего, Азия являлась огромным рынком для российских товаров, который следовало освоить раньше англичан. Для этого необходимо было подружиться со среднеазиатскими ханами, установив дипломатические отношения, и обезопасить караванные пути. Отдельной задачей являлось вызволение из тамошнего рабства русских людей.
К началу XIX века стало очевидно, что осуществлять проникновение в Среднюю Азию через Астрахань, Персию и восточное побережье Каспийского моря крайне затратно и неперспективно. Именно тогда Петербург и обратил свой взгляд на Оренбург – заштатный губернский городок на краю империи. За Оренбургом начинались бескрайние киргизские степи, за которыми среди песков располагались все еще недосягаемые Бухара и Хива. Именно этот город и стал на долгие годы стартовой позицией нашего проникновения в Азию в XIX века.
Что представлял собой Оренбург того времени? Основу города составляла крепость, построенная посреди степи, при слиянии рек Урал и Орь. Оренбург являлся, прежде всего, военным городом и местонахождением военного губернатора, который одновременно является и командиром отдельного Оренбургского корпуса. Здесь находился штаб корпуса и проживали наиболее высокие чины с многочисленными адъютантами.
Надо сказать, что при этом Оренбург был городом весьма небедным. Приграничная торговля приносила хороший барыш не только купцам, но и простым горожанам. По свидетельству современников, драгоценные металлы завозили в таких размерах, что наша сторона не успевала противопоставить этому потоку нужное количество ответных товаров. Только в одном каменном Гостином дворе губернского центра действовало более 300 лавок, а годовой таможенный сбор доходил до 85 тысяч тогдашних рублей. В центре Оренбурга находился и большой торговый двор с многочисленными лавками как для здешних купцов и лавочников, так и для купцов бухарских и хивинских, которые ежегодно приводили сюда большие караваны.
В отличие от Астрахани, которая возникла хаотично, Оренбург с самого начала строился планово и четко, по европейским лекалам. Фактически он был вторым городом после Петербурга, где при закладке была соблюдена правильность геометрических форм. Крепость и город строились одновременно. Оренбург начинался на набережной, а заканчивался у Самарских ворот. С главной улицей не стали мудрствовать, а назвали просто – Большая. В центре города, как и положено для столицы губернии, дом губернатора, главный собор, дворянское собрание, казармы и купеческие дома. За крепостным валом вне защищенной части Оренбурга раскинулся форштадт – Голубиная слободка, населенная казаками и калмыками, башкирами и киргизами, бухарцами и ссыльными, отставными солдатами, пришлым торговым людом, а также попавшими в плен в 1812 году французами, прижившимися на новом месте. Зимой Оренбург заносило снегами, а мороз бывал таков, что на лету замерзали птицы. Что касается снежных бурь, то злее их не было больше в России. Летом, наоборот, невыносимая жара, а по улицам носились смерчами тучи пыли.
Дома в Оренбурге по большей части деревянные и одноэтажные. Те, кто побогаче, выделялись большими дворами и многочисленными хозяйственными постройками. Самый солидный дом в городе – резиденция генерал-губернатора, из окон которого открывался красивый вид на южную степь. Многонациональный состав города обусловил присутствие православных, протестантской и католической церквей, а также нескольких мечетей. В полутора верстах к югу от города, на левом берегу Урала, находился большой меновой двор, внутри которого размещались сотни маленьких каменных лавок. В просторном дворе церковь, а также дома для таможенников и надзирателей. Поскольку здесь ежегодно меняли у киргизов тысячи овец, на меновом дворе сооружено из дерева несколько вместительных загонов. В западной части города, в степи, находились большой караван-сарай, госпиталь, а также большой тенистый сад, принадлежащий военному губернатору. К саду из города вела аллея, большинство деревьев которой, увы, засохли.
Улицы города, за исключением Большой, не вымощены, но так как почва состояла из твердого песка, в дождливую погоду грязи было мало. На улицах всегда полно экипажей и повозок, телег и арб, ржали лошади, истошно кричали ослы и верблюды.
По традиции при генерал-губернаторах проживала солидная свита гвардейских офицеров и чиновников – составлявших местное высшее общество. В разных местах города, но особенно вблизи от мечетей проживали татары. Практически все были торговцами, а некоторые ремесленниками. Образованные татары устраивались на службу в государственные учреждения в качестве переводчиков. Киргизы служили в Оренбурге в большом количестве как рассыльные и наемные рабочие. Для этого они получали от пограничной службы разрешительные справки, которые надо было ежегодно обновлять и платить за это один рубль. Проживающие в Оренбурге бухарцы в большинстве являлись торговыми служащими богатых бухарских домов, хозяева которых навсегда или на несколько лет осели в Оренбурге. Башкиры в значительном количестве зимой и осенью жили в Оренбурге, где они вместе с казаками обеспечивали патрули и другие службы. Размещались башкиры при этом в собственном стане, расположенном недалеко от города. По свидетельству современников, в Оренбурге проживали также немцы и поляки.
Бывший в те годы в Оренбурге граф фон Хельмерсен писал: «На каждом шагу самая пестрая смесь, поражающие взгляд контрасты в чертах лица, одежде, языке и обычаях. Рядом с бледными европейцами во фраках и круглых фетровых шляпах передвигаются загорелые киргизы и бухарцы, живописно одетые и со своеобразными манерами. Здесь – беседует группа элегантно одетых дам и господ на беглом русском и французском, там – раздается жесткое и грубое звучание киргизского языка. Со стороны церквей звучит пронизывающий звон колоколов, от минарета мечети – мусульманский призыв муллы. Русские переняли в своей одежде кое-что от киргизов и бухарцев, так, например, многие казаки и другие люди одеваются в грубые хлопчатобумажные халаты бухарцев и хивинцев и в широкие кожаные штаны киргизов. Зимой киргизские меховые шапки пользовались большим спросом у всех мужчин. Шубы из лошадиной шкуры волосяным покровом наружу, так называемые ергаки, являлись одеждой всех сословий без различия, а полные костюмы из таких же шкур по европейскому покрою представляли собой излюбленную охотничью одежду».
* * *
Оренбургский купец средней руки имел караван до полусотни верблюдов, более мелкие объединялись в артели. Хороший верблюд брал на спину тюк в 16 пудов. Поэтому средний караван вез до восьмисот пудов товара. Лучшими верблюдами в степи всегда считались верблюды Каршинской степи, что раскинулась у подножия Зеравшанского хребта. Каршинские верблюды были самые выносливые. Если обычный верблюд проходил в день не более двенадцати верст, то каршинец может одолеть более полутора десятков. И хотя на первый взгляд разница не слишком велика, за месяцы пути преимущество каршинских верблюдов весьма заметно. Заполучить несколько десятков каршинцев было мечтой любого караванщика, но по карману это было далеко не всем, т. к. каршинцы стоили гораздо дороже остальных среднеазиатских бактианов.
Путь любого каравана пролегал от одного караван-сарая до другого, как у торговых судов от порта до порта. Только в караван-сарае караванщики чувствовали себя в безопасности. Там можно было отдохнуть, узнать новости, развьючить и напоить верблюдов. Торговля товарами производится зачастую не на базарах, а прямо в караван-сараях. В больших караван-сараях выбор товаров был всегда настолько велик, что каждый мог найти себе желаемое по имеющимся средствам. Сабли и кольчуги, наконечники стрел из кости, стали и железа… Тут же древки для стрел из карагача, ясеня или бамбука, дамасские сабли, щиты, ювелирные изделия, алмазы и рубины, изумруды и гранаты, бирюза и оникс… Всегда большим спросом пользовались металлы – золотые и серебряные слитки, медные, свинцовые и стальные листы. Неизменно в большом выборе имелись бумага и дрова, войлок и строительный лес, зерно и фрукты, овощи и сладости и конечно же хлеб. Рядом с большими караван-сараями располагались небольшие базары, где торговали кормом для верблюдов и лошадей. Там же можно было нанять новых погонщиков, поменять деньги у местных менял.
Сосредоточение больших богатств в одном месте всегда привлекало лихих людей. Поэтому караван-сараи имели крепкие стены и вооруженную охрану, а порой даже медные пушки. Но нападали разбойники не часто. Дело в том, что каждый караван-сарай имел свою «крышу» со стороны местных властей, а порой и от самих разбойников. Поэтому грабить купцов предпочитали подальше от караван-сараев в местах безлюдных и диких. Да и нападали на караваны в основном отмороженные казахские и туркменские разбойники – басмачи и карокчи. Более серьезные люди предпочитали договариваться.
Что и говорить, Оренбург того времени был городом, совершенно непохожим на остальные губернские города России, а начинавшаяся прямо за его околицей Великая степь манила многих искателей приключений. Здесь на самом краю империи можно было легко сложить голову и столь же легко разбогатеть или сделать блестящую карьеру. Если в Америке того времени существовал живший по своим законам Дикий Запад, то у нас был свой, не менее дерзновенный Дикий Восток… Именно здесь на «Диком Востоке» России тогда жили и вершили историю самые отчаянные герои Большой Игры…
* * *
В 1833 году в Оренбург прибыл назначенный генерал-губернатором и командующим отдельным Оренбургским корпусом 39-летний генерал-майор Василий Алексеевич Перовский. Такого молодого губернатора Оренбург еще не видывал. Современники пишут, что Перовский был очень красив собой, рост имел выше среднего, «взгляд имел строгий и суровый», имел изящные великосветские манеры и обладал необыкновенною физической силой, так что свободно разгибал подковы. При этом новый губернатор был чрезвычайно обаятельным и приятным в общении человеком. Подражая императору Николаю, Перовский любил отобедать гречневой кашей в горшочке с солеными огурцами. То же блюдо всегда предлагал и гостям. Чиновники меж собой так и говорили:
– Кто у нас сегодня на соленые огурцы к губернатору!
В то же время Перовский был прекрасно образован, дружил с Жуковским, приятельствовал с Пушкиным, Карамзиным. Известно, что впоследствии Пушкин, во время проезда своего в Оренбург, остановился именно у Перовского. Ко всему прочему, Перовский являлся представителем высшей аристократии, т. к. являлся незаконным сыном графа Алексея Кирилловича Разумовского, племянника морганатического мужа императрицы Елизаветы Петровны. При этом Перовский имел в Петербурге множество врагов (главным образом из-за своей безукоризненной честности), которые ставили ему палки в колеса всякий раз, как только представлялся случай. Своих врагов Перовский не боялся и презирал, но от их интриг страдал и мучился.
До своего приезда в Оренбург генерал Перовский прошел хорошую боевую школу. В восемнадцать лет участвовал в Бородинском бою, где ему оторвало пулей палец на руке (поэтому он носил потом вместо пальца золотой наперсток), при выступлении французов из Москвы попал в плен. В феврале 1814 года ему удалось бежать и присоединиться к русской армии. После этого участвовал во многих боях. Вернувшись в Россию, был зачислен в Генеральный штаб, сопровождал великого князя Николая Павловича в его путешествии по России. В турецкую войну 1828 года отличился под Анапой, где был тяжело ранен.
Единственно, что омрачало начало нового правления в Оренбурге – небольшой чин Перовского. Дело в том, что начальником расположенной тогда в Оренбурге 26-й пехотной дивизии являлся генерал-лейтенант Жемчужников, а начальником бригады – генерал-майор Стерлих. Генералы были весьма заслуженными военачальниками, причем оба намного старше Перовского в чинах. Поэтому оба ждали, что Перовский как вновь приезжий первым нанесет им визит. Но Перовский этого не сделал. Тогда генерал Жемчужников написал военному министру, испрашивая указаний, как ему поступить в данном случае… В ответ за нарушение субординации ему предложили подать в отставку, что тот и сделал. Так же поступил и Стерлих.
А чтобы исключить впредь подобные недоразумения, вскоре из Петербурга Перовскому прислали указ с приложенными генерал-лейтенантскими эполетами.
Теперь Перовский мог править вверенным ему огромным краем, не оглядываясь ни на кого, и генерал-лейтенант засучил рукава…
Следует отметить, что, имея обширные полномочия и права командира отдельного корпуса, Перовский крайне неохотно предавал суду служащих, как военных, так и гражданских чиновников, и принципиально отказывался утверждать смертные приговоры.
Перво-наперво губернатор стал собирать вокруг себя людей толковых и надежных, невзирая на их чины. Так, чиновником для особых поручений Перовский взял врача Владимира Даля (будущего великого словесника). Бывший ссыльный поляк Томаш (Фома) Зан, сотрудники пограничной комиссии братья Николай и Яков Ханыковы были привлечены к изучению Оренбургского края и казахского приграничья. Фактически Перовский создал собственное разведывательное бюро. Впоследствии все трое, кто больше, кто меньше, стали участниками Большой Игры.
В канцелярии Перовского трудился в качестве переводчика IX класса от Азиатского департамента Министерства иностранных дел выпускник Царскосельского лицея Николай Ханыков. Пока он большую часть времени усиленно учил восточные языки и составлял служебные бумаги. Однако уже тогда сослуживцы его называли не иначе, как гениальным юношей. Пройдут годы, и Ханыков станет одним из самых блестящих игроков Большой Игры. В свое время мы о нем еще не раз будем говорить. Пока же просто запомним его имя.