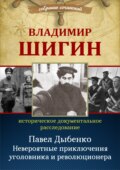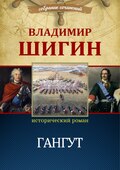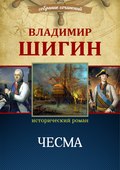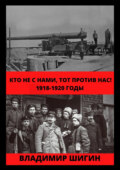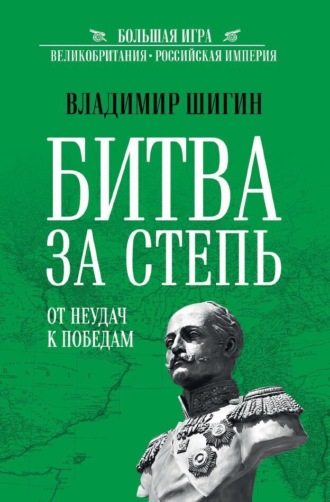
Владимир Шигин
Битва за Степь. От неудач к победам
– Насколько я знаю, тамошние владетели очень ревностно охраняют свою монополию? – засомневался Гурьев, разглядывая в лорнет своего собеседника.
– Это так, но у меня есть надежные люди – прежде всего, визирь кашмирского правителя, который обещал содействие. Кроме этого, я хочу привезти с собой в Петербург несколько тибетских мастеров по выделке и ткани, и шерсти, закупив необходимые станки, а также самому ознакомиться с техникой ткачества шалей. Если все пойдет как надо, то в обозримом будущем предполагаю устроить фабрику, на которой, кроме кашмирских шалей, могли бы производиться изделия из козьего пуха.
– Мне определенно нравится ваш план! – потер холеные руки Гурьев. – Если все получится, то это обещает России неисчислимые выгоды! Что же до злобы со стороны англичан, когда они прознают, что мы опередили их в Кашмире и Тибете, то тут пусть расхлебывает мой коллега граф Нессельроде! От себя обещаю вам за каждый пуд привезенного пуха по сотне голландских червонцев, а за каждого нанятого ткача по тысяче!
После этого Рафаилов, вместе со своими помощниками Зариповым и Муса-ханом выехал из Петербурга в Семипалатинск.
30 апреля 1820 года Рафаилов выехал из Семипалатинска с новым караваном. Его вел опытный караван-баши ташкентец Мулла-Мансур Мамасеитов, а до ближайшего пограничного поста Бадельдован караван сопровождал отряд из сотни казаков под командой хорунжего Мокина. На пути караван подвергся нападению кочевников-киргизов, но конвойные казаки сумели разогнать нападавших. Затем караван благополучно прибыл в город Турфан, что в Восточном Туркестане, а оттуда через Аксу в Яркенд. Там Рафаилов в течение двух месяцев успешно торговал, после чего с оставшимся товаром двинулся на Лех. Первые недели путешествие протекало нормально, но на подъезде к Леху Рафаилов неожиданно заболел. Неизвестная болезнь длилась всего три дня, и от «опухоли всего тела» он умер.
* * *
О причине смерти Рафаилова на высоких перевалах Каракорума, поднимавших путников порой почти на шесть километров над уровнем моря, остается только догадываться. Возможно, просто не выдержало сердце, возможно, это была т. н. «горная болезнь». Однако, возможно, что разведчик умер и не своей смертью… Известно только то, что Рафаилова похоронили прямо у дороги.
После смерти Рафаилова караван возглавил его помощник Мухамед Зугур Зарипов, который распродал оставшиеся товары и вернулся в Семипалатинск. Узнав о смерти Рафаилова, генерал-губернатор Западной Сибири Капцевич немедленно известил об этом министра иностранных дел Нессельроде. Тот был искренне опечален, сказав:
– Найти достойную замену умершему просто невозможно. Теперь о Тибете и Кашмире на какое-то время придется просто забыть!
Известно, что российское правительство взяло на себя заботу о малолетнем сыне Рафаилова. Что касается секретных писем, бывших у разведчика, то они… пропали. Спустя некоторое время одно письмо к Ранджиту Сингху неожиданно оказалось в руках… у Муркрофта. По признанию самого Муркрофта, он давно знал о разведывательной деятельности Рафаилова, собирал о нем информацию, следил за передвижением и в нужный момент выкрал (или перекупил) крайне важное для англичан письмо. Поэтому подозрение, что смерть Рафаилова не была случайной и естественной, а российский разведчик был отравлен агентами Муркрофта, имеет веские основания.
Сам Муркрофт обвинения в свой адрес возмущенно отрицал.
– Да, я знал о вредной деятельности русского шпиона, но убивать его не собирался, – говорил он с деланной печалью. – Наоборот, я намеревался встретиться с Рафаиловым и кое-что узнать у него лично и поэтому очень расстроился, узнав о его внезапной смерти.
Среди своих Уильям Муркрофт был, впрочем, куда более откровенен:
– Мы можем только радоваться неожиданной кончине русского шпиона, так как проживи он еще несколько лет, мог бы реализовать такие сценарии, от которых содрогнулись бы многие кабинеты Европы и в первую очередь английский!
– Как хорошо, что Господь на стороне англичан! – поддакнул ему один из соратников.
– Как хорошо, что Господь на стороне предусмотрительных! – загадочно улыбнулся в ответ Муркрофт…
И сегодня в искренность официальных заверений чиновника Ост-Индской компании о печали по поводу смерти Рафаилова верится слабо. Тем более что для Муркрофта со смертью Рафаилова все сложилось на редкость удачно. Во-первых, найти достойную замену умершему в Петербурге так и не смогли, а, во-вторых, теперь в руках англичанина был реальный документ о политическом интересе русских к Тибету и Кашмиру, т. е. о том, чего больше всего боялись в Калькутте и Лондоне. Впрочем, официально Петербург и Лондон относительно письма российского министра к Ранджиту Сингху промолчали. Таковы были негласные правила набиравшей все большие обороты Большой Игры.
Сегодня имя Мехти Рафаилова – одного из пионеров Большой Игры – практически забыто. Кому какое дело до судьбы некого купца из кабульских евреев! А ведь именно Рафаилов был нашим первым разведчиком на Тибете и в Кашмире, став и одной из первых жертв в начинавшейся битве.
* * *
Впрочем, смерть Рафаилова не избавила Муркрофта от жуткого страха перед коварными русскими. Не имея никаких полномочий, он поспешил от имени неких «английских купцов» начать переговоры о заключении торгового договора с правителем Ладакха Цэпал Намгьялой. На вопросы членов миссии, не слишком ли он рискует, Муркрофт отвечал:
– Неужели вы не понимаете, что я одним мастерским ударом открываю для Англии все рынки Центральной Азии!
Однако в Калькутте его энтузиазма не одобрили.
– Я не верю бредням Муркрофта, которому всюду мерещатся заговоры русских. На сегодняшний день русские еще слишком далеко от Центральной Азии, не говоря уж об Индии! Поэтому следует приструнить зарвавшегося коневода, чтобы он не вспугнул Ранджита Сингха, который пока для нас слишком ценен, – заявил генерал-губернатор Уильям Амхерст.
– После захвата Кашмира Ранджит Сингх ревниво считает Ладакх своей территорией, и самодеятельные переговоры Муркрофта с властителем Ладакха для нас чреваты проблемами, а может, и войной! – продолжили мысль генерал-губернатора члены совета компании.
– Боже! – схватился за голову Амхерст. – Как трудно иметь дело с инициативными идиотами, особенно если эти идиоты конюхи! Отзовите Муркрофта в Калькутту немедленно!
Но от Калькутты до Ладакха более тысячи миль. Пока послание от генерал-губернатора о запрещении каких бы то ни было сношений с правителем Ладакха достигло цели, деятельный Муркрофт уже объявил Цэпалу Намгьялу, что Англия подтверждает его независимость, и обещал… британское покровительство.
Спасая ситуацию, генерал-губернатор был вынужден срочно выслать своего представителя в Лахор, чтобы принести уничижительные извинения Ранджиту Сингху за глупый проступок Муркрофта и отозвать подписанный им договор из Ладакха.
Но было уже поздно. Узнав о происках англичан в Ладакхе, Ранджит Сингх пришел в неописуемую ярость.
А вскоре началась череда таинственных покушений на жизнь Муркрофта и двух его спутников. Вначале неизвестный стрелял вечером через окно в работавшего за столом его спутника Джорджа Требека, но немного промахнулся. Видимо, убийца по ошибке принял его за Муркрофта. Потом последовали еще два покушения на Муркрофта, причем одного из убийц он застрелил. Тогда вместо пуль в дело пошел яд. Вскоре Муркрофт и его спутники почувствовали странные боли, которые приписали лихорадке, и им стало совсем плохо. Впрочем, у Муркрофта нашлись друзья, которые принесли ему противоядие, и смерть отступила. Но от гнева начальства спасти Муркрофта уже не мог никто.
До поры до времени руководство компании терпимо относилось к затеянным коневодом бесконечным поискам новых лошадей. Однако после трех безрезультатных дорогостоящих экспедиций, а также развивающейся у Муркрофта мании русофобии, его вмешательства в отношения Ост-Индской компании с могущественным суверенным правителем терпеть выходки авантюриста уже никто не желал. В Ладакх было послано два письма. Первое с уведомлением об увольнении Муркрофта со службы компании и второе с приказом немедленно вернуться в Калькутту. Получив письма, Муркрофт оскорбился.
– Я, как никто другой, пекусь о безопасности моей страны! – кричал он в истерике. – Я пекусь о расширении нашей торговли на Туркестан и Китай, а вместо благодарности получаю черную метку! Но я не отступлю от своих планов!
Упрямый Муркрофт и не подумал возвращаться в Калькутту, где его не ждало ничего, кроме позора. И он решил действовать на свой страх и риск!
Весной 1824 года Муркрофт и его спутники, пройдя через Кашмир и Пенджаб (постаравшись обойти как можно дальше к северу столицу Ранджита Сингха Лахор), переправились через Инд и добрались до Хайберского перевала. За перевалом лежал Афганистан, а дальше пустыни и таинственная Бухара…
Глава вторая
Если бы можно было окинуть взглядом в начале XIX века с высоты всю огромную Азию, то взору предстали бы тысячи и тысячи караванных троп. Словно огромная кровеносная система, пронизывали они огромные просторы, питая их жизнью. Караванные пути являлись основой жизни Центральной Азии. Им было подвластно все: ханства и царства, народы и цивилизации. Порой кажется, что им было подвластно само время.
В начале XIX века главным объектом внимания участников Большой Игры стала Бухара. Эмират привлекал к себе внимание России и Англии, прежде всего, из-за удачного геостратегического расположения. Именно Бухара была главным посредником между Индией, Афганистаном и Китаем, и Российской империей. Владеющий Бухарой автоматически становился хозяином всей Центральной Азии.
В то время Бухарский эмират был самым большим и могущественным ханством в Средней Азии. В его состав, кроме долины Зеравшана, Кашка-Дарьи, входил и Мервский оазис. Также Бухаре же принадлежала значительная часть современного Афганского Туркестана, а также ряд районов нынешнего Таджикистана, а также города Ходжент, Ура-Тюбе и некоторые мелкие горные владения в верховьях Зеравшанa.
Помимо этого, Бухара являлась признанным центром всей азиатской торговли, ибо караванные пути пролегали от нее на юг и север, на запад и восток. Хива и Коканд, Самарканд и Карши, Шахрисабз, Термез и Хорезм начисто проигрывали торговую конкуренцию Бухаре.
Надо сказать, что правители Бухары традиционно вели очень разумную торговую политику. Например, это касалось торговых пошлин, которые собирали все и везде. Поэтому купцы и странствующие торговцы, приезжая в любой среднеазиатский город, вынуждены были задирать цены на свои товары, и это никого не удивляло. А в Бухаре, в отличие от всех других ханств и княжеств, пошлина традиционно была самая маленькая. Мудрые бухарские эмиры давно смекнули, что, уменьшая пошлину и увеличивая число торговцев, они всегда останутся с барышом. Потому и купцов в Бухаре всегда было тьма-тьмущая.
Самая оживленная торговля в Бухаре начиналась в январе и продолжалась до начала мая. В это время в городе работало до десятка больших караван-сараев и столько же базаров. Помимо этого, в разгар торгового сезона открывалась и большая ярмарка, на которую съезжаются купцы со всего эмирата, а также из Персии и Афганистана, из Индии и Бадахшана, из России и Тибета и даже из далекой Аравии. В это время казалось, что в Бухаре торгуется, продает и покупает весь мир! По этой причине именно бухарские купцы всегда лучше всех были осведомлены в торговой конъюнктуре, чем с успехом и пользовались. Часть индийских товаров предприимчивые бухарцы сразу же везли в Кашгар, где меняли на слитки серебра, которое, в свою очередь, тоже продавали. У прикаспийских туркмен бухарцы покупали войлоки, ковры и паласы, торгуя взамен тканями. Степные казахи продавали бухарцам овечью и верблюжью шерсть, войлок, кожи и арканы. Кроме этого, казахи покупали в Бухаре местные товары для последующей их перепродажи в Оренбурге. В торговле с казахами посредническую роль играли каракалпаки, поставлявшие в Бухару скот и пушнину. Эта торговля приносила хорошую прибыль и первым, и вторым, и третьим.
Среди прочих товаров в начале XIX века взлетел в цене хлопок, который шел не только на текстиль, но и на изготовление пороха, а значит, был товаром военным и стратегически важным! Главным рынком хлопка в Азии также была Бухара.
Через Герат в Персию бухарцы вывозили овечью шерсть, сухофрукты, кошениль (для получения кармина) и другие местные товары, взамен которых приобретали кожи и мешхедский опиум. Из Кабула везли самый лучший – серый, с синеватым отливом, каракуль. Из Индии – кашмирские ткани, пряности, индиго, сахарный песок, лекарственные зелья и самоцветы и конечно же английские товары. Кроме этого, эмират имел большое количество природных ресурсов, в частности золота, бирюзы, ляпис-лазури, а по ряду источников и других драгоценных камней. Из Бухары в Россию традиционно везли, прежде всего, шелковую и полушелковую алачу, плетеную саранжу, крашеную и белую бязь. Обратно – меха, красители и воск, ну и конечно же русское сукно.
Английская экспансия в Индии серьезно ударила по Бухаре, как и по другим торговым азиатским центрам. Если раньше индийские товары в Европу шли только через Бухару, то теперь англичане доставляли их в Европу морем. Что касается самих английских товаров, то они также вносили диссонанс в давно сложившуюся систему торговли.
В бухарских караван-сараях и на базарах по этой причине кипели нешуточные страсти. Индийские купцы предлагали, помимо всего прочего, английское сукно. Товар был действительно хорош, но и цена соответствующая. Поэтому, чтобы убрать конкурента, торговавшие нашим сукном оренбургские и астраханские купцы немедленно снижали цену. И пусть наше сукно было несколько хуже качеством, чем английское, но теперь покупатели предпочитали именно его. В далекой Калькутте только щелкали зубами от злости. Но сбивать цену на свое сукно не могли, так как тогда его продажа просто не покрывала затраты на производство и доставку. Убытки же были столь ощутимы, что чиновники Британской Ост-Индской компании готовы были двинуть в Бухару вместе с купцами свои колониальные полки.
Что касается торговли Бухары с Россией, то она всегда была нелегка и опасна из-за постоянных степных междоусобиц, во время каждой из которых враждующие стороны с особым удовольствием грабили попавшихся под руку купцов как бухарских, так и русских.
* * *
Вторая половина 30-х годов XIX века характеризовалась всплеском активности в Средней Азии как со стороны России, так и Англии. При этом обе стороны подозревали конкурента в тайных операциях и, в свою очередь, организовывали свои собственные.
Надо сказать, что каждая из сторон к этому времени выработала в тактике Большой Игры собственный почерк. Так, российская сторона неизменно легендировала свои экспедиции как научно-географические, что избавляло Петербург от упреков Европы в экспансии. К тому же географические исследования не слишком различались тогда со сбором военно-политической разведывательной информации.
Россия с самого начала подошла к освоению закаспийских степей со всей серьезностью и государственным размахом. Все организуемые экспедиции в виде посольств и поездки отдельных разведчиков, как правило, тщательно готовились. В этом деле не было места самодеятельности.
Англичане всем этим не заморачивались. Своих агентов они просто отправляли на свободную охоту, переодевая то купцами, то дервишами. Ну, а там уже как кому повезет. При этом в случае неудачи Лондон и Калькутта зачастую от своих агентов просто отрекались.
Любопытно, что в российской военной и дипломатической переписке английских агентов именовали английскими путешественниками. Рисковали английские разведчики отчаянно и гибли неоднократно. Если же «путешественники» добивались успеха, то следом за ним уже шли караваны с английскими товарами, а за караванами – полки Ост-Индской компании.
Сравнивая два подхода к тактике Большой Игры, следует признать, что Петербург действовал в этом плане гораздо основательнее, чем Лондон, хотя и более затратно. При этом наши разведчики обычно находились под надежной охраной казаков и солдат, а если появлялись в одиночку в столицах ханств, то всегда в ранге официальных послов или переговорщиков, что обеспечивало им определенную неприкосновенность.
* * *
К 30-м годам XIX века главным источником сведений о Бухаре оставались все же полуграмотные купцы или их приказчики, а также столь же малообразованные странники, поэтому не случайно в их рассказах экономика, политическая и культурная жизнь восточных стран представлялись порой в самом фантастическом свете. В 1816 году в Петербурге вышла первая карта «земель киргиз-кайсаков, каракалпаков, трухменцов и бухарцев» с градусной сеткой, то есть с привязками географических объектов к координатам. На карте были показаны горы и реки. Данные для нее собирались по крохам торговцами, купцами и дипломатическими миссиями. Все это было, насколько возможно, проанализировано и нанесено на бумагу. Разумеется, карта была весьма неточной. Однако начало картографии Средней Азии было положено, и в этом мы обошли наших соперников по Большой Игре.
Поэтому в 1820 году одновременно с отрядом Рафаилова была организована куда более серьезная разведывательная экспедиция, причем именно туда, куда так пытался попасть английский разведчик Муркрофт, – в Бухару.
Летом 1820 года в Оренбурге царило большое оживление, несвойственное этому заштатному городу. Полным ходом шла подготовка первого официального российского посольства в Бухару.
Как мы уже говорили, на тот момент Бухарский эмират являлся самым могущественным из среднеазиатских ханств, и установление с ним дипломатических контактов было важной задачей на пути продвижения России на юго-восток. Помимо этого, посольство являлось ответом императора Александра I на неоднократные обращения бухарского хана с пожеланием установить дружественные отношения между государствами.
Возглавить дипломатическую миссию поручили 38-летнему чиновнику внешнеполитического ведомства, действительному статскому советнику Александру Негри. Статский советник (из константинопольских греков) был на хорошем счету, знал турецкий и персидский языки, считался знатоком Востока.
В качестве основной задачи Негри поручалось заверить хана Бухары Хайдара в «непременном желании» России «не только утвердить, но и распространить торговые связи» с его ханством, изыскав для этого все возможные средства.
Статс-секретарь министерства Карл Нессельроде, близоруко щуря глаза, инструктировал главу миссии:
– Ваша главная задача не только утвердить, но и распространить торговые связи между Россией и Бухарией. Для этого решите вопрос о тарифах, по которым взимаются пошлины на бухарские товары, и попытайтесь изыскать меры к доставлению прямой пользы российскому купечеству. Одновременно изучите состояние тамошней промышленности и торговли и пути улучшения нашей торговли. Не скрою, что задача не только сложная, но и опасная. В случае вашего успеха я гарантирую вам прекрасную карьеру, хотя знаю, что любой карьере вы предпочитаете изучение древностей.
– Приложу все усилия! – скромно ответствовал Негри.
Еще одной немаловажной задачей миссии Негри являлось освобождение многочисленных русских пленников, обращенных в рабство как в самой Бухаре, так и в союзной им Хиве.
Секретарем миссии был назначен коллежский асессор Павел Яковлев, уже известный к тому времени литератор и приятель Пушкина.
Состав дипломатической миссии и общее руководство Петербург оставил за собой. Организация же была поручена оренбургскому генерал-губернатору Петру Эссену.
Прибыв в Оренбург, Негри первым делом явился к губернатору. Генерал от инфантерии Эссен был человеком деятельным и толковым. Опытный военачальник, прошедший все Наполеоновские войны, он три года назад был направлен на дальнюю границу империи с заданием ее укрепления и подготовки продвижения в южные степи. Никаких недомолвок между Негри и Эссеном не возникло.
– Можете, Александр Федорович, рассчитывать на меня полностью! – сразу же заявил генерал. – Я приму все средства к обеспечению прохода вашей миссии через казахские степи.
Вскоре Негри уже имел двух толковых толмачей-переводчиков. Одновременно закупались лошади и верблюды для перевозки вещей. Помимо этого, Эссен позаботился и о казачьем конвое при двух пушках.
– У меня к вам, Александр Федорович, есть и личная просьба – договориться с бухарцами по обеспечению безопасности наших караванов в степи, уж больно много хивинских шаек там нынче рыщет. Хивинский хан побаивается Бухару как по могуществу, так и по делам веры. Может, что и получится, – попросил Негри на следующей встрече губернатор.
– Всенепременно обращу на это внимание эмира! – заверил генерала посол.
* * *
Немаловажной была и разведывательная задача миссии, поэтому в ее состав были включены инженерные капитаны Генс и Рене, поручики Тимофеев и Вольховский, во главе с офицером Генерального штаба Мейендорфом.
Весьма удачным выбором являлся и штабс-капитан барон Егор Мейендорф по кличке «Рыжий» из остзейских немцев. Выпускник знаменитого училища колонновожатых, он прошел всю кампанию 1812 года и Заграничный поход, проявив себя талантливым картографом, получив несколько орденов и шпагу «За храбрость». Как свидетельствует его формулярный список, «Рыжий» знал русский, немецкий и французский языки, а также «часть математических наук». Интересно отметить, что в 1818 году он получил бриллиантовый перстень «за сочинение плана города Павловска». Два года назад любознательный барон поступил в Геттингенский университет и вот теперь был неожиданно отозван в экспедицию.
Большой удачей стало назначение в миссию капитана-инженера Генса (из эстляндских немцев). Генс был блестяще образован, имея за спиной Дерптский университет и Петербургский военный инженерный корпус. Карьеру начал инженером в Оренбурге, быстро обратив на себя внимание губернского начальства. При этом во время миссии, помимо инженерной деятельности, Генс проявил большую склонность к разведывательной деятельности.
Перед отъездом Мейендорфу было вручено «Наставление… касательно обозрения Киргизской степи во время следования… с посольством в Бухару». Помимо всего прочего, ему предлагалось исследовать пути от Троицка до ханства, течения рек, изучить возможность заселения обширных просторов к югу от Оренбурга. Кроме этого, Мейендорф должен был «назначить места, удобные для крепостей вдоль по дорогам от крепостей Орской и Троицкой… до реки Сырдарьи, на коей равномерно назначить место, удобное для крепости». Необходимость получения этой информации обосновывалась важностью обезопасить караванные пути в Бухарию и Хиву. Капитану Генштаба Генсу надлежало также провести астрономическое определение долгот и широт, составлять маршруты путей, на основании чего подготовить «Общую генеральную карту», а также вести журнал «путеследования в Бухару и обратно».
Забегая вперед, скажем, что впоследствии Генс станет выдающимся организатором российской разведки в Центральной Азии и очень серьезной фигурой в Большой Игре.
Что касается Вольховского, то в истории он остался только благодаря тому, что являлся однокашником Пушкина по Царскосельскому лицею. Это о нем писал поэт:
…Спартанскою душой пленяя нас,
Воспитанный суровою Минервой,
Пускай опять Вальховский сядет первый,
Последним я, иль Брогльо, иль Данзас…
Офицеры должны были производить картографическую съемку местности и составить детальное описание пути через степи в Бухару. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, все они числились гражданскими чиновниками. Мейендорф, например, должен был вести подробный журнал событий, производить астрономические наблюдения, а также составить общую генеральную карту казахских степей и Бухарии.
В качестве натуралиста-минералога, который должен был составить научный обзор степных областей, в состав миссии был принят Христиан Пандер, впоследствии известный академик и палеонтолог.
Вторым натуралистом, включенным в миссию, был Эдуард Эверсманн, являвшийся одновременно доктором философии и доктором медицины. Эверсманн был выпускником Дерптского университета, талантливым врачом, пытливым ботаником и зоологом. В экспедиции он значился… купцом. В помощь последнему был назначен оренбургский гарнизонный лекарь Пономарев. Как оказалось, в дальнейшем Эверсманн проявил явную склонность к разведывательной деятельности.
Посольским священником с причетом и походной церковью был определен священник Уфимского кафедрального собора отец Петр (Ильин), а с ним пономарь.
В целом, как мы видим, подготовка к экспедиции была весьма серьезной, состав был просто блестящим. Поэтому в Петербурге от нее ожидали и соответствующих результатов.
* * *
10 октября 1820 года миссия двинулась в путь. Караван из 358 верблюдов и 400 лошадей сопровождался военным отрядом, который состоял из сотни казаков, роты солдат и всадников-башкир под командой капитана Циолковского.
Путь путешественников пролегал от Оренбурга до реки Эмбы. Затем на юго-восток к Урачаю – поселению на северном берегу Аральского моря, затем до Ялтар-Куля, стоящего у Сырдарьи, и от реки уже строго на юг, через Казулкумы до Бухары.
В дороге охотились за сайгаками, вкусное мясо которых было кстати.
Достигнув становища казахского султана Арунгазы, Негри представился ему по всей форме, чем доставил предводителю кочевников огромное удовольствие. В ответ Арунгазы сопроводил миссию до Сырдарьи, засвидетельствовав этим свою приверженность к России.
За горой Бассагой местность стала более безводной. Степной ковыль, который прежде встречался в изобилии, сразу исчез. Теперь повсюду была растрескавшаяся от летней жары голая глинистая почва, лишь кое-где покрытая корявым саксаулом. Не обошлось без падежа лошадей.
Встречные бухарские купцы, узнав, куда едут русские путешественники, только качали головами:
– Может статься, что никто из вас, христиан, не вернется домой. Если даже хивинский хан разрешит вам пройти, то уж наш эмир не совершит ошибки, дозволив отправиться обратно. Эмир не хочет, чтобы христиане знакомились с нашей страной!
В один из дней участники посольства увидели десятки валявшихся в песке трупов, над которыми кружили стервятники. То были следы уничтоженного кочевниками очередного каравана…
В четырех днях пути до Бухары посольство встретил предусмотрительно посланный эмиром отряд, доставивший свежие фрукты, хлеб и корм для их лошадей. При этом возглавлял встречавших сам кушбеги (первый министр) Хаким-бек с почетным эскортом из нескольких сотен бухарских всадников. Проявление такого внимания обнадеживало.
Дорогой до Бухары кушбеги неожиданно начал клянчить:
– Если бы вы подарили эмиру две наши пушки, он был бы очень доволен.
Удивленный Негри почесал затылок:
– Будь моя воля, я подарил бы эмиру тысячу пушек, но пушки являются собственностью моего царя, и я не имею права их отдавать.
– Ай! Ай! Ай! – закивал кушбеги чалмой из белого кашемира и тут же принялся выклянчивать для эмира рессорную коляску главы миссии.
На это у Негри козырей не осталось, и он обещал подумать. Когда кушбеги отъехал, посол в сердцах сказал Мейендорфу:
– Кажется, они готовы обобрать нас до нитки. И это при том, что у нас несколько верблюдов, нагруженных подарками для бухарского двора.
Верблюды были гружены мехами и фарфором, хрусталем и ружьями. Помимо этого, Негри вез и огромные напольные бронзовые часы с красивым боем, украшенные золотым павлином.
18 декабря отряд достиг Бухары. К удивлению участников миссии, Бухару окружала не безжизненная пустыня, а аллеи деревьев и многочисленные сады. Так как вначале посольство разместили вне города, доктор Эверсманн предпринял крайне рискованную попытку проникнуть в Бухару, чтобы, смешавшись с местными, выведать все новости. Переодевшись купцом, Эверсманн отправился на свой страх и риск в Бухару…
Через два дня состоялся торжественный въезд посланника в столицу ханства.
Из воспоминаний Мейендорфа: «Наши солдаты маршировали в величайшем порядке и были в полной форме. Звуки барабана вызывали возгласы удивления жителей. Таким образом, мы продвигались вперед среди шума и выражений общего веселья, возбужденного нашим прибытием».
Сама Бухара поразила прибывших: купола мечетей и минареты, дворцы и пруды, бесконечные махали с плоскими кровлями глинобитных домов, мраморные бани и шумные пестрые базары. По улицам шныряли грязные дервиши в плащах, с посохами и сосудами из тыкв, куда собирали подаяние. Всюду соседствовали великолепие и нищета, богатство и грязь…
Из воспоминаний Мейендорфа: «Мы испытывали тягостное чувство, заметив среди азиатского населения русских солдат, доведенных до печального состояния рабов. Большей частью это были 60-летние немощные старики; при виде своих соотечественников они не могли удержать слез и, невнятно бормоча несколько слов на родном языке, пытались броситься к нам. Чрезмерная радость оттого, что они снова увидели наших солдат, вызвала у них большое волнение. Эти трогательные душераздирающие сцены не поддаются описанию».
Местные жители сбегались посмотреть русское посольство. Столько русских они еще никогда не видели. Это вызывало не только интерес, но и страх.
* * *
Эмир Бухары Хайдар являлся четвертым правителем узбекской династии Мангытов. По матери он считал себя чингизидом, а по отцу – потомком Мухаммеда. Будучи наследником, Хайдар правил в Каршах, а после смерти отца, прискакав в Бухару, был поднят на белой кошме, концы которой держали вельможи, – таков был обряд вступления в ханство у чингизидов. Затем Хайдар короновался в Самарканде, взойдя на тронный камень Кукташ как потомок Мухаммеда.
Правителем Хайдар оказался разумным и жестоким. Взойдя на престол, он перво-наперво прекратил раздоры и племенные междоусобицы, усмирил старшин племен. Головы летели с плеч одна за другой… После чего стал править уже размеренно и спокойно.
Полководцем Хайдар не был. Зная это, лично воевать не любил, посылая в походы своих военачальников. Сам же увлекался богословием и слыл большим ученым в этой области. При дворцовой мечети Хайдар открыл медресе, где сам и преподавал. Главной страстью эмира было возведение мечетей и открытие медресе. И тех и других он построил и открыл десятки. У хана имелся личный астролог, который получил образование в Исфагане (что считалось очень престижным). Если в молодости эмир был охоч до своего гарема, то позднее поменял его на вино. Так как правоверным пить было нельзя, эмир напивался втихую. Водку гнал для него живший при дворце армянин.