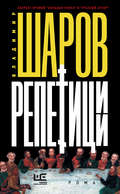Владимир Шаров
Возвращение в Египет
Вторая половина дня
Начало разбора «немой сцены» в новой редакции «Ревизора». Первые шаги так себе. Будто не имея сил остановиться, Блоцкий продолжает полемику. Актеры еще в тридцать шестом году писали Гоголю, что играть в «немой сцене» нечего. Можно считать – в его голосе удовлетворение – они были услышаны. В «Ревизоре» с Развязкой Первый комический актер, когда речь заходит о сути и смысле «немой сцены», объявляет публике, что она представляет собой последнюю сцену жизни. То есть, говорит Блоцкий, из этих слов понятно, что для Гоголя «немая сцена» теперь самостоятельна и как бы едина в двух лицах. С одной стороны, она естественным образом завершает действие пьесы и одновременно составляет с первым «Ревизором» правильный диптих. Гоголь в роли Хлестакова, как я уже говорил, играл Исход – начало жизни, сейчас, когда он чиновник по именному повелению, его прибытие есть ее конец. Больше того, Страшный Суд над жизнью как таковой. Безнадежный финал – все мечты одна за другой пропали втуне, ждать нечего. Надо сказать, что по этому пути сам Гоголь шел уже давно, встал на него, может быть, сразу, как увидел своего «Ревизора» на сцене.
Сейчас, продолжает Блоцкий, я прочитаю вам пару страниц из письма, которое Гоголь написал Пушкину 25 мая 1836 года. Оно предназначалось для журнала и называлось «Отрывок из письма, писанного автором вскоре после первого представления „Ревизора“ к одному литератору» (напечатано только пять лет спустя, в 1841 году). В этом письме насчет «немой сцены» многое сказано уже вполне ясно, и намек, какой она должна будет стать, когда к «Ревизору» прибавится Развязка, тоже сделан.
Гоголь пишет: «Еще слово о последней сцене. Она совершенно не вышла. Занавес закрывается в какую-то смутную минуту, и пиеса, кажется, как будто не кончена. Но я не виноват. Меня не хотели слушать. Я и теперь говорю, что последняя сцена не будет иметь успеха до тех пор, пока не поймут, что это просто немая картина, что всё это должно представлять одну окаменевшую группу, что здесь оканчивается драма и сменяет ее онемевшая мимика, что две-три минуты должен не опускаться занавес, что совершиться всё это должно в тех же условиях, каких требуют так называемые живые картины. Но мне отвечали, что это свяжет актеров, что труппу нужно будет поручить балетмейстеру, что несколько даже унизительно для актера, и пр., и пр., и пр. …Пусть даже балетмейстер сочинит и составит группу, если только он в силах почувствовать настоящее положение каждого лица. Таланта не остановят указанные ему границы, как не остановят реку гранитные берега: напротив, вошедши в них, она быстрее и полнее движет свои волны. И в данной ему позе чувствующий актер может выразить всё. На лицо его здесь никто не положил оков, размещена только одна группировка; лицо его свободно выразит всякое движение. И в этом онемении разнообразия для него бездна. Испуг каждого из действующих лиц не похож один на другой, как не похожи их характеры и степень боязни и страха, вследствие великости наделанных каждым грехов. Иным образом остается поражен городничий, иным образом жена и дочь его. Особенным образом испугается судья, особенным образом попечитель, почтмейстер и пр., и пр. Особенным образом останутся пораженными Бобчинский и Добчинский, и здесь не изменившие себе и обратившиеся друг к другу с онемевшим на губах вопросом. Одни только гости могут остолбенеть одинаким образом, но они даль в картине, которая очерчивается одним взмахом кисти и покрывается одним колоритом».
Первое, что надо подчеркнуть, – продолжал Блоцкий, дочитав письмо, – для Гоголя времени «Ревизора» с Развязкой «немая сцена», будучи неизбежным, закономерным финалом той жизни, какой мы все живем, больше уже не есть финал пьесы. И не потому, что чиновник по именному повелению только появляется на сцене, только заявлен как главный персонаж, еще не сделал сотой части того, для чего Гоголь его предназначил, и теперь останавливать его на всем скаку нет никакого резона.
Как мы увидим дальше, «немая сцена» больше не финал и для других персонажей пьесы. Конечно, Гоголя в первую очередь интересует чиновник; именно чтобы освободить ему место, расчистить площадку, Гоголь и пошел на решительное перекраивание пьесы. Сделал так, что пять актов «Ревизора» стали, в сущности, лишь завязкой интриги, простым предуведомлением публики, само же действие стартует как раз «немой сценой». Однако выясняется, говорит нам Блоцкий, что и вы не забыты, что логикой сценической жизни, тем, что отменить никак нельзя, эти полторы-две-три минуты, которые она длится, сделаются для вас вместе и для каждого отдельно важнее, значительнее всего остального, что было и есть в «Ревизоре».
19 июля
«Как вы прекрасно понимаете, продолжает Блоцкий на следующий день, внешне „немая сцена“ лишена динамики, намеренно изъята, выведена за пределы кипящей чуть не до одури жизни. Как и хотел Гоголь, она подчеркнуто статуарна и подобна живой картине, на равных – полотну живописца. Только у нас фигуры, написанные масляными красками, заменены телами живых людей. Наверное, в этой сцене нетрудно найти усталость, отказ от лихорадочной суеты, мельтешения вечно бегущих и вечно ускользающих движений тела и лица. Вместо них замершая, вкопанная в землю жизнь, грех, окаменевший, будто соляной столб.
Теперь, когда правосудие свершилось и зло больше никого не может совратить, „немая сцена“ делается правильной частью и другого диптиха. Изображенная вами живая картина станет парой великому полотну исторического живописца Иванова „Явление Христа народу“. Думаю, что не ошибусь, – говорит он дальше, – если скажу, что в центре композиции Образ Всевышнего, одесную от Него „Явление Христа народу“ Иванова – тот же Исход, начало откровения Господа человеку. Ошую „немая сцена“ другого исторического живописца Гоголя – конец человеческой истории: люди, спасать которых поздно. В этом и драма, объясняет Блоцкий, что людям, которых мы видим в „немой сцене“, не спастись. Оттого в ней и столько ужаса. Это ужас перед той жизнью, которую ты прожил, и перед карой за нее, которая тебя ждет. Карой, которой уже не избежать, потому что Грозный Судия на пороге. Ужас каждого, кто занят в „немой сцене“, то есть каждого из вас, продолжает Блоцкий, должен быть безмерно глубок, не иметь ни начала, ни конца. Во всяком случае, где исток этой реки, никто сказать не может, и где ее конец, никому из нас тоже неведомо.
Вы скажете, что, как и всякий поток, она рано или поздно впадает в море, но ведь на этом твой ужас не кончится, он просто сольется с ужасом других, то есть его станет еще больше. Оттого, сколько бы таланта в вас ни было, всё равно его мало, чтобы передать этот вечный неотделимый от каждого страх. Не любовь к Богу, а страх перед Ним, который всегда был, есть и пребудет с любым грешником».
Нет сомнения, что для Блоцкого эта мысль – несущая балка постановки и, чтобы мы не упустили ни слова из утреннего разбора, он ближе к вечеру заходит по второму кругу. Говорит: да, ни одному из вас в «немой сцене» не будет дано пережить ничего, кроме ужаса. Но в этих границах и пределах, в этих гранитных берегах никто и ни под каким предлогом не посмеет ущемить ваш талант и вашу свободу.
Ваши лица, каждая их мышца вольна, выражая этот ужас, двигаться, сжиматься и расслабляться, как ей заблагорассудится, то есть любыми средствами и со всей возможной страстью. Такая свобода оттого, что, по Гоголю, страх – пролог великого творческого акта; муки, которые каждый переживает на сцене, произведут в нем спасительный переворот, подлинную революцию. Вся его прежняя жизнь предстанет перед ним, и потрясение будет так велико, что он отшатнется, сожжет между ней и собой мосты. То есть ужас и смерть станут обновлением, началом другой жизни.
Но в одиночку человеку с грехом не совладать, эта мысль для Гоголя еще важнее, чем то, о чем мы с вами только что говорили, продолжает Блоцкий. Человек чересчур слаб, чересчур склонен ко злу, Адам это доказал яснее ясного, и после Христа люди продолжали жить так, как будто Его и вовсе не было. А тут, в «Ревизоре» с Развязкой, Гоголь вроде бы нащупывает, что надо делать, чтобы нам помочь. По своей природе человек добр, но его душа попала под власть греха и наглухо отгородилась от Господа. И вот автору с неимоверным трудом удается пробить брешь в стене, а потом закрепиться, буквально выгрызть для добра небольшой плацдарм на когда-то потерянной Богом территории. С него Гоголь – «чиновник по именному повелению» и будет действовать.
Приняв на себя роль совести, он, продолжает Блоцкий, при театральном разъезде окопается на этом пока совсем жалком клочке души каждого из нас, а дальше, словно крестьянин, поднимающий залежь день за днем с рассвета и до заката, станет освобождать, расчищать для доброго зерна доставшийся ему надел. Истовый страж, он будет беречь нас от соблазнов, искушений и не покинет свой пост, пока мы твердо не станем на дорогу, ведущую к Богу. И последнее, говорит Блоцкий, о чем я вам сегодня собирался сказать. Нет сомнения, что город N нечто вроде Египта или Вавилона, в общем, антихристово царство, оттого в ремарке Гоголя общий абрис фигуры его главы, городничего, столь явственно напоминает распятого на кресте Христа. «Городничий посередине в виде столпа с распростертыми руками и закинутою назад головою». Сходство не только внешнее. Христос, Сын Божий, распят на кресте человеческими грехами. Городничий, как и все мы, созданный по образу и подобию Божьему, собственными грехами кощунственно и добровольно распял в себе Бога – Его Образ. В ремарке «немой сцены» он и городские чины уподоблены падшему, низвергнутому в ад Асмодею и бесовскому воинству.
Коля, как я тебе писал, на этом месте разбора «немой сцены» наша постановка шестнадцатого года оборвалась. На следующий день за завтраком Шептицкая сокрушенно объявила, что Сойменка включена в прифронтовую зону, и они извещены военным комендантом, что все, кто не проживает в имении постоянно, в десятидневный срок должны его покинуть. Насколько я помню, Блоцкий уехал тогда одним из первых – на второй или на третий день; я, как и еще несколько человек, сел в поезд, идущий в Харьков, через неделю. Больших страданий не было, это и понятно: после семи дней разбора «Ревизора» с Развязкой, что и как играть для меня, например, так и осталось загадкой. Я и сейчас убежден, что сцена консервативнее жизни, о чем забывать неправильно. Тем не менее шестнадцатый год и сделанный Блоцким разбор пьесы я время от времени вспоминаю, чаще другого – его мысль, что ужас человека не имеет предела, в этом есть свобода, которую никому и в голову не придет у тебя отнимать.
Дядя Ференц – Коле
Дорогой Коля, ты просишь, чтобы я высказал свои соображения насчет дневника дяди Евгения с «Ревизором». Попытаюсь. Я не думаю, что даже с добавленной Развязкой пьеса делается калькой Священной истории. Возможно, вариацией на тему. Что касается деталей – обычный уездный город и такая же обычная в нем жизнь. Весь этот мир на равных сплетён из многоцветья и убожества, хотя согласен, что после Развязки доминанта не он. В «Выбранных местах» Гоголь писал про картину Иванова «Явление Христа народу», что в лицах, обратившихся ко Христу или еще только к нему поворачивающихся, заметны, хорошо различимы те изменения, что Откровение производит в нутряном составе человека. Рядом со Спасителем люди разом делаются не теми, что были несколько минут назад, но, как правило, что произошло, не понимают, только чувствуют, что, слава богу, у них нет сил не дать Этому в себя войти, помешать начавшейся в них работе. В финале «Ревизора» тоже нечто подобное. Немая сцена выстроена предчувствием, знанием, что вот сейчас в мире случается что-то, после чего жизнь прежней уже не будет. Но радостью и не пахнет, есть лишь страх.
Дядя Святослав – Коле
Братом владельца Сойменки был действительный тайный советник и член государственного совета Евгений Константинович Обраимов – личность неординарная. В последние годы жизни (то есть 1910–1913 гг.) он часто и по разным вопросам расходился с Николаем II, подавал особое мнение. Эти его записки сохранились в архиве. Сын Обраимова-старшего Георгий в двадцатые годы работал конторщиком в промкооперации. Русскую историю, которой отец и он оказались свидетелями, Георгий считал комментарием к Исходу евреев из Египта. Называл временем решительного разделения добра и зла и, когда друг семьи, священник отец Рафаил, укорял его в манихействе, яростно возражал. К нынешнему времени отец Рафаил отсидел почти двенадцать лет. Сейчас он живет в Савелово, но у Обраимова по-прежнему бывает. Теперь они не спорят. Отец Рафаил говорит, что всё, что творит сатана, Господь может обратить во благо. Богатство церкви – ее мученики, у Рима их было больше, чем у Москвы, отчего наша вера терпела урон. Сталин это исправил. Поддерживает отец Рафаил и Коминтерн. Объясняет Обраимову, что однажды коммунизм канет в небытие, растворится, будто и не было, а вся его территория сделается Святой Землей.
Дядя Юрий – Коле
Думаю, тебе будет любопытно знать, что и до Гоголя мысль всё, что можно, перетолковать в аллегорию, была популярна. Точь-в-точь как он на своего «Ревизора», Филон Александрийский смотрел на библейский Исход. За египетское рабство Филон держал кабалу высших духовных устремлений в каждом из нас. Уход в пустыню был началом освобождения, поворотом человека к Небу и к Богу. А гибель египетского войска – «коня и всадника его ввергнул в море» – нашим внутренним преображением, победой над всем низменным и плотским.
Дядя Петр – Коле
В следующем, шестнадцатом году – тут Евгений прав – мы разбирали пьесу в точном соответствии с пояснениями о настоящей ее сути, которые спустя несколько лет были сделаны Гоголем, но по разным причинам никем и никогда не принимались во внимание. Смысл их в том, что автор больше не верит, что общество можно исправить; единственное, что теперь его занимает, – нравственное совершенствование отдельной человеческой души. Пьеса – по-прежнему бенефис Гоголя: все эти Добчинские и Бобчинские, Осипы и Городничие, конечно, и сам Хлестаков – названные по имени и выведенные на божий свет бесы, которые всю жизнь мучили автора. Дополнение написано человеком, который принял то, что говорил о земной жизни Паисий Величковский, учивший, что всё зло мира, так же, как и добро, есть лишь отражение отчаянной борьбы, которая во время молитвы идет между праведностью и грехом. То, что мы называем реальным миром, – кажимость, простое отражение ежечасной схватки между Христом и антихристом, спасением и вечной погибелью, поле ее – наша душа.
Дядя Евгений – Коле
О Блоцком в наше время знаю от твоего дяди Юрия. Юрий врач и до сих пор работает в Харькове: Блоцкий в этом городе прожил до тридцать восьмого года, затем уехал в Ташкент, где еще десять лет ставил спектакли в русском драмтеатре.
Знаю и про Тхоржевского. В Гражданскую войну он был режиссером в Курском городском цирке. Так получилось, что твой дядя Святослав восемнадцатый и девятнадцатый годы провел в Курске; жил там при красных, при белых, снова при красных и видел все представления. Но после двадцатого года о Тхоржевском никто ничего не слышал. Кажется, он умер от тифа. Одно точно – не эмигрировал.
Теперь дядя Святослав, раз уже о нем зашла речь. В постановке Блоцкого он Гибнер – уездный лекарь. Сейчас Святослав – главный инженер Днепропетровского моторостроительного завода, между прочим, блестящий изобретатель, у него куча патентов. Для души у Святослава наш предок. Эрудирован не хуже твоего главного конфидента, дяди Петра, и это притом что не профессионал. Но дело не в одной эрудиции: многие его комментарии кажутся весьма неожиданными.
Дядя Юрий – Коле
Владислав Блоцкий был, конечно, настоящим талантом. В Харькове уже во время Гражданской войны он, продолжая думать об учении Паисия Величковского, поставил спектакль для одного актера. В скромном зале кинотеатра как-то так расположил зеркала, что сцена не просто увеличилась – сделалась не имеющей границ. Актер, стоящий у рампы, показывал муки тяжело согрешившего человека, который безо всякой надежды пытается снова встать на путь, ведущий к Богу. Он безмолвен, вдобавок, если не считать мышц лица, неподвижен, то есть нет ни истошной беготни, ни заламывания рук, но их и не надо, его отверстый рот, отражаясь в намеренно искривленных поверхностях зеркал, превращается в ямы и окопы, отрытые могилы и воронки от фугасных снарядов; волосы – в какой-то страшный выгоревший на корню лес, а сам он – в изуродованное, разъятое на куски человеческое мясо.
По словам тети Саши, сделанный Блоцким с нами «Ревизор» пятнадцатого года был лучшим из всех, что она в своей жизни видела, – неважно, на домашней или на профессиональной сцене. Очевидно, той постановкой Блоцкий тоже был доволен, потому что в двадцать пятом году он там же, в Харькове, по существу, повторил ее. В некоторых отношениях довольно академический «Ревизор» поразил харьковчан тем, что актеры играли без грима и, главное, были одеты, как обыкновенные советские люди. В итоге «Харьковская правда», рецензируя спектакль, писала, что, значит, всё то разложение, все те безобразия, которые мы видим на сцене, происходят не в проклятое царское время, а творятся нами самими при прямом попустительстве, даже соучастии уездного райкома партии и уездного же управления ОГПУ. Больше того, нам намекают, что секретарь уездного комитета партии в сущности тот же городничий. Спектакль сняли после третьего прогона, но, хотя обвинения были серьезные, Блоцкий выпутался. Не только не был арестован, но даже не уволен из театра.
Дядя Юрий – Коле
В двадцать втором году в Харькове в театре, который существовал при Совете рабочих и солдатских депутатов, режиссер Владислав Блоцкий поставил и другой спектакль, «Земля Обетованная». Он шел меньше месяца, потом Блоцкий был обвинен в идеологической диверсии, и спектакль со скандалом закрыт. Оформлял «Землю Обетованную» известный харьковский конструктивист Оскар Станицын (он же Сонин дед). Грязную, заплеванную и заблеванную сцену он сверху и по периметру огородил парадными, в дорогих рамах зеркалами (в те годы Блоцкий вообще много экспериментировал с зеркалами), вдобавок все пространство осветил, а то и освятил высокими пасхальными свечами. Зеркала по большей части были изъяты в усадьбах окрестных помещиков, а свечи реквизированы в храмах. Кроме того, несколько десятков зеркал меньшего размера, какие продаются в лавках обычных стекольщиков, Блоцкий частью нагромоздил в центре сцены, сложив нечто вроде пирамиды, остальные расставил по виду хаотично, на самом же деле так, что ни одна капля света из круга не выходила, весь он рано или поздно оказывался на гранях и плоскостях конструкции. В итоге на эту сияющую, сверкающую груду зеркал – по мысли Блоцкого, она обозначала уже принесенные и поставленные на место первые камни коммунизма (или Небесного Иерусалима) – из зала больно было смотреть. Сюжета у постановки, по сути, не было. Просто время от времени на сцену с разных сторон выбегали народные массы, их играли актеры, загримированные под окровавленных, в лохмотьях красноармейцев. И вот они, не обращая внимания на раны, рвались к слепящей, режущей глаза горке зеркал, но добраться до нее не могли, скользили, падали буквально в шаге от цели. Потом из-за наклона сцены съезжали обратно вниз. Но не это самое печальное. Еще пока они были на сцене, пока надеялись достичь коммунизма, отражение, будто обезумев, металось от зеркала к зеркалу, отчего было непонятно, ни кто они, ни чего хотят. Только тягостное, очень обидное ощущение, что иначе и быть не может.
Дядя Петр – Коле
Как тебе известно, Николай Васильевич был незаурядный рисовальщик, и эти его способности в нашей семье передавались исправно. Взрослые спектакли Тхоржевского и Блоцкого оформлял Оскар Станицын. Ты его должен знать: он отец тети Вероники и, следовательно, Сонин дед. У Станицына есть сын, Валентин, тоже художник. Костюмы и мизансцены детских «Ревизоров» четырнадцатого – пятнадцатого годов – его рук дело. Валентина в двадцатые годы я видел довольно часто: когда наезжал в Москву, ночевал в мастерской на чердаке, которую он с приятелями снимал у Красных Ворот.
Валентин учился во ВХУТЕМАСе, перепробовал много всего, среди прочего пару лет самозабвенно занимался миниатюрой. Тогда это было редкостью, наше поколение любило или большое, или очень большое. Но что-то со ВХУТЕМАСом не сложилось, из института он ушел. Конфликт был не политический. С двадцатых годов Валентин, как и отец, примыкал к разным левым группам и, когда «левое» оказалось в опале, бедствовал. Куда сильнее, чем отец, которого спасали частные коллекционеры.
Дальше я, если что о Валентине и слышал, то весьма неопределенное. Вроде бы он уехал в Среднюю Азию, так там и осел. Живет в каком-то небольшом городе и работает в музее. Впрочем, мама всё это должна знать лучше, чем я. А еще лучше – дядя Серафим: он со Станицыными в свойстве.