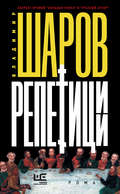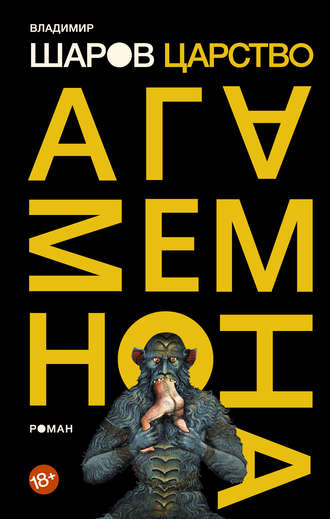
Владимир Шаров
Царство Агамемнона
Отец, – рассказывала Электра, – говорил мне и о другом своем дневнике. Объяснял, что важнее важного, чтобы что-то да осталось. Пусть не сейчас, когда-нибудь выплыло на свет божий. В Европе люди в завещаниях просят не публиковать личную переписку еще пятьдесят, сто лет после их кончины, но то не беда, ведь ничего никуда не девается, каждая страница кротко ждет своего часа. Оттого, когда была возможность, отец и после двадцать восьмого года временами вел дневник.
Пока бегал по городам и весям, не знал: этой ночью будет у него крыша над головой или нет, о дневнике, конечно, речи не шло, но Господь, говорил он, следит, чтобы одно в твоей жизни перемежалось с другим, не всё же удирать сломя голову. Как увидят наверху, что ты запыхался, весь поту, так сразу в каталажку и в лагерь, чтобы, значит, охолонул, посидел, осмотрелся. Разобрался, что было в жизни, пока тебя мотало из стороны в сторону.
В принципе, что о хорошем, что о плохом отец высказывался неопределенно и по-разному, не любил подобных оценок, но была одна вещь, которую он уважал, – я часто от него слышала, что без человеческой памяти вообще ничего бы не было. Главное – запомнить и сохранить, а там уж разберутся, кто свой, а кто враг. Это как с городом, с тем же Петербургом, объяснял он мне: сколько людей закопали, пока его среди топей строили, – подумать страшно, но сейчас их бы уже всё равно не было, а город стоит.
Люди, говорил он, однодневники, не успели появиться на свет божий, тут же спешат, торопятся умереть. Еще и до сладкого чая с пирогом дело не дошло и не наговорились всласть, а уже собираются, им надо уходить. В городе, продолжал отец, есть большая правда, несомненно и в людях, которые осушали здесь болота, прокладывали каналы и мостили дороги, в тех десятках тысяч, которые с вечера, как обычно, бросят на землю охапку соломы, лягут, а утром уже не встанут, – не меньшая, но, когда они вошли в стык, город победил, и теперь он памятник им обоим.
На каждой из зон, где отец отбывал срок, – рассказывала Электра, – он был вась-вась с начальником оперчасти, неделю за неделей писал ему подробнейшие донесения о том, что происходило в лагере, обо всех разговорах и настроениях. Я это знаю точно, – рассказывала она дальше, – потому что шесть месяцев, которые прожила с отцом под Ухтой, сама их перебеливала.
Прежде ему на лесоповале поранило правую руку, а левой он писал уж очень коряво. Жаловался, что, читая его каракули, опер разве что не матерился. Вот вы, Глебушка, вправе меня спросить: что же он был за человек? – перебила себя Электра. – Как, что я рассказываю, свести в одно? Потому что если мне верить, получается, что мой отец и в лагере доносил на людей, и на следствии сдавал их по первому требованию, то есть просто всегда и всех предавал, больше того, очень многих из тех, на кого он дал показания, не стало в самое короткое время. Но вел он себя так, будто это правильно, будто иначе и быть не может, потому что он их не закладывает – в жертву приносит. И эта жертва всем нам, в том числе и погибшим, необходима”.
“У меня был одноклассник, – продолжала Электра на другой день опять же за чаем, – очень способный математик, он даже ходил на семинар в университет. Как-то я его спросила, чем они там занимаются, и он сказал, что уже месяц изучают гармоничные ряды. Что у них были за ряды, и по сей день не знаю. Но что отец слишком легко становился членом любого гармоничного ряда, сколько бы их ни было, – точно. Хотя он никогда не был обыкновенным флюгером, встанет на сторону сильного и живет спокойно – нет.
Обратившись в большевика или истинно православного из тихоновцев, он целиком и полностью перенимал новую правду. Больше того, человек неординарного ума, всячески ее развивал, вел дальше. То есть он себя считал человеком даже не правды, а истины, то и дело мне повторял, что я нигде и ни при каких обстоятельствах не могу, не должна врать.
Вранье есть нарушение самой природы, естества, и это было не просто императивом. Он не скрывал, что в двадцать пятом году, когда его второй раз арестовали, он на следствии, месяц поупиравшись, всё и про всех рассказал, и говорил мне, что вдруг почувствовал такое облегчение, какое раньше знал только после исповеди. К двадцать пятому году он уже бог знает сколько лет не ходил в церковь, а тут ни с чем не сравнимое забытое им ощущение чистоты себя к нему вернулось.
Про чистоту матери было сказано, когда она пришла на свидание, и она была потрясена. Ведь он донес и на нее, взял и донес, хотя про мать его никто не спрашивал. Но ко времени, когда у отца кончилась ссылка, дело забылось, тем более что материн роман с Телегиным был в самом разгаре и ей было не до отцова доноса”.
Неделю спустя Электра решила повторить сказанное, стала объяснять: “По отцу, Глебушка, выходило, что может быть так, что убитые есть правильная, необходимая жертва, но поначалу я, хоть и не раз это слышала – понимала плохо. Переспрашивать же боялась, ведь, как ни назови, всё равно люди были, а теперь их нет. В общем, сама я на эту тему не заговаривала.
В то время – речь о тридцать восьмом годе, – продолжала Электра, – и ясно, что по прямому указанию Сталина, у нас решили реабилитировать царя Ивана Грозного. Мол, он и не тиран, и не злодей, а деятель прогрессивный, истинно народный. Опять же опричнина, без нее было не обойтись, потому что изменники-бояре на деньги Римской курии и иностранных правительств – Речи Посполитой, Швеции – плели заговоры, пытались извести Ивана Грозного ядами, наслать на него порчу. На самом же деле, писали тогда ученые, если смотреть на историю объективно, Иван IV – тот русский царь, который взял штурмом Казань, покорил наших вечных врагов, прямых наследников Золотой Орды – Казанское и Астраханское ханства, потом в придачу к ним и Сибирское. Правитель, который во много раз расширял не просто свое государство, а территорию Святой земли, и провел необходимые реформы – раньше их ошибочно приписывали Избранной Раде.
Отец идущей дискуссией живо интересовался, читал не только что тогда печатали – статей, книг было множество и огромными тиражами, про эйзенштейновский фильм вы и без меня знаете, – но взял в воркутинской библиотеке «Четьи-Минеи» митрополита Макария и «Домострой» протопопа Сильвестра. Главное же – всё, что написал сам царь Иван. Переписку с князем Андреем Курбским, разные каноны, акафисты его сочинения. Свои разыскания он обсуждал и со мной, потому что был убежден, что, не зная собственной истории, нельзя считать себя образованным человеком.
Отец не сделался в одночасье поклонником Ивана IV, но говорил, что понять людей, находящихся на вершине власти, трудно, правильнее даже сказать, невозможно. Потому что тем, кого занесло так высоко, не надо думать о тяготах обычной человеческой жизни – еде, тепле, одежде, крыше над головой. Больше того, они о нас и о наших бедах знают лишь понаслышке, судят, может быть, уверенно, но понимают плохо, часто путаются.
«Те, кто на вершине, живут в мире чисел со множеством нулей, единица для них не одна человеческая душа, а народ, который они к тому же именно сейчас ведут в Землю обетованную. Ведут, – говорил отец, – не ведая страхов и сомнений.
То есть, – объяснял он, – здесь необходима иная математика, но мы, простые смертные, никогда ее не поймем, как и сами правители – она выше нашего понимания. Оттого, – продолжал отец, – Грозный и писал – ясно, что так и думал, – что каждый, кто невинно погибнет от рук его, праведного царя и наместника Бога на земле, будет спасен. Именно это слово “спасен”, – объяснял он, – тут главное; вдобавок освобожден от мук Страшного суда».
Дальше, – продолжала пересказывать отца Электра, – Иван говорил об убитых им как о кроновых жертвах. Да, распалившись на кого-то гневом, он мог и убить, если, на свою беду, ты оказался поблизости. Но и это было правильно, потому что дальше кровь, что в нем кипела, успокаивалась; насытив гнев, он кротчал и снова верной дорогой вел народ к Небесному Иерусалиму.
Когда речь заходила о Грозном, отец часто поминал и другое. Говорил: ты меряешь свою вину по соседу, повторяешь, что если он невиновен, то и тебе нечего предъявить. Мы одно. Но гора Синай свидетельствует о другом. Она говорит, что народ, весь целокупно, стоит оставить его без попечения, с восторгом впадает в ересь, отдается греху. Изваяет поганого тельца и сутки напролет отплясывает вокруг него.
И тут вступает в силу правило каждого десятого. Виновны все, то есть и лично ты, вне всяких сомнений, тоже виновен, но в искупительную жертву по неизреченной милости приносят лишь каждого десятого. Остальные, если покаются, до поры до времени будут прощены, смогут вновь вернуться на дорогу, что ведет к спасению.
И еще одна мысль отца из тех, что я запомнила, – говорила Электра. – Когда речь заходила о тяготах обычной жизни, он говорил, что те, кого судьба от них избавила, не взрослеют, до конца живут не ведающими греха младенцами. Личные покои – которые они так редко покидают, так этого не любят, – суть «детская»: запершись в ней, они играют до самозабвения. Причем, продолжал отец, как правило, в Священную историю. Играют, играют и до самой смерти не наиграются. Отсюда – что они дети и ни мы их, ни они нас понять не в состоянии – следовал еще один вывод.
При мне он объяснял нашему соседу в Ухте, что единственные, чьим мнением на их счет мы можем доверять, это другие правители. И не важно, о чем речь: о планах или о том, что в итоге из них проистекло, вылупилось на свет божий. Вышеупомянутого царя Ивана IV Васильевича Грозного, повторял отец, вправе судить лишь император Петр I да наш Иосиф Сталин. Оценки остальных (неважно, оправдывают они Грозного или клеймят) не стоят ломаного гроша.
А вот за то, что Сталин думает об Иване IV, не жалко полновесного червонца. И суть не в том, что у нас на царя Ивана теперь раскроются глаза. Оно, конечно, имеет место, но так, побочный продукт. Главное же – тебе со всей возможной прямотой объясняют, что́ творится вокруг.
Больше того, верховная власть и дымку на горизонте разгонит, старательно ее рассеет, чтобы было ясно, и что нас ждет впереди. По первому впечатлению, Глебушка, – продолжала Электра, – то, что он говорил, звучало скорее снисходительно, особенно насчет Священной истории. Получался какой-то сплошной детский сад, и в нем мы, грустные, печальные игрушки, разбросанные по полу. Нам командуют: стань тут, а теперь тут, и мы, как неживые, слушаемся. Да и не можем ослушаться: один раз неправильно поймешь приказ – и на тебе ставят крест.
Но на самом деле отец и это детство, и эту высокую игру в Священную историю старался понять; говорил мне в другой раз, что та честность, что есть в детях, их цельность и бесхитростность, их незнание смерти и отсутствие страха перед ней, на равных неумение ценить жизнь и дает возможность проложить к Святой Земле короткий, прямой путь.
Так, мы хоть время от времени и вспоминаем о Спасении, в сущности, идем за своими овцами. От одного пастбища, где солнце еще не до конца выжгло травы, к другому, от одного колодца, где осталась вода, к следующему. Но овцы не Моисей: с ними к Богу не выйдешь. А тогда на кого надеяться, если не на детей?
Я много на сей счет думала, и когда отец был жив, и потом, когда уже его схоронила, и мне кажется, – говорила Электра, – что навык понимать верховную власть был в нем от природы. Вдобавок всё, что было в его жизни, на это работало. Как работало, я вам потом расскажу, – заключила Электра. – А теперь, Глебушка, мне пора спать”.
Запись от 29 марта 1983 г.
Электра и позже часто возвращалась к тому, что за человек был Жестовский. По-видимому, не могла разобраться, и это ее беспокоило. То говорит: “Он был трогательным, будто ребенок, его нельзя было не любить, и умница – что ни спроси – всё знает. Жизнь у него, вы, Глебушка, не хуже меня понимаете, была не сахар, каждый мамин уход он переживал очень тяжело, хотя Телегина ни в чем не винил, продолжал относиться как к родному человеку. Если что надо, спешил помочь, здесь они с Телегиным на равных, потому что и Сережа, вытаскивая его из тюрем и лагерей, шел на большой риск, а не говорил, как другие: я тут ничего не могу.
Так отец прожил семьдесят четыре года, а без Сережи и до войны бы не дотянул, давно лежал на каком-нибудь лагерном погосте. В общем, они были хороши друг с другом, и тут даже мама ничего не сумела поломать. Ей это не нравилось, говорю вам ответственно, – повторила Электра. – Я сама не раз слышала от нее, что на службе на то, что Телегин до сих пор не порвал с отцом, смотрят косо, но служба – ладно, бог с ней, со службой, говорила мать: хуже, что Жестовский не одного Телегина – всех утянет на дно.
Обычно Сережа к маме прислушивался, но здесь не соглашался, делал, как считал нужным. Только после тридцать девятого года, уже не живя с Сережей, мать поуспокоилась. Поняла, что Сережа больше не ее, и смирилась. Стало неинтересно, помогает он Жестовскому или нет, – тут Электра помолчала и, будто на что-то решившись, сказала: – Это я к тому клоню, что не просто так вытолкнула родную мать из Сережиной постели. Мне всё равно было, что он по-прежнему красив, статен, вдобавок в чинах; я видела, что отец гибнет, а я рядом стою и даже руки не подам.
Телегин с Жестовским, – продолжала она, – можно сказать, от природы были призваны работать в связке, а мать не просто между ними встала, еще их и стравливала. Взять, к примеру, Сережу – он кто? Да обыкновенный служака, конечно, надежный, конечно, преданный, и работоспособность дай бог каждому, но горизонт узок, даже не узок – щелочка.
Ведь за спиной никакого образования, с детства один цирк. Его профессия – силовая акробатика, тут он дока, здесь всё его, каждая мышца свой маневр наперед знает. Другой коленкор, когда ты не с тяжестями играешь, а преступление расследуешь. С преступником и умнее надо быть, и хитрее. Мало разоблачить, вывести его на чистую воду, – ты обязан проследить все связи, звено за звеном всю цепочку, как кто и чем они один другому пособляли.
А Сережа для этого чересчур прост. И наивности выше крыши. В органах таким нелегко: на Лубянке интрига на интриге, партии, группировки, свои, чужие. Конечно, у Сережи был человек, который знал его еще с Гражданской войны и как мог покровительствовал, но в тридцать восьмом его расстреляли – Берия посчитал, что он из ежовских прихвостней.
Самого Телегина в тот раз не тронули, но полгода туда-сюда ходило, могло и так лечь, и так. А Сережа только головой мотает, никак не поймет, что происходит. В общем, он был неплохой человек, честный, верный, это не отнимешь, а что в итоге у него на руках оказалось столько крови, так тут, я думаю, не его вина, в первую очередь – времени.
Теперь отец, – продолжала Электра. – Когда, узнав, чья дочь, я соблазнила Телегина, и потом, когда уже стала его женой, я не столько о нем думала, сколько об отце. Ведь он всегда ждал мать, ждал и ждал. В его верности был лишь один перерыв – три года, но к этому я еще вернусь.
В матери, конечно, была сила, – продолжала Электра. – Но сила – вещь неумная, многого она не понимала, думала лишь о себе. Не хочет ехать в какую-то тмутаракань на погранзаставу – и Телегин едет один, через неделю ей вдруг втемяшится, что отец в дневнике что-то не то о ней написал, и она меня и брата уже на него науськивает. С дневником ведь вправду на волоске висело. Я и Зорик – не подойди мы к отцу – и всё.
Думаю, она не хуже меня видела, что Телегину без отца никуда, но из-за своей ревности одного хотела, чтобы и первый, и второй только на нее смотрели, друг на друга – ни-ни. А то получается, что не она главная, не ради нее всё, а этого ей не вынести. Самому Телегину и в голову бы не пришло остаться в церковном отделе, где он сразу выдвинулся. И тоже благодаря Жестовскому. Потому что отец знал церковь и ее нынешнее положение, и историю как никто. Ходячая энциклопедия – все ереси и несогласия со времен ранних христиан, все церковные писатели – и наши, и католики с протестантами.
Бывало, у Телегина по плану профилактическая беседа с кем-то из иерархов. Зовут отца. Он на трех-четырех страничках и по пунктам вопросы изложит, уже не мать, а телегинская секретарша аккуратно на пишмашинке перепечатает, и когда церковный деятель войдет в кабинет, поздоровается, сядет, Телегин ему странички и подтолкнет. Мол, ознакомьтесь, по возможности ничего не пропуская, ответьте. Тот читает и себе не верит, а потом в объятия бросается – как давно мы таких, как вы, ждали, уже отчаяться успели.
Жестовский о каждом попе, и не важно, из синодальных или истинно-православных, мог сказать: кто он, откуда и к какой церковной партии принадлежит. А для матери, конечно, острый нож, что два человека, которые в нее влюблены, между собой в хороших отношениях. И ее дети тоже их обоих зовут папами: папа Коля и папа Сережа. Всё это как бы опускало, низводило и ее саму, и любовь к ней – конечно, она чувствовала себя оскорбленной. Тем более что то тут, то там приходилось уступать. Иначе отец давно погиб бы в лагере, а Телегин так бы и застрял в рядовых оперуполномоченных.
В общем, она терпела, и что мы их обоих зовем папами, и что они ладят между собой, но, мягко говоря, без восторга. А я для себя считала, что вот ей – всё равно будто Клитемнестре – досталось царство, а распорядиться им по-хорошему она не умеет. Делит надвое, начетверо и одну часть на другую натравливает, думает, что без гражданской войны нельзя: стоит выйти замирению, мы о ней и не вспомним. А пока идет война, худо-бедно держать нас в руках получается. Чуть на горизонте туча – и первый, и второй, и мы с Зориком – все к ней, все за юбку цепляемся.
Кстати, я отца ни в чем не оправдываю. Живу с тем, что он и на следствии подельников закладывал, и потом что в лагере, что на воле везде был штатным стукачом, – повторила Электра. – Многие из-за него погибли, но в истории, что в связи с его именем поминается чаще другого, материной вины не меньше.
Я тогда жила с Телегиным не в Москве, а в Магадане. Для мужа Колыма – нечто вроде ссылки. Разжаловали Сережу до капитана и отправили начальником маленького лагеря. В горах южнее и выше Охотска жи́ла свинца, рудник, а при нем зона. Это я к то- му, – продолжала Электра, – что многое знаю не из первых рук, понаслышке. Мать, как я всегда хотела, жила с отцом в тех же наших комнатах в Протопоповском, и вроде бы жила мирно. Никуда от него не уходила, других фортелей тоже не выкидывала. Матери было уже хорошо за сорок, но отец вспоминал, что ее прямо с ума сводило, что жизнь прошла, а главного она так и не получила.
Отец после войны закончил большой роман, его название – «Царство Агамемнона», основа – подлинные события, говорю уверенно, он даже в них участвовал. Мать, кстати, с этим романом очень ему помогала. Чтобы отцу с его больной рукой было легче работать, что надо, и частями и целиком перепечатывала. В общем, всё как в юности, когда он делал свою первую серьезную работу о новом пролетарском языке.
О ней еще будет речь, – прихлебывая чай, пояснила Электра. – И машинка та же – подаренный фон Троттом «Ремингтон». Ни разу не отказалась, только иногда спрашивала: «Ты и вправду доволен, как получается?» или «Тебе кажется, выходит интересно?» – Ну вот, отец за полтора года «Агамемнона» дописал, она финально – закладка в четыре копии – распечатала, и отец стал его давать близким друзьям. И то не целиком, отдельными главами. Выслушал, что они сказали, и хотел спрятать до лучших времен. Понимал, что чем меньше людей будут знать о романе, тем для всех спокойнее. Но у матери были другие планы.
Она решила, что, коли ей теперь приходится жить не с Телегиным, без его возможностей, без его денег и персональной машины, на худой конец, сгодится и слава, много славы. И вот за чаем или еще где она начинает спрашивать читавших «Агамемнона» – как он им? Не подробно, а так, между делом. То есть и она и ее собеседник понимают, о чем речь, им и двух слов достаточно.
Самой матери роман – в общей сложности она перепечатала его уже раз пять – не показался. Мать посчитала, что он скучен и нестерпимо мрачен. В нем совсем мало радости, из-за которой она ценит жизнь, и, наоборот, слишком много страха. Но своему мнению она в подобных вопросах не доверяет, убеждена: вердикт тут – епархия профессионалов, людей с именем. Она и раньше за собой знала, что вот у нее что-то не идет – вяло, затянуто, сама давно бы бросила, а услышит, что тот-то и тот-то ставит вещь высоко, глядишь – и ей уже нравится. Читает, читает, не может оторваться. Так что если ей скажут, что роман отца настоящая сильная проза, она легко примет, тоже станет так думать.
И вот мать идет от одного к другому и всегда тет-а-тет, чтобы никто ни с чьего голоса не пел, пытается понять, что́ она как про́клятая столько времени перепечатывала. Чего всё это сто́ит в базарный день? И ее собеседники в один голос говорят, что вещь замечательная. Такой сюжет, такая интрига, главное – ни на кого не похоже. И язык и стиль – мать знает, как это важно – тоже выше всяких похвал. И опять же, что каждое слово не наносное, не украденное. Что Жестовский пишет так, что прямо слышен его голос.
Мать: «А напечатать можно?»
Ей: «Почему бы и нет? В принципе да, можно. Конечно, с Главлитом будут сложности, не без того. Наверное, какими-то кусками придется пожертвовать, пойти на компромисс. В общем, и можно печатать, и нужно. В сильной прозе сейчас большая нужда».
Ясно, что никто не скажет, что вещь антисоветская, вся с начала и до конца. Потому что тогда ты должен не чаевничать с женой автора, не лясы с ней точить, а прямиком бежать на Лубянку. Каждый убежден, что мать и сама всё понимает, потому как, что бы кто ни говорил, она не вчера родилась, вдобавок многие годы была женой кадрового чекиста, который этими делами и занимался.
В общем, похоже, она просто играет дурочку – красивая женщина, хороший чай, печенья тоже хороши, и они ей подыгрывают, говорят, что роман из таких, что не каждый год на свете божьем появляется: если от нашего времени что и останется, «Агамемнон» – первый кандидат. В сущности, это ровно то, что она надеялась услышать, понятно, она этому верит, и какие у нее основания не верить?
И вот мать решает, что получила шанс, серьезный шанс, а лоб у нее крепкий, упорства тоже не занимать, так что если главлитовскую стенку можно прошибить, она прошибет. Только действовать надо не наскоком, а умно, по тщательно разработанному плану. В сущности, он у нее уже есть. Еще в бытность женой Телегина, она в его служебной квартире на Покровском бульваре держала открытый дом. По вторникам собирала известных музыкантов, актеров, режиссеров, меньше любила поэтов, но приваживала, подкармливала и их. То есть в этой среде у нее хорошие связи: ее обеды и вторничные домашние концерты до сих пор поминают. И вот она всех, кто ее помнит по телегинским временам, начинает не спеша обходить. Ссылаясь на тех, кому «Агамемнон» читался или кто сам его читал – а они не последние люди, – говорит, например, актерам (каждому, естественно, свое), что в романе есть такой герой – конечно, ты выдающийся мастер, но, сыграв его, навсегда останешься в истории русской сцены. Режиссерам – что роман Жестовского и переделывать не надо, он готов: одному – для инсценировки, другому – для экранизации. Там так показано наше время, такие судьбы, такие сильные характеры – «Агамемнон» легко возьмет Сталинскую премию, буквально сметет конкурентов.
Конечно, это лесть, обыкновенная лесть, но она работает. И полугода не проходит – а все только и говорят, как бы заполучить роман Жестовского. Убеждают ее, что первым следует дать именно им, тот-то и тот-то «Агамемнона» просто загубит. Уже и издательские работники, правда, пока негласно, к ней обращаются, тоже повторяют, что с радостью напечатали бы Жестовского у себя. Под материным нажимом отец, чтобы поддержать интерес, достает из тайников два экземпляра и под слово, что никто никому и ничего не скажет, снова начинает читать роман отдельными главами. Конечно, ясное дело, выбирает нейтральные, понимает – совать самому голову в петлю не стоит. Но и эти главы написаны сочно, без сомнения, талантливо. Короче, по всему видно, что мать ничего не преувеличивает.
То есть мать свою партию отыграла лучше некуда, только отчего-то забыла, что сейчас не прежние времена. А так шло, как надо, просто и на сей раз расторопнее оказались не издательские редакторы, а оперативные органы. Волна, которую мать подняла, еще и до своего гребня не добралась, а на Лубянке уже поняли, что имеют дело: а) с организацией; б) глубоко законспирированной (коли роман Жестовского толком еще никто не читал, даже в руках не держал); в) и сам роман, по-видимому, вещь глубоко антисоветская. Вместе и первое и второе и третье тянет на несколько серьезных пунктов 58-й статьи. В результате почти восемьдесят человек арестованных, могло быть и больше, но война только недавно кончилась, команды раскручивать дело по полной не последовало”.
“Вряд ли это как-то связано, – рассказывала Электра через неделю, опять же за чаем у меня в ординаторской. – Но именно вскоре после статьи двух генетиков, Ракова и Сидоркина, о близнецах в «Трудах Академии медицинских наук», отец написал собственную работу на ту же тему, но уже в литературе. А начало дискуссии в нижегородском журнале «Рабочий и искусство» о метафоре, о том, нужны ли вообще тропы и иносказания пролетариату, прямой дорогой идущему в коммунизм, совпало с его собственной большой статьей о литургике как метафоре мира, в котором можно спастись. Статья неизвестно почему оказалась подшита к его третьему делу, начатому производством в декабре тридцать четвертого года, но прямо просится под обложку нижегородского журнала”.
Я эту статью Жестовского уже знал, как и другую его работу о пролетарском языке, потому что читал их в томе, который рецензировал для издательства “Наука”. В своей статье о метафоре Жестовский приходит к ряду оригинальных выводов. Начинает он с общепринятого взгляда на метафору как на хоть и свернутые в кокон, но точные суть и смысл. Однако скоро уходит очень далеко.
“На первых порах, – пишет он, – наше понимание Бога вполне пантеистское – Бог везде и во всем; вне, помимо Него, нет и не может быть ничего. Но пройдет время, и Бог устанет затыкать уши, устанет от воплей, жалоб человека, что коли Он, Бог, везде, мы не знаем, куда идти, не знаем, где Его искать, оттого путаемся, бросаемся из стороны в сторону, в итоге так и тонем во зле”.
В этих обвинениях бездна нервозности и бездна обид, что наших, что Его. Человек упрекает Бога в том, что Он дал ему согрешить, не оградил, не закрыл высокой стеной это проклятое Древо познания. Ясно, что в саду, где гуляет только что появившееся на свет божий существо, ничего не разумеющее дитя, – такой дряни вообще не место. Именно от Господа исходил этот соблазн, и тут Он виноват даже больше змия, которому в Райском саду рядом с ребенком тоже нечего было делать. Следом Жестовский переходит к органам ВЧК – ГПУ – ОГПУ. Пишет, что если бы в те времена они уже были, то есть провидением Божьим были сотворены раньше человека, Древо соблазна и греха, выкорчеванное с корнем, валялось где-нибудь на пустыре. В худшем случае росло, огороженное прочным забором с колючей проволокой поверху и следовой полосой по периметру. И змия бы не спускали с цепи, не дали и словом перемолвиться с человеком. Тогда, что понятно каждому, всё сложилось бы по-другому, не столь печально, как мы теперь читаем в Бытии.
Эта мысль, что наши соблазны и искушения не самосев, они Божьих рук дело, плановые посадки, и тут же – что душа по Божьему соизволению была вдунута в человека, а о том, чтобы укрепить ее против греха, никто и не вспомнил, по мнению Жестовского, прямо напрашивается. Как и другое соображение, что коли Бог еще прежде всех времен Таков, каким мы о Нем знаем из Писания, и человек, каким создан при сотворении мира, таким и должен жить дальше, то, чтобы грех раз за разом не одерживал решительную викторию, не топтал праведность ногами, не растирал ее в пыль, опять же необходимы органы государственной безопасности. Лишь они способны уравновесить конструкцию, спасти, предостеречь человека от камней, о которые он претыкается, идя к Господу. Но пока Всевышний верит, что справится Сам. И вот, чтобы взгляд человека не рассеивался, не бегал блудливо туда-сюда, Он делается пламенем и, поместившись в кусте ежевики, неопалимой купиной открывается праведному Моисею. Конечно, это не решение проблемы, – чистой воды косметика, но облегчение на первых порах есть.
Господь день за днем в столбе огня и дыма ведет народ в Землю обетованную, и Иаков худо-бедно за Ним идет. Кажется, дела обстоят неплохо. Народ скоро перестанет нуждаться в вагоновожатом, с дороги в Землю обетованную его уже не собьешь. Господь так уверен в Иакове, что перебирается в самое нутро стана – Свое новое жилище – походный храм со Святая Святых и жертвенником. Отныне всё это на специальных носилках будут нести левиты. Только через века Святилище сменит Святая Святых Первого, позднее Второго Иерусалимского Храма. Ничего не изменится и после пришествия Спасителя – в каждой церкви, на равных – в каждом молельном доме будет собственная Святая Святых. Значит, мы уже давно имеем дело с Богом, собравшим Себя в одном месте, и оно известно любому человеку.
Однако, по большому счету, ведь что было, то и есть. И до неопалимой купины Моисей сопротивлялся, отговаривался, чем только мог, чтобы не идти, не выводить народ из рабства. Следом эстафетой уже на Синае отговаривается, не хочет идти дальше сам народ: Египет с его горшками, полными жирного мяса, для него теперь и есть истинная Земля обетованная. Весь Исход – прямой саботаж Высшей воли, непростительная трусость и робость, истории неверия в Господа и Господу тех, кому Он предназначил Святую Землю. И именно с этим, всего страшащимся, колеблемым ветром племенем был заключен Завет.
Но разве мы найдем что-то подобное в нашей литургии? Хотя вся она так или иначе восходит к Писанию, в ней что Бог, что народ совсем не те. Их и захочешь – не узнаешь. Вся служба – сплошное «Аллилуйя», и неважно, как ее возглашают: троекратно у синодальных, или сугубо – у раскольников; в ней сначала и до конца одно только «славься». И понятно почему. Перед тобой Единый Бог и единый народ, и ни в том, ни в другом нет капли сомнения. И что скоро все спасутся, ждать недолго, до Небесного Иерусалима рукой подать, тоже подтвердит каждый.