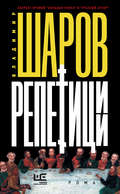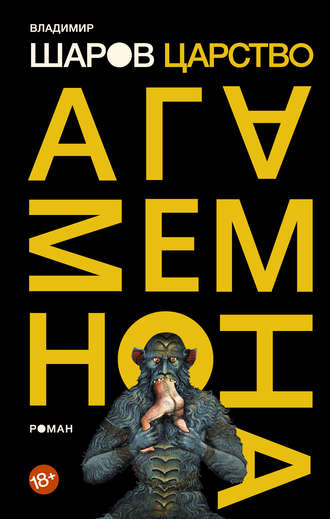
Владимир Шаров
Царство Агамемнона
С двух до четырех барон отдыхал. У твоей матери вечно была бездна дел и, получив вольную, она обычно уходила из мастерской. Мы же с Троттом оставались дома: ели, если было что, пили чай и разговаривали. Очень часто о православном каноне – как и когда он складывался, об отцах церкви и литургике. Может, канон его и вправду интересовал, может, нравилось, что благодаря семинарии я в подобных вещах неплохо разбираюсь.
И вот с кружкой кипятка в руках мы ведем неспешную теологическую беседу, время примерно без пятнадцати четыре, то есть перерыв уже заканчивается и Тротту скоро к мольберту. Мать тоже должна появиться с минуты на минуту, ей еще надо раздеться, напудриться, подчеркнуть черной краской брови и красной – губы, в общем, привести себя в порядок – для всего этого барон в углу мастерской старыми холстами выгородил ей гримерную.
Она открывает дверь – и Тротт смотрит на часы: ее точностью он доволен. Потом я догадываюсь, что весь свой обеденный перерыв якутка провела у подруги, доводила до совершенства то, что последует дальше.
На ней японское кимоно с драконами, оно и вправду очень ей идет. Прежде так одетой Тротт ее никогда не видел и теперь смотрит на якутку с интересом. С большими раскосыми глазами и высокими скулами, вдобавок с волосами, уложенными как у настоящей гейши, она смотрится чистопородной японкой. Барону в новом обличье она явно нравится. Понимая, что это успех, – держит паузу, стоит минуту или две, дает нам возможность оценить и свой наряд, и макияж, главное, саму себя. Потом не в закутке за холстами, а прямо перед нами медленно, плавно начинает раздеваться. Достает, высвобождает из бесконечных складок шёлка гру́ди, живот, наконец бёдра и ноги.
Она видит, что я свою партию пока играю как надо, от ее щедрот глаз не могу оторвать, то есть мной она довольна и бароном тоже довольна – кимоно произвело впечатление. В общем, как будто всё идет хорошо, даже очень хорошо. Но, увы, она не знает, что это ее последний успех. Что полоса везения тут обрывается. И сейчас барон, даже не заметив, по́ходя на всю жизнь выбьет ее из седла. Потому что, едва она делается голой, Тротт о ней забывает, просто отворачивается.
Потом, – говорил отец, – когда мы уже жили вместе, я часто от нее слышал, что с моего согласия, больше того, при прямом моем попустительстве она и пошла по рукам. Где я был со своей любовью, когда она, еще невинная девушка, раздевалась для Тротта, когда только и думала, как с ним переспать? Без ропота, по первой просьбе принимала позы, на которые и проститутка не пойдет.
Короче, Тротт и я работали вдвоем, на пару сделали ее шалавой – один, причем бездарно, рисовал для борделя, а другой за обе щеки уплетал хлеб, которым она оплатила собственный позор. Впрочем, говорила мать, она и сейчас жалеет, что барон на нее не польстился, потому что та история сломала ее через колено. Так что люблю я ее или не люблю, кому это важно? Ничего хорошего у нас всё равно не получится.
Я понимаю, – говорит отец, – что в ее обвинениях была правда. В том, как началась ее взрослая жизнь, было много непростительного. Публичный дом, для которого Тротт ее рисовал, – заказчик покривился, покривился, но в конце концов три панно с твоей матерью взял, – закрылся только на исходе НЭПа. Не то чтобы среди наших знакомых были завсегдатаи подобных заведений, но Тротт хороший портретист, и ее узнавали.
У нас уже были и ты и Зорик – слыша перешептывания на свой счет, она буквально взрывалась. Помню, что однажды какая-то моя дальняя родня – приезжий с Украины – осторожно спросил, нет ли сестры, очень на нее похожей, – так его просто спустили с лестницы. В общем, Тротт и я были свидетелями унижения, которое ни забыть, ни простить она не могла. Будь мы по одиночке, мать со своим до крайности причудливым умом давно бы что-нибудь придумала, объяснила, в том числе и самой себе, что никакой мастерской никогда не было, но нас было двое, и с этой стереоскопичностью она не знала, что делать.
Между тем, – рассказывал отец, – в жизни Тротта наметились перемены. Кимоно стало последней каплей – барон осознал, что заказ горит ярким пламенем и, если он не хочет, чтобы мы в полном составе пошли по миру, необходимо что-то предпринять. Проблема решилась за один день, правда, Тротту для этого пришлось достать из кубышки страховую заначку – десять червонцев.
Человек прижимистый, барон тянул до последнего. А так заказчик подобрал в соседнем борделе, который, думаю, и содержал, для Тротта неплохую барышню – десяти червонцев хватило как раз на месяц. Девушка во всех отношениях была в его вкусе, главное же, у нее не было недостатков твоей матери. Сильная, красивая и очень яркая казачка, не знаю, что там намешалось, но восточной крови тоже было немало. Барышня рассказывала по-разному, но, кажется, одна ее бабка была турчанкой, а другая черкешенкой. С новой натурщицей дело сразу заладилось.
Наверстывая время, Тротт писал свою барышню весь световой день. Заплаченные за нее червонцы казачка отрабатывала и ночью. Барон, раздвинув холсты, в несколько раз увеличил закуток, в котором прежде была гримерная твоей матери, сколотил из брусьев и досок помост, – уложил на него два набитых ватой матраса, в итоге у них с казачкой получился уютный будуар.
Чтобы не путались под ногами, нас он отселил в глухой, без окон, угол мастерской. Мы сами отгородили его кусками фанеры, а затем занавеской поделили на две крохотные комнатушки. Оба, кажется, поначалу ликовали. Барон работал, а мы – каждый в собственной каморке – радовались жизни. Я читал, что делала мать, не знаю. Но ночью выяснялось, что и своя каморка еще не рай, в лучшем случае его преддверие.
По-видимому, Тротт был могуч или просто он изголодался за два месяца, что ему позировала твоя мать. Теперь, когда работа пошла, его отпустило и он во всех смыслах был на подъеме. Нас они, естественно, не стеснялись. Казачка кричала так, – рассказывал отец, – что мы до утра глаз не могли сомкнуть.
Мы с ней оба были девственниками, но скоро, как и что мужчина делает с женщиной в постели, знали до тонкостей. Нам казалось, что Тротт своей барышне не дает отдохнуть и минуты, мучает ее прямо с яростью, будто идет его последняя ночь. И ему хватало сил и на это, и на работу. Троттовскую мастерскую, – рассказывал отец, – я вспоминал, и когда мы уже жили с якуткой, даже по видимости всё у нас было неплохо, и когда она уходила к моему кузену Сергею Телегину. Вспоминал в тюрьме и на воле. Вывод всякий раз был один, он и сейчас кажется мне недалеким от истины.
Суть его в том, что как сложилось, так сложилось, никто из нас виноват ни в чем не был. Больше того, в обстоятельствах, в каких мы оказались, все вели себя вполне пристойно. И барон, который нас пустил жить к себе в мастерскую и почти год содержал. Кормил, поил, одевал на свой счет, что он не захотел спать с троюродной сестрой – ему ведь в вину не поставишь. В общем, чересчур похабное было время, а дальше – твоя мать права – ничего было не поправить.
Тревожит меня и другая мысль, – объяснял отец, – твой дед и мой отец Осип Жестовский настаивал и настоял, чтобы, прежде чем уйти в монастырь, я узнал жизнь. Только вряд ли он себе представлял эту мою жизнь. То, что он хотел, было из другого времени, общего – кот наплакал. И тут уже речь обо мне. Стоило ли в совсем новых декорациях продолжать следовать у него в кильватере? Но может, да, стоило.
Дожив в Белграде до конца тридцатых годов, твой дед ни разу мне не написал, что ошибся, что было бы куда лучше, прими я постриг. Ну тут другой вопрос – где: монастыри ведь позакрывали, а монахов поставили к стенке, будто белых в Крыму. Выходит, везде клин. Налево пойдешь, черт знает на что набредешь. И направо тоже не лучше.
Я о монашестве думал, – говорил отец, – и когда якутка от меня уходила и когда возвращалась, думал, когда она мне сказала, что мои дети на самом деле не мои, ей их сделал Сережа Телегин. И еще раньше, когда лежал у себя за занавесочкой в мастерской, а Тротт всё не мог успокоиться, до первых петухов мучал, мучал свою барышню.
Между тем работа была выполнена и триумфально сдана заказчику. Сорок огромных масел – два на три. Разврат во всех культурах и во всех его видах. Занимающиеся любовью индийские боги, греческие оргии, пляшущий вприпрыжку козлоногий Пан, окруженный сладострастными сиренами, и Вакх с вакханками, римские бани и лупанарии.
Сцен из жизни Вечного города была добрая половина. Пару лет назад барон по случаю прикупил альбом фресок из Помпей и Геркуланума. Теперь они пошли в ход, очень ускорили дело. Работы с твоей матерью Тротт переложил работами с новой натурщицей, заказчик взял все и заплатил даже щедрее, чем обещал. Вернул Тротту и его десять червонцев, отданные за барышню.
Началась сытая полоса. НЭП вошел в силу, рестораны открывались как грибы, и барон, уже сделавший себе имя, был нарасхват. Вдобавок пошли государственные заказы – тоже немалые. Например, барон, зазвав в помощники старого товарища по академии – одному было не справиться, – оформил физкультурный парад 1 Мая, который прошел на Красной площади. Как и рестораторы, его обнаженную или почти обнаженную натуру власть приняла на ура. В общем, к концу двадцать первого года Тротт имел на руках столько денег, что ребром встал вопрос, что с ними делать.
Заказов было много, прежнего куска мастерской ему не хватало, да и от нас он устал. Взвесив и одно и другое, барон пришел к выводу, что сейчас самое время решить проблему. И вот как-то, когда якутки не было дома, а мы с ним сидели за столом и пили уже не кипяток, а настоящий чай, вдобавок не с сахарином, а со всамделишным сахаром, барон сказал, что три года назад мой дядя подарил ему пятьдесят червонцев, на которые и была куплена мастерская. Теперь он может и хочет вернуть долг. Но, зная мою натуру, понимает: надолго мне червонцев не хватит – я их или раздам, или просто потеряю.
Поэтому, как и мой дядя, он рассудил, что недвижимость надежнее золота. Ее так просто в распыл не пустишь. И присмотрел для меня светлую сухую комнату в Протопоповском переулке. Большую комнату с двумя окнами. Но тут есть одна заковыка – сейчас всё вздорожало и владелец просит не пятьдесят, а восемьдесят червонцев.
На сегодня и восемьдесят червонцев для него не вопрос, в общем, он согласен добавить, с тем, однако, чтобы на Протопоповский я взял с собой и якутку. Комнату нетрудно перегородить, значит, мы сможем жить – хотим врозь, хотим вместе. Я сказал, что меня, ясное дело, этот вариант устраивает, но устроит ли он ее, не переговорив с ней, сказать не могу. Впрочем, и здесь легко сладилось: твоя мать предложению барона была явно рада.
Вещей у нас было немного, можно было собраться за час, но пока оформляли ордер, прошел месяц; переехали мы, только получив его на руки. На прощание фон Тротт сделал нам три роскошных подарка: выдал сухой паек, в нем хлеб, шматок сала на килограмм, чай, сахар и отчего-то небольшая бутылочка спирта. К пайку добавил американскую пишущую машинку “Ремингтон” в очень хорошем состоянии – мать в начале Гражданской войны занесло в Саратов, и там она в штабе атамана Дутова перепечатывала приказы. Барон про Дутова знал и, отдавая машинку, сказал, что с ней на кусок хлеба она всегда заработает.
Третий подарок ждал нас уже на Протопоповском – в комнате стояла широкая железная кровать с пружинками. Впрочем, кровать была только одна, и твоя мать так на меня посмотрела, что я сразу понял: спать буду на полу. Электрического тока не давали, светло было только рядом с окнами, но на улице быстро смеркалось, и мы, неизвестно куда спеша, каждый на своем куске подоконника стали раскладывать скарб, потом середину того же подоконника приспособили под стол, а позже разгородили комнату на две.
Ели, – рассказывал отец, – хлеб с салом, картошку, всё это на радостях запивая троттовским спиртом. Но или по незнанию недостаточно его разбавили, или с голодухи он как-то странно на нас подействовал, в общем, что было дальше, ни твоя мать, ни я не помнили. Хотя, думаю, дело было не в одном спирте, просто, насмотревшись, наслушавшись того, что творилось у барона, мы больше не могли поститься. И знали достаточно, чтобы никаких проблем не возникло. Выходит, нужда во второй кровати отпала. Правда, утром, – рассказывал отец дальше, – я, как ты понимаешь, в самом светлом состоянии духа сходил умыться, вернувшись же, вижу, что якутка, скрестив ноги, сидит в рубашке на постели и смотрит на меня злобным волчонком.
Я не удержался, говорю: “Знаешь ли, в соответствии с новым уставом Всероссийского комсомола, если комсомолец занимает активную жизненную позицию и регулярно платит членские взносы, любая комсомолка из их ячейки обязана отдаваться ему по первому требованию”. Но она только процедила: “Ты не комсомолец”, – укрылась с головой одеялом и отвернулась к стене. Когда же наконец соизволила встать, заявила, что никаких прав на нее я не имею, она намерена пользоваться полной свободой, моих клятв она, естественно, тоже не ждет.
Эти условия показались мне справедливыми, я легко на них согласился. Считал, что после того, через что мы оба прошли, серьезных обязательств у нее передо мной быть не может. Сам я изменять ей не собирался. А в остальном мы ладили, жили довольно мирно. Теперь у меня была своя крыша над головой и, когда у него в Москве были дела, у нас стал останавливаться мой двоюродный брат, сын дяди, известный цирковой акробат – он выступал под фамилией Телегин.
Я Сережу всегда любил, – говорил отец, – был рад каждому его приезду. Кроме того, комната в Протопоповском была куплена на деньги Телегина-старшего, и по справедливости была не столько моя, сколько его. Впрочем, ни Сережу, ни меня подобные вопросы тогда не волновали.
В Протопоповском Ирина родила тебя, а еще через три года – я уже работал на заводе в горячем цеху – Зорика. Периодически она не ночевала дома, иногда исчезала даже на несколько дней, однако я неудовольствия не выказывал. Мне с ней было хорошо, я был натурально влюблен, но, конечно, знал, что она относится ко мне куда сдержаннее. Это было видно по всему. Хотя с работой помогала, что писал – на своем “Ремингтоне” без раздражения перепечатывала»”.
На полях:
Следующий разговор для меня памятен. Именно тогда впервые зашла речь о второй жене отца Электры – Лидии Беспаловой. Позже, в последние год-полтора жизни Электры, без нее не будет обходиться ни один наш разговор. Ее отношения с Жестовским во всех смыслах выйдут на первый план.
Еще через пару дней снова за чаем я говорю: “Скажите, Электра, а ваш отец никогда не вел дневника? Ведь жизнь у него выдалась такая, о какой нечасто услышишь – четыре срока, пять следствий”.
Электра: “На моей памяти – нет, а раньше точно да. К концу жизни, когда стала слабеть память, он, бывало, будто вы сейчас, начнет сокрушаться, что не вел поденных записей, и тут же смеется, что, если бы вел, дней бы этих не было – лет тридцать как лежал бы во рву с пулей в затылке. Рассказывал, что в тридцать пятом году, когда его в третий раз арестовали, дело попало к неглупому следователю, майору Стопареву.
Случай нечастый, у них, что у нас, план и потогонная система, а Стопарев никуда не спешил. И то выспрашивал, и это. Но больше другого дневниками интересовался. У отца было сложное положение. Он под подпиской «сделал ноги», прибавьте еще побег из-под стражи.
Месяцем раньше – я про нее, – поясняет Электра, – узнала уже в Воркуте – арестовали его тогдашнюю жену Лидию Беспалову. Она беременна на шестом месяце плюс открытая форма туберкулеза. В общем, он очень за нее боялся, ну и скучал, конечно, тоже. Решил просить свидания, ему дали, собрал кое-как посылку, теплые вещи, сухофрукты, табак – несмотря на больные легкие, она дымила как паровоз – и пошел.
Всё отдал, посмотрели они друг на друга, и больше он ее никогда не видел. И ребеночка, девочку Ксению, которая в лагере родилась, не видел. Ксения слабенькая оказалась, года не прожила. Саму же Лидию в тридцать шестом году отправили в Курган на переследование и дали вышку.
Возвращаясь, отец понял, что за ним пустили топтуна. Думали, наверное, выяснить, где у него лежбище, и всех, кто с ним и с Лидией связан, загрести. Но отец был уже опытный, он топтуна вычислил – дело было в Уфалее: городок маленький, улицы пустые, незнакомого человека сразу видишь, – и решил, что будет водить и водить его по кругу, пока служивому не надоест. Но не рассчитал: у топтуна добротная новая шинель, а у самого отца подбитое ветром ветхое пальтишко.
Январь, холод страшный, он уже сутки не ел. В общем, отец первый стал замерзать. Руки, ноги деревенеют, до конца ни одну мысль не додумать, засыпаешь прямо на ходу. Правда, главное пока помнишь: в дом, где тепло, где они с Лидией чалились, идти нельзя.
Недалеко от городского вокзала отец понял, что совсем околевает, свернул туда. Хотя знал, что если где и не уйти – как раз с вокзала. И всё равно пошел. Взяли его в зале ожидания. Только сел на лавку – прямо у буржуйки место освободилось – стал отогреваться, подгребают двое – оба в штатском, – один книжечку в лицо тычет, а другой вежливо: «Пожалуйста, ваши документы», потом: «Пройдемте».
Челябинский поезд пришел через два часа, на нем отца и повезли. К тому времени он уже отогрелся, когда увидел, что скоро длинный тягун – они с Лидией здесь два года бродяжили, знали эти места как свои пять пальцев, – попросился в уборную”.
Дальше рассказывал так: “Идем – занято, вышли покурить в тамбур, чекист в штатском и ведет себя со мной как с приятелем. Когда он себе папиросу из портсигара доставал, я ему сделал подсечку – старый телегинский трюк – втащил в другой вагон и будто пьяного как куль бросил, никто и внимания не обратил. Закрываю аккуратно дверь и из тамбура сигаю наружу.
Скорость небольшая, сугроб глубокий, упал удачно – только отряхнуться. Сразу за канавой лесок, к нему и метнулся, дальше речка, мост, а после моста три дороги, какая мне по вкусу придется – не вычислишь. Я уже спокойно, чтобы внимания не привлекать, пошел по той, что ближе к реке – через три километра деревня, на краю дом совхозной счетоводши некой Антонины, женщины очень богомольной, строгой и скрытной. Я у нее не раз литургию служил. У Антонины в доме был второй погреб, сделано так искусно, что, если не знать, никогда не найдешь – вход из каморки в сенях. Хороший, обшитый досками, со столом и лавкой. Однажды я почти три недели там жил, ждал, пока обо мне забудут, переключатся на других бедолаг.
По-новому меня тогда арестовали только через полгода. Про свой побег, – рассказывал отец, – я и думать забыл, столько всего было, а тут выясняется, что я забыл, а они не забыли, и что это не просто побег, а с нанесением тяжких телесных повреждений – конвоир мой головой ушибся, сотрясение мозга. Вдобавок при исполнении… В общем, как ни крути, расстрельная статья. Самому никогда не выпутаться, только если следователь захочет, пособит, еще можно надеяться. Короче, я моему Стопареву ни в чем не отказывал”.
“Не отказывать отцу было тем проще, – говорит Электра, – что по натуре он был парный игрок и чуть не с первого допроса умел делаться со следователем одним целым, понимал его и чувствовал как себя”.
“И вот, – рассказывал отец, – я Стопареву всё как есть разложил по полочкам и снова к дневнику возвращаюсь. Тем более что он напомнил, говорит: «Скажите, Жестовский, почему мы, когда ваших берем, каждый раз дневники находим? Штука, как понимаете, для нас полезная, человек собственноручно дает на себя показания, и так год за годом, ни дня не пропустит. Тут уж не отвертишься – сразу можно писать приговор. А вы уже, видно, знаете, что к чему, не захотели нам помочь, всё сожгли?»”
Я: “Да нет, просто жизнь больно паскудная, мотаешься, мотаешься, где голову преклонить, не знаешь. Тут хочешь не хочешь лишнего не потащишь”.
Через пару дней Стопарев опять: “А почему всё же ваши ведут дневники? Или они вперед не смотрят, только о том и думают, как бы назад воротиться?”
Я ему: “Гражданин следователь, это потому, что у человека желудок однокамерный, набьешь его, если повезет, и спать валишься, а у коровы, у той двухкамерный, может, и больше, я точно не знаю. Как мы живем? Направо, налево – везде калейдоскоп и мельтешение, стремительность прямо кинематографическая. Одно, другое – не уследишь.
То же и корова: на пастбище рвет-рвет губами траву, до чего мордой дотянется, всё не разбирая хавает. А потом в хлеву ночью, что за день надыбала, шматок за шматком из рубца отрыгивает и уже заново, с толком с расстановкой, до утра жует. Так и у нас, попутчиков пролетариата: ближе к ночи сядешь за стол – и что было за день, по второму кругу обдумываешь. По-другому понимаешь, что́ суета сует, томление духа, а что́ следует оставить, потому, что в этом и соль”.
“Правда, отец со Стопаревым тогда слукавил, – говорила мне Электра на следующий день. – Дневник он бросил вести не потому, что приходилось бегать, скрываться. В двадцать восьмом году мать в очередной раз рассталась с Сергеем Телегиным (папой Сережей) и мы трое – она, Зорик, и я – опять стали жить с отцом (папой Колей) в наших прежних комнатах в Протопоповском.
Отец к тому времени полгода как освободился, больше того, Телегин устроил, что без минуса, с немалыми трудами он даже опять прописал папу Колю в Москве: помогло, что у самого Телегина карьера шла круто вверх. Кто-то, с кем он после Гражданской войны служил на польской границе, сражался с бандами Булак-Балаховича, выбился в большие начальники и теперь снова звал его с собой, на сей раз в Среднюю Азию. Мы там завязли в песках, пытаясь выследить басмачей, каждый месяц теряли сотни людей, но ситуацию переломить не могли. Командировка на два года, а учитывая, что сейчас это передний край, опаснейший участок борьбы с контрреволюцией, – звания, чины, награды все вне очереди и выслуги.
В общем, мать понимала, что отказаться папа Сережа не может, если откажется – не сохранит и то, что имеет. Получалось, что ей тоже придется с ним ехать. Поначалу мать думала, что она с нами будет жить в Ташкенте, а Телегин по мере возможности туда наезжать. Ей казалось, что в Ташкенте так или иначе, но свой быт она наладит, хотя вообще-то в Среднюю Азию, в тамошнюю жару и чудовищную антисанитарию ехать категорически не хотела – уж больно была брезглива. И мы с Зориком не хотели. Я ходила в школу, очень хорошую, сто десятую, и была влюблена в свою учительницу Надежду Леопольдовну, из «бывших». Надежда Леопольдовна была красивая и ласковая, хотя другие девочки считали ее слишком грустной.
Наверное, было разумно не тащить нас бог знает куда, а оставить с папой Колей, о чем он много раз просил, объяснял маме, что ей будет только легче – но у мамы была идефикс, что Жестовский камень на шее, он кого хочешь утянет на дно, оттого чем больше мы к нему привязаны, тем хуже.
О том, чтобы навсегда нас от него отлучить, она не думала, но считала, что место папы Коли в нашей жизни – второй, третий план. Тем более что уже успела всем и вся объявить, что мы дети Сергея Телегина (папы Сережи), героя и заслуженного чекиста, соответственно к Николаю Жестовскому (папе Коле), неустроенному, неприкаянному человеку, который вдобавок не первый раз оказывается замешан в крайне неприглядные истории (это о папиных посадках), не имеем никакого отношения. Мы же смотрели на дело иначе.
Мы очень любили папу Сережу. Я ведь говорила, – продолжала Электра, – что он был и молодцеват, и настоящий атлет, вдобавок никогда не отказывался с нами поиграть, а на дни рождения буквально заваливал замечательными подарками. У меня, например (единственной в классе), были целых три фарфоровые куклы, которые не просто открывали и закрывали глаза, а умели напевать песенки и по-немецки желать спокойной ночи. Зорику на его недавнее четырехлетие папа Сережа принес игрушечную железную дорогу с тремя локомотивами и двумя десятками тендерных вагонов, с туннелями, подъездными путями и зданием вокзала – на его фронтоне даже ходили часы, с водокачкой и ремонтным депо.
Но в отличие от матери мы боялись потерять и папу Колю. Когда он на несколько лет уезжал, мы не понимали, почему он соглашается так долго жить без нас, и очень по нему скучали. Я и от себя и от Зорика писала ему большие подробные письма, где рассказывала всё, что происходит в нашей жизни, например, что пошла в школу, мою учительницу зовут Надежда Леопольдовна и она очень добрая, а Зорика перевели в старшую группу детского сада, он там читает по слогам. Всё оттого, что не любила, когда люди, которые давно тебя не видели, деланно изумляются, как ты выросла, и всплескивают руками.
И папа Коля на каждое мое письмо, пусть и не сразу, отвечал. Не просто рассказывал, где он сейчас живет, работает, а внизу и на полях страничек рисовал красивые картинки. И мы с Зориком знали, как выглядят горы, он их называл сопками, которые папа Коля видит из одного из своих окон, море, на которое можно смотреть из другого.
Море то было чистым, то по нему плавали льдины, а на склонах гор, когда сходил снег, расцветали цветы. Сначала совсем белые, потом, ближе к середине лета новые – ярко-желтые и красные. Цветы вместе со мхом и лишайником он тоже нам рисовал, а для того, чтобы мы лучше запомнили, рядом аккуратно приписывал их названия, по-русски и по-латыни. Также и с бабочками, которых сажал прямо на цветы, и птицами, что ютились на выступающих из моря скалах.
А еще в этих письмах он помогал мне решать задачки по математике – прежде я отставала, а тут вышла у Надежды Леопольдовны в лучшие ученицы, – и к каждой придумывал загадку или шараду. Некоторые были очень сложные, даже мама их разгадать не могла, а Надежда Леопольдовна могла: найдя ответ, она всякий раз била в ладоши и смеялась, так они ей нравились.
В общем, оставлять нас с папой Колей в мамины планы не входило, но тут на работе Телегину объявили, что о Ташкенте и речи нет, если с ним едет жена – это хорошо, он вправе рассчитывать на отдельную мазанку на той же погранзаставе в предгорьях Копетдага, куда сам назначен командовать. Копетдаг стал ударом ниже пояса. Два дня мама проплакала, а потом объявила Жестовскому, что решила к нему вернуться.
Впрочем, первые несколько дней она была тихая и вялая, ни во что не вмешивалась, до вечера не вставала, лежала в постели. Или на той же постели сидит, закутавшись в шаль, ждет, когда отец, собрав меня в школу, а Зорика в детский сад, подведет к ней прощаться. Перекинется несколькими словами, поцелует и снова отвернется к стенке. И мы и отец понимали, что ей очень тяжело, и старались не шуметь, даже если хотели поиграть, чтобы не тревожить, уходили в коридор.
Но мама была сильным человеком, за пять дней она пришла в себя и решила, что раз так вышло, что она снова хозяйка на Протопоповском, будет разумно привести комнаты в порядок. Началась генеральная зачистка территории или, как сказал отец, правильно не ждавший для себя ничего хорошего, – общий шмон. Среди того, что было тогда выкинуто, лагерные письма отца мне и Зорику, но сейчас речь не о них.
В одном из сундуков мама наткнулась на отцовский дневник и, не сомневаясь, что имеет полное право, стала его читать. То, что она там нашла, потрясло ее не меньше афганской погранзаставы. По-видимому, отец очень о ней тосковал. По несколько раз в месяц он записывал, что всю ночь ему снилось, как они, обнявшись, вместе гуляют по Бульварному кольцу, проходят его от Арбата до Яузы. Не отпуская друг друга, посидят на скамейке и идут дальше.
И хотя это был лишь сон, просыпался он таким радостным, каким себя и не помнит. Под другим числом она обнаружила, что опять же всю ночь была рядом с ним, он держал ее в своих объятиях. Тут же снова: какое счастье чувствовать рядом с собой ее тепло, слушать, как она дышит. Но доканала мать следующая запись, которую она зачитала нам с Зориком с начала и до конца.
«Мне снилось, – писал отец, – что она лежит рядом. Лежит тихо, даже кажется, дремлет. А я ее ласкаю. И всё было так натурально, что я не сомневался, что наяву. Страсти, может, от того, что она спала, было немного, зато великая нежность. И в том, как ее гладил и как целовал, касался губами совсем легко, потому что боялся, что разбужу и она будет недовольна. Потом, когда всё закончилось и мы лежали рядом, оба потные, я, чтобы ей не было неприятно, немного отодвинулся. И сразу заснул.
И тут, будто меня решили наказать, мне стал сниться какой-то несправедливо плохой сон, а по отношению к ней просто подлый. Что вот мы встречаемся на улице, она с каким-то человеком в военном френче, глаза у него недобрые и он плохо выбрит. У обоих совсем чужие лица, но видно, что они не просто идут рядом, их связывают те же отношения, что раньше связывали нас с ней, но она всё оборвала и теперь живет с ним.
На меня и она, и он смотрят недружелюбно, будто я неслучайно тут оказался, специально их выслеживал. И вот как раз на этом я просыпаюсь, хочу просить у нее прощения, буквально валяться в ногах, потому что первая часть сна, когда я ее ласкал, – явь, а вот эта мерзкая сцена на улице – ложь, и до меня очень медленно, очень мучительно – слишком крепко я спал – доходит, что всё наоборот».
Мать была разъярена. Получалось, что она бросила человека, отказала ему в своей любви, а он, будто так и надо, продолжал каждую ночь ее иметь. Ясно, что это было настоящим насилием, прямым надругательством над ней, над ее волей и телом. Оставлять без последствий подобную мерзость никто не имел права. Мать знала толк в выстроенных, по-театральному выверенных мизансценах. Когда отец с нами пришел домой, она поставила его у стола, сама с дневником села в кресло, а мы – я и Зорик, держась за подлокотники, должны были фланкировать ситуацию. Получился настоящий суд.
Отец, который уже не в первый раз ждал вынесения приговора, лучше других понимал, что к чему, и буквально дрожал, мы тоже нервничали. Но мать читала отчеркнутые записи уверенно, явно чувствовала себя на коне. Очевидно, поначалу планировались лишь несколько ярких абзацев, но отец хорошо писал, и она увлеклась. Переворачивала страницу за страницей.
Похоже, она даже не заметила, что я, а потом и Зорик, отошли от кресла и, сделав несколько шагов до отца, к нему прижались. Когда мать поняла, что произошло, она несколько минут проплакала, а затем – как была в слезах – убежала в свою комнату. Дальше, пока не вышел весь срок командировки папы Сережи в Среднюю Азию, мы прожили вполне тихо и мирно.