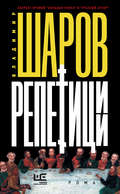Владимир Шаров
Будьте как дети
Тут к нам Дуся подходит. Я тяну к ней руки, молю ее, свою крестную, помочь. Клянусь, что больше на водку эту проклятую и не посмотрю, ругаю, голубушку, зельем, отравой. Плакать, конечно, тоже не забываю, мне это легко, я всегда был плаксив, будто девочка. Били меня за слезы – вспомнить страшно. Всё же я то надеюсь на Дусю, то нет. Она ведь понимает, что ни одному моему слову верить нельзя, да и вообще, сколько я себя помню, она хоть и крестная, всегда меня на дух не переносила. Однако сейчас я, наверное, хорошо, талантливо плачу, словом, Дуся колеблется. Вдобавок и мать моя начинает рыдать, следом отец. А свинья спокойна, дышит ровно, жует размеренно. В общем, сочувствие не ее конек. Но зря она, скотина нечистая, думает, что мы в разных лодках, все мы одной ниточкой повязаны. Пусть мои слезы – тьфу и слезы отца – тоже тьфу, потому что он теперь не хуже меня за ворот закладывает, но мать мою Дуся очень даже любит. Любит, жалеет и отказать мало в чем может.
Что Дуся, моя крестная, и впрямь настоящая прозорливица, с самого начала никаких иллюзий насчет меня не питала, я узнал давно, во время проповеди бывшего Дусиного духовника отца Никодима, в миру Алексея Полуэктова. Однако тогда внимания на это не обратил.
Каким отец Никодим был до своих трех лагерных сроков, мне ведомо только по ее рассказам, но и в пятьдесят девятом, когда я по воскресеньям стал ездить к нему в Снегири исповедоваться и причащаться, он произвел на меня немалое впечатление. Домовая церковь помещалась в цокольном этаже старой кирпичной дачи. Отношений с катакомбниками хозяева не поддерживали и особенно не таились, однако лишний раз дразнить власти никто не собирался, на службу больше шести-семи прихожан из Москвы обычно не приезжало. Хотя паства была невелика, Никодим служил с видимой радостью. За двадцать пять лет заключения он стосковался без храма, без правильной литургии и теперь, стоя за аналоем, вел службу очень торжественно. Из чина ничего не сокращал и не упускал, не спеша, со значением пел каждое слово.
Поначалу я был доволен и его проповедями. После службы он с редким искусством объяснял трудные места из Священного Писания – ты задавал вопросы, и он тут же, не откладывая дело в долгий ящик, отвечал. Кроме Священного Писания, он – правда, обычно с осторожностью – касался и тем вполне современных. Убежден, что без этих его наставлений жизнь многих из нас сложилась бы по-другому. Под осторожностью я имею в виду не эзопов язык; просто, говоря о вещах, с точки зрения властей безобидных, он всякий раз вписывал их в некую систему, так что и другое, о чем не было сказано, тоже становилось понятным. Но о его толкованиях пока рано. Ведь отец Никодим говорил о вере не подряд, шаг за шагом, а по вдохновению, как бог на душу положит, и еще много воды утечет, прежде чем я о чем-то начну догадываться.
Сейчас, во сне, я вижу его стоящим на амвоне 15 мая шестидесятого года. Это аккурат день моих именин и день памяти святого благоверного царевича Димитрия. Но крестить меня должны были не 15, а 11, когда поминают святых просветителей Кирилла и Мефодия. С Мефодием ясно: имя по нынешним временам экзотическое, но чтобы меня назвали Кириллом, отец, например, очень хотел. Однако Дуся настояла именно на Дмитрии. Значит, она еще тогда, за девятнадцать лет до ДК им. Зуева, знала, что у меня будет падучая. И уже тогда от меня, семи дней от роду, ничего хорошего не ждала. Потому что отец Никодим кончает свою проповедь тем, что все беды Русской земли начались после того, как был канонизирован царевич Димитрий, стал святым этот бесноватый ребенок. Оказывается, канонизация больного падучей – смертный грех. Среди прочего зла она породила страшную детскую ересь, до сего дня не дающую нам спокойно жить. Вот, значит, что за поводыря и ходатая перед Богом выбрала мне крестная.
Но что бы она по моему поводу ни думала, просить о помощи больше некого. Тем более что Дуся очень кстати стоит у загончика и видит, какой я лежу больной да несчастный. Смотрит на меня, затем на свинью. Та по-прежнему тянет морду к корыту, но жевать перестала. Пасть открыта, слюни текут, а в глазах одна глупость. Между тем крестная принимается читать молитву. Она всегда молится спокойно, вдумчиво, не частит, концы слов не глотает. Молитва о нас со свиньей, и я, конечно, знаю, о чем Дуся просит Господа. Слушаю и иногда зыркаю на свою соседку.
Свинья тоже вроде бы слушает, но что молитва о ней, вряд ли догадывается. А если что-то и подозревает, сказать, возразить точно не успеет, и не потому, что животное человеческим языком говорить не может, а потому, что вдруг по всему ее огромному телу пойдут судороги. Зашатается она, заходит ходуном и так же будет кричать, как я в начале припадка. После ее повалит и станет бить, бить безо всякого снисхождения. Бить за то, что она ни разу меня не пожалела, не посочувствовала, как я ни мучился – слова обо мне хорошего не подумала. А дальше то ли сил в ней больше, то ли просто отец сменил накануне подстилку, принес несколько охапок хорошего сена, так что сколько ни падай, особо не расшибешься, в общем, она вскакивает на ноги и, в секунду разметав в щепки обе наши клетушки, бросается вон.
Отец с матерью – за ней. Ведь, если свинью не догнать, дома полгода не будет мяса. Ни разговеться по-настоящему на Рождество, ни Масленицы справить, и после Великого поста тоже на стол ничего не поставишь. Но пока они не унывают. Зима, белым-бело, и луна в большую тарелку. Полнолуние, видно как днем, так что, слава богу, след, где свинья снег таранила, не потеряешь. Кроме того, снега в эту зиму немало. В низких местах будет и по колено, на свинячьих ножках далеко не убежишь. В общем, родители бодры, отец даже смеется, представляет, как это приключение будет гостям пересказывать. Но тут – они еще не прошли и полкилометра – как на грех поднимается ветер. Начинается настоящий буран. Сразу такая темень и холод, что теперь отцу с матерью уже не до свиньи – самим бы выбраться на дорогу. В ту ночь они вернутся домой ни с чем. Свинью разыщут лишь через два дня. За деревней у нас глубокий овраг с петляющим внизу ручьем. С недавних пор городские наладились туда сваливать мусор. На свалке, уже наполовину съеденная собаками, она и будет лежать. И следы ее найдут – как она до края оврага добежала и, не останавливаясь, сиганула вниз.
До семнадцати лет без Дуси я себя почти не помню. Сначала я крестную любил, любил, наверное, так же сильно, как мать. Мне не мешало, что из детей меньше всех она жалует именно меня – я сам себе не особенно нравился. Позже я начал от Дуси отходить, но и тогда она оставалась одним из главных людей в моей жизни. Дальше два с лишним года мне было просто не до крестной. Затем случилась история с Сашенькой, которую и сейчас как простить – не знаю. Большинство наших то, что произошло, худо-бедно приняли, во всяком случае, ничего не распалось, никто не порвал с Дусей отношений, и это меня поразило, но и позже ни к чему, что с ней было связано, я возвращаться не захотел; наоборот, получи я возможность править свою жизнь, вычеркнул бы из нее Дусю без сожалений и остатка.
Теперь, на верных три десятилетия отступив от тех событий, я понимаю, что детство у меня было не слишком обычным. С конца пятидесятых годов власть один за другим закрывала храмы, священников ссылали, и среди моих сверстников крещены были единицы. Я же без Христа, пожалуй что, себя и не помню. Я понимаю, что вокруг Дуси существовал самый настоящий приход. В Москве еще с довоенных лет она была известна как большая прозорливица, ее знали, при необходимости прибегали к помощи очень многие. Но был и ближний круг – семей десять, – в который входили и мои родители. До начала семидесятых годов все они жили по соседству, в переулках вокруг Тверского бульвара и Никитских Ворот, во всех этих когда-то огромных и дорогих квартирах в Леонтьевском, Трубниковском, теперь давно переделанных в коммуналки. Комнат и семей в каждой из них было много, иногда и по пятнадцать, но везде оставалось что-то от прежней жизни: роскошный изразцовый камин, наборный паркет или сложнейшая лепнина на потолке. Были и вольтеровские кресла, и резные красного дерева буфеты, и витражи в парадных. Не то чтобы мы обращали на это внимание, однако, когда еще ребенком я попал в старый, размещавшийся во дворце музей, я мало чему удивился.
Живя здесь, и родители, и после мы ходили в одну и ту же школу – сто десятую. До двадцать первого года это была весьма известная в Москве Третья женская гимназия, после того как большевики прибрали к рукам образование, она стала называться Советской трудовой школой и получила новый номер – сто десятый. Но четверо учителей, в числе их директор и словесник с математичкой, прозванной за малый рост Молекулой, работали еще в гимназии, с ними неведомым образом ее дух пережил и революцию, и войну.
Во всяком случае, те из нас, кому пришлось перейти в другие школы, отчаянно тосковали. Вокруг было много начальственных домов, в каждом классе училось по несколько детей партработников, но и они ценили, что образование школа дает отличное, и менять ничего не хотели. Наоборот, покровительствовали директору. Я, признаться, давно подозревал, что Дуся неслучайно набрала себе духовных детей с этого приарбатского пятачка, что всё как-то связано с нашей школой, и недавно узнал, что был прав – в тринадцатом году она окончила ту же Третью гимназию.
Под руководством Дуси мы жили почти коммуной. Помогали друг другу, собирались вместе на праздники, именины и вместе же, заняв в электричке чуть не полвагона, ехали в Тулу. До отца Никодима много лет подряд мы исповедовались и причащались на заброшенном лесном кордоне, где жил старый священник из катакомбных – отец Иосаф. Незадолго перед тем он освободился из лагеря, ему здесь купили дом. По разговорам помню, что наши семьи скинулись, каждый дал, кто сколько мог, остальное доложила крестная. Я и сейчас не забыл, как все радовались, как гордились, что у нас теперь есть свой батюшка. Несмотря на опеку Дуси, многие из родительских знакомых чувствовали себя оставленными, отделенными от церкви, тяжело это переживали. Но выхода не было. В единственный поблизости действующий храм старались не заходить: про тамошнего священника твердо было известно, что он стучит на прихожан. По большим праздникам на литургию туда ходили, но никогда не исповедовались и не причащались.
На своей лесной заимке отец Иосаф и служил, и жил, мы же ездили к нему раз в месяц и обычно с бездной приключений. Сначала до Тулы на поезде, потом автобусом, дальше на лошадях, а когда нанять их не удавалось, почти пятнадцать километров шли пешком. На кордоне было еще три дома. Раньше они тоже принадлежали лесникам, но постепенно мы купили и их, после чего две трети нас – детей с бабушками и няньками – не уезжали оттуда до сентября.
В моей жизни четыре лета под Венёвом – точно самое светлое время. Грибы, ягоды – всего была бездна, вдобавок в полукилометре небольшое, но очень чистое лесное озеро с купанием и рыбалкой. В общем, мы жили там, словно в раю, счастливые, безгрешные.
На кордоне в домашней церкви отец Иосаф каждый день служил и заутреню и обедню, на которую ходили, конечно, охотнее. Исповедовались мы у него раз в неделю, хотя, в отличие от Москвы, где, как бы ни был ты мал, грех лип к тебе и лип, каяться, если не считать мелочей, было не в чем. Рядом с отцом Иосафом ни в нас самих, ни вокруг не было грязи, и я до сих пор помню это свое ощущение чистоты: в Москве я его тоже помню, но совсем коротким и лишь после исповеди, а здесь мы с ним вставали и с ним засыпали.
Дуся, хоть и была юродивой, понимала значение денег и, чтобы наша община не захирела, не чинясь перераспределяла их. Большинство семей было небогато – где было много детей, даже подголадывали: родители работали инженерами, младшими научными сотрудниками, учителями, но был и свой миллионер – драматург, пьесы которого шли в десятках театров. Потом число капиталистов неожиданно удвоилось. В коммуналке соседнюю с нами комнату занимал работавший в заводской многотиражке нищий поэт. Фамилия его Коростылев. Человек он был добрый, хотя по большей части пьян в зюзю. Жил он один, без жены, без детей, и мне, еще маленькому, казалось, что он любит крестную немного по-другому, чем остальные. Кроме того, что ему приходилось делать в газете, он, если не был пьян, а может, и пьяным тоже, писал странные духовные стихи, которые надо было петь, как в церкви во время литургии поют тропари. Каждое из них он потом вручную отпечатывал в заводской типографии и, надписав, дарил Дусе.
Три-четыре раза в год, обычно недели на две, крестная, никого и ни о чем не предупредив, исчезала. Говорили, что она ездит молиться куда-то на Север. И вот в одну из отлучек своей музы Коростылев согрешил: на спор сочинил для газеты пару песен о покорении целины, о чем мы узнали, лишь когда их уже распевала вся страна. Я и сейчас вижу, что в нем был этот дар, даже в плохих его стихах слова естественно ложатся на музыку. В отличие от нашего драматурга, славы он откровенно стыдился, дальше, как и прежде, писал для одной Дуси, а про те две песни говорил, что его бес попутал. Однако гонорары за них еще лет шесть были для него, да и для остальных, немалым подспорьем.
Финансовые вопросы решались Дусей настолько тихо, что до студенческой скамьи я, например, ни о чем даже не догадывался. У нее был свой ключ от каждой квартиры, кроме того, у нас было заведено, что кошелек в любом доме лежит на видном месте, обычно на серванте. Кстати, мы, дети, лет с семи могли пользоваться тем, что там было, свободно. Такой порядок тоже шел от крестной, и надо сказать, никто этой необыкновенной привилегией не злоупотреблял. Брали сколько надо, на кино, на мороженое или на газировку, и то если видели, что берем не последнее.
Не просить денег, никогда и ни перед кем из-за них не унижаться было еще одним Дусиным правилом, и соблюдалось оно неукоснительно. Всем она занималась лично. В квартире, где в конце месяца, то есть перед получкой, в самое нищее время, кошелек по-прежнему был толст, она забирала сколько считала правильным, потом, никому ничего не сказав, как пчелка, несла в другие дома. Несла тем, кому иначе трешку или пятерку пришлось бы перехватывать у соседей. Этакая калика перехожая по московским квартирам, она немало брала, но не меньше и раздавала.
Ее не обманывали ни бедные, что понятно, ни богатые. Оба они, и драматург, и поэт, были у нас милостивы, богобоязненны и радовались, что могут помочь ближним – это правда, иронии тут нет. Возможно, что иногда денег недоставало, и тогда, как я слышал, в ход шел карман Дусиного засаленного фартука, который вместе с деревенской юбкой и шерстяной, тоже деревенской вязки кофтой был ее униформой, а в карман вместе с просьбами помолиться об успехе начатых дел, о благополучии и здравии собственном и родных клали деньги другие прихожане крестной. Но нужда в переднике возникала редко: мы знали, это Дусины личные сборы и предназначаются они тайным монастырям катакомбников.
Доходы, как говорили, были порядочные. В Москве многие были уверены, что Дуся святая и Господь мало в чем может ей отказать. Ее просили о разном, в том числе и о вещах вполне земных, например, о повышении по службе, об избрании в академики или чтобы вернулся муж. Что именно хотят от Бога, в каком деле ищут ее поддержку, крестная не вникала, она просто брала конверт с деньгами, на котором, словно обратный адрес, было написано имя просившего, и молилась, чтобы Господь ему помог.
Мы тоже знали, что Дуся большая молитвословица и что стоит вместе с ней о чем-нибудь попросить Господа, Он тебе не откажет. Но она защищала нас не только молитвой. Мы ходим в школу, вступаем в пионеры, когда придет время, и в комсомол. Она во всё посвящена, всё делается с ее санкции. Больше того, это делается по ее слову, она говорит нам вступать, и мы без колебания вступаем: так, спасая нас, она берет на себя наши грехи. Большие и маленькие, мы знаем, что она наша старица, и нам легко, мы просто исполняем обет послушания.
Она объясняет, что не хочет, чтобы мы мучились: пока мы дети, мы чисты и святы и такими же должны остаться. Как суровая бонна, она следит, чтобы на наших душах не было ни пятнышка, и не устает повторять, что сохранить чистоту легче, чем очиститься, если уже замарался. Крестная нам всё позволяла и разрешала, требовала же одного – чтобы никто ничего не таил, безбоязненно говорил правду. Наши души должны были быть у нее на виду, тогда она была уверена, что сразу заметит и сумеет искупить грех. В общем, она помогала нам и так и этак, в итоге каждый был сыт, одет и, когда было горе, знал, что его поддержат, не дадут пропасть. Без этого Дусин приход вряд ли бы просуществовал целых двадцать лет.
Нашу семью крестная навещала три-четыре раза в неделю, часто оставалась ночевать, и тогда у двери стелила себе коврик. Сквозняков она не боялась. Я знаю, что отец и мать долго пытались соблазнить ее более почетным местом – кроватью, но однажды поняли, что стараются зря. Нам, детям, они объясняли, что Дуся ложится у порога, чтобы охранить дом от греха. Спала она крепко, хотя недолго, наверное, часа три, не больше, во всяком случае, ложилась, когда родители уже спали, а вставала первая, даже раньше мамы. Помню, что во сне она чуть присвистывала носом, это было знаком, что всё тихо, опасаться нечего. Вообще, если она не была нами возмущена, звуки, с ней связанные, можно было не замечать, они без труда сливались с происходящим в квартире и за окном – с шарканьем ног в коридоре, с шумом воды, разговорами, приглушенными толстыми, дореволюционной постройки стенами.
Как ночью она присвистывала, так днем причитала – в отличие от того, когда молилась – обычно скороговоркой, частя, немилосердно мешая присказки, пословицы с наставлениями, обращенными уже к нам, грешным. Точек она не признавала и, наверное, поэтому отделять одно от другого не желала. Сейчас мне кажется, что, пока ты был ребенком, тебе и не надо было разбираться, что там Дуся хочет сказать, важен тон – спокойный, если ведешь себя правильно, и, наоборот, негодующий, коли делаешь злое. Тут немногое изменилось с тех пор, когда я по малости лет плохо понимал человеческую речь и считал, что крестная просто щебечет, как птичка. Тем более что в своем вечном сером платке она очень походила на небольшую пичужку.
Но взрослые ее милому пришептыванию не доверяли, откровенно Дусю боялись. Отцу, да и матери тоже, она, например, не раз говорила: «Зачем вы такие Богу нужны? Грешные вы, насквозь грешные, чистого в вас ничего нет. За что вас любить? Только жалеешь из последних сил». Могла и выругать. Иное дело, мы. С нами, особенно маленькими, она часами играла, причем на равных. Смеялась, ссорилась, совсем по-детски обижалась, когда у нее отнимали игрушку, нередко сегодня же ею подаренную, и тут же с ликованием сама отнимала другую. Особенно любила играть в куклы с моей сестрой. Наряжать их, шить платья, приторачивая бесконечные шлейфы, ленты, оборки. Потом устраивались бал и парадный ужин. За правильно накрытым столом с тарелками, кувертами куклы сидели строго по чину, каждая на своем месте.
Дусю я помню раньше, чем себя, и даже раньше, чем маму. Мама работала редактором в газете и приходила домой ближе к ночи, когда номер сдавался в набор. Отца, кроме воскресений, в нормальное время мы тоже видели не часто: он, сколько давали, ставил опыты в институтской лаборатории. По должности, званиям отец был младшим, и нужные приборы доставались ему в последнюю очередь. Так что из раннего детства я отчетливо помню нашу няню Клашу и, конечно, Дусю. Про Клашу я всегда, кажется, знал, что хоть целиком, полностью от нее завишу, мама больше ее – и неважно, что она приходит поздно и усталой. С крестной дело было сложнее. Кого она больше, а кого меньше, вообще кто она в нашем семействе, я поначалу разобраться не мог, часто путался.
Клаша должна была быть рядом, если же вдруг она отлучалась, следовало реветь и звать ее обратно. У Дуси строгого распорядка не было. Вольный художник, она могла появиться когда угодно и когда угодно уйти. Если Клаше надо было, например, идти в магазин или она возилась на кухне, а крестная была у нас, она оставалась со мной и сестрой легко, без лишних просьб, казалось, даже с радостью. Несмотря на то что все жили скромно, няни были у многих. В деревнях царила безнадежная нищета, и молодые девки любыми способами пытались оттуда вырваться. Сначала, попав в Москву, они по обыкновению шли прислугой в чужие дома, но дальше, убедившись, что здесь, в столице, мужа себе не найдешь, перебирались в ткацкие города: Иваново, Кинешму, Павловский Посад, где на фабриках вечно требовались работницы и какой-никакой был шанс устроить свою судьбу.
И вот год за годом чуть ли не ежедневно мы по многу часов играли с Дусей, это было и до Клаши, и при ней, и тогда, когда Клаша уже уехала в Ивантеевку, а ее сменила Рая, но постепенно я и сестра делались старше, и лет с пятнадцати, а то и раньше по лицу крестной делалось видно, что она разочаровывается, теряет к нам интерес. Если с детьми она всегда или почти всегда была весела, мягка, заботлива, если маленькими всех нас она любила, считала своими, то с нашими родителями, даже с теми, кого она выделила из общего ряда, кто входил в ее ближний круг, она была почти нарочито жестка, в лучшем случае безразлична. Могла отрезать, вообще отвечала коротко, односложно и так, будто говорить с ними ей не о чем. Взрослых, причем при нас, детях, она легко могла обругать – особенно когда благодарили за деньги, еще за что-нибудь. Помню, как краснел, стеснялся этого мой отец, как боялся сказать Дусе лишнее слово, и как, наоборот, было с ней просто мне, ребенку, хотя я уже знал, что отнюдь не из ее любимчиков.
На взрослых с непостижимой быстротой ставился крест, словно они – все до одного – были людьми кончеными, и она терпела их только потому, что понимала: мы, дети, пока не можем без них обойтись. Когда я, в свою очередь, перешел рубеж и увидел, что крестная мною потеряна, утрата переживалась очень тяжело. Наверное, я еще тогда догадывался о причинах разрыва, но люди, которых я знал, большие и маленькие, были для меня несравнимо разные, эту несхожесть я больше всего в них ценил, и она мешала, не давала додумать мысль до конца.
Лишь несколько лет спустя, в проповеди, отец Никодим просто и без околичностей объяснил, что происходило между нами и Дусей. Он тогда сказал, что взрослые в нашем греховном мире фактически двоеверцы. Для человека верующего здешняя земная жизнь – краткий испытательный срок перед вечной жизнью. Жизнью, до краев наполненной благодатью, любовью и общением с Господом. Атеисты же убеждены, что ничего ни до рождения, ни после смерти нет и быть не может, есть только то, что сейчас, в эту самую минуту; соответственно, если что-нибудь упустишь, то навсегда, другого шанса не жди.
Любому ясно, что одни и вторые настолько отличны, что ни понять, ни договориться никогда не смогут, а они, будто одной породы, и дружат, и семьи заводят. Дело тут в нас, которые зовут себя верующими, – но Бога не обманешь. Он знает, кто по-настоящему предан Ему, а кто, словно в театре, играет роль. Пусть ты ходишь в храм, слушаешь литургию, исповедуешься и причащаешься, какой в этом толк, если, сойдя с паперти, ты живешь так, будто Господа нет и в помине.
Думаю, что он прав и Дуся всё ждала, всё надеялась, что мы остановимся, не будем взрослеть, так и останемся в детях. Она удерживала нас как могла. Заманивая, упрашивая не идти дальше, всякий раз приходила с каким-нибудь гостинцем или игрушкой и до последнего верила, что удастся отговорить. Но мы обманывали ее и обманывали.
Если отца, мать, Клашу, крестную оставить за скобками, то из людей, которым в жизни я обязан больше всего, на первом месте, безусловно, стоит Сережа. О том, откуда он родом, кому и кем приходится, ребенком я не задумывался, когда же узнал, был удивлен, но и только. Сережи в моем детстве было много, хотя видел я его нечасто и лишь осенью. Летом он мотался по экспедициям, в основном на Крайнем Севере, а зимой почти безотлучно жил в сторожах на чьих-нибудь дачах. То ли он и в самом деле любил кочевать, был из тех, кого зовут «перекати-поле», то ли просто не имел своего угла и такой быт был для него единственным выходом.
После экспедиции, пока не находилось постоянное пристанище, Сережа нередко останавливался у нас. Обычно это была первая половина октября, как раз когда у троих из нас – у сестры, отца и матери – подряд шли именины. Мать любила гостей, любила большие застолья, с Сережей же, что было весьма кстати, в доме появлялось много отличного медицинского спирта, который – я это уже знал – можно было купить только «на Северах». Помню, разбавив, его настаивали на лимонных и апельсиновых корках, на перепонках из грецких орехов, на клюкве, хрене, и мать, ко всеобщему восторгу, в праздник выставляла на стол целую батарею разноцветных бутылок.
Сережа не был остроумен, не был он и особенно хорошим рассказчиком, но из наших гостей я помню его лучше других. Благодаря Дусе мы жили тесно, без чужаков, и что и от кого ждать, давно знали, – он же все-таки был залетный. Первым номером я Сережу не видел, однако, когда его наперебой начинали расспрашивать о Севере, он сдавался, и я, да и остальные, с восторгом слушали о мошке, от которой никуда не спрячешься, о бесконечных, покрытых седоватым ягелем болотах и кормящихся там тысячных стадах оленей, о неспешных, будто не знающих, в какую сторону течь, реках и о редких сухих взгорках с куртинами леса.
По неведомой причине земля на восток от Урала и те, кто там жил, казались мне настолько яркими, что я еще за год до окончания школы знал, что, если, конечно, выдержу конкурс, пойду учиться на этнографическое отделение истфака и буду заниматься малыми народами Севера. Кстати, это единственное, что мне в жизни удалось тютелька в тютельку. Вслед за Сережей я почти тридцать лет, как челнок, мотался вдоль кромки Ледовитого океана от Оби до Камчатки.
Сережа не только рассказывал о Севере, он еще по несколько раз за сезон присылал мне оттуда посылки. На почте с квитанцией в руках я получал аккуратные кедровые ящички с упакованными в вату онгонами, другими амулетами и резаными по кости поделками. Однажды на именины он подарил мне огромные рога северного оленя, через год – настоящий шаманский бубен. Рога и сейчас висят в моей комнате над дверью, а бубен куда-то запропастился. Подобные дары получал от Сережи не один я. Сестра, например, на свой день рождения однажды надела полный шаманский наряд с бездной всяческих лент, колокольчиков, но главное – украшенный сложнейшим орнаментом, где каждый кусочек кожи и каждая нить были не просто так. Когда Сережа вызвался ей объяснить, где тут и что, она, прослушав его пару минут, убежала встречать гостей, а я из тогдашних его комментариев запомнил лишь, что самодийцы считают, что из женщин выходят более сильные шаманы, чем из мужчин. Позже подаренное Сережей одеяние перекочевало ко мне и уцелело до сего дня.
Сам до сих пор не понимаю, как так получилось, но что Сережа приходится Дусе родным сыном, я узнал только в шестнадцать лет. Несмотря на бездну энергии, крестная казалась бесплотной, и еще она была слишком общая, чтобы мне могло прийти в голову, будто у нее есть собственные дети. Разговор о Дусе и Сереже зашел в доме наших дальних родственников, куда я попал, увязавшись за отцом. В сущности, это был обыкновенный застольный треп. Уже за чаем ни с того ни с сего заговорили о юродивых. Кто они, есть ли сейчас, и тут вдруг прозвучало имя крестной. Помню, что я был поражен, как легко и отец, и остальные согласились с ее юродством. Тогда же кратко, почти пунктиром, я услышал и ее историю.
Монахиня Евдокия (Дуся), в миру Муханова, была из хорошей дворянской фамилии и для людей ее круга начала жизнь вполне обычно: гимназия, замужество, двое детей – оба мальчики, и Сережа старший. Второй, Боря, был зачат в шестнадцатом году, когда муж крестной, князь Петр Игренев, получил отпуск по ранению, и они впервые после четырнадцатого года три месяца прожили вместе. Правда, Боря на земле не задержался – в Гражданскую войну он умер от менингита. В восемнадцатом году Игренев то ли погиб, то ли пропал без вести – разница, в сущности, невелика. Никаких средств у крестной, естественно, не было, и без родителей и свекрови сына она никогда бы не подняла.
В двадцать седьмом году, когда Сереже было тринадцать лет, Дуся по настоянию Троицкого старца, которому прежде дала обет послушания, постриглась в мантию, хотя и осталась в миру. Рано умершего Борю за столом больше не поминали, про Сережу же сказали, что мать была уверена, что, достигнув двадцати лет, он уйдет в монахи. Строго говоря, всё его воспитание было не чем иным, как подготовкой к монастырской жизни. Но в середине тридцатых годов в советской России осталось лишь несколько монастырей, и все они поддерживали митрополита Сергия, а крестная вместе с Сережей давно уже сочувствовали катакомбникам; в общем, что делать, было неясно.
Советуясь то с одним, то с другим, Сережа колебался, а потом вдруг заявил матери, что принять постриг он пока не готов. Дуся, похоже, не настаивала. О ее юродстве тогда не было и речи, такой, какой мы ее знаем, она сделалась лишь во время войны. Сережа с детства очень хорошо рисовал, и мать согласилась, что будет правильно, если он попробует поступить в Строгановский институт (это удалось со второй попытки) – единственное место, где готовили реставраторов. Церковное хозяйство – иконы, фрески – везде находилось в запустении, и более нужного послушания найти было трудно.
Разговор о крестной не мог не произвести на меня впечатления. Приняв вслед за другими, что она юродивая, святая, я понял, что всё детство – мои собственные отношения с Дусей, отношения с ней родителей, вообще каждого, кого я знал, – придется пересматривать заново. Для меня это оказалось непросто. За год я, если и продвинулся, то недалеко, другое дело – с выпивкой. Я ничего между собой не увязываю, но так совпало, что, потерпев поражение с крестной, я, к ужасу родителей, чуть не каждый день стал возвращаться домой пьяный.
Пока я был мал, Дуся была для меня бабушкой, обычной бабушкой, странности которой, в сущности, ничего не меняли, и вдруг я узнаю́, что жизнь – моя, других – это жизнь при юродивой, и в ней может быть лишь один смысл – тот, что обращен к Господу. К тому времени мне уже не надо было объяснять, что всё, чем живет юродивый, – Господь, Он Один. Юродивый даже больше посвящен Богу, зависим от Него, чем монах. А тут получалось, что и мы каждым словом, каждым своим шагом в этом участвовали. Вернее, обязаны были участвовать.