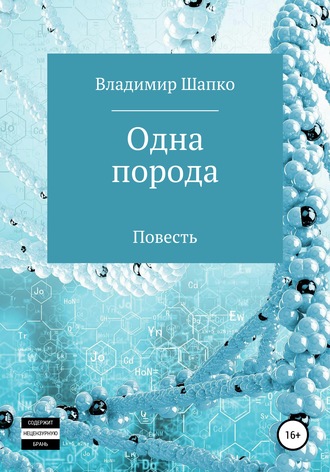
Владимир Шапко
Одна порода
Подвязанный набитым ватой платком, Колька сидел в кроватке грустный, склизкоглазый, как малёк.
– Чего же ты?.. – спросил Сашка.
– Анхина… – разлепил голос Колька.
Помолчали. Посопели.
– Говорил, – пятое не ешь…
– Да, не надо было…
Взобравшись коленками, стояли столбиками на лавке у стола, рассматривали Альбом. С пасмурных листов смотрели родственники. Когда по одному, когда – скопом. Некоторые улыбались. Были тут и цветные открытки. Одна открытка Сашке была незнакома. Новая, тоже цветная.
– Папка прислал, – пояснил Колька. – Иноземная. Немецкий комический танец – название.
В немецком комическом танце тетенька выставилась спиной так, что открылись у нее полосатые панталоны. Как в тельняшке руками вниз была тетенька.
– Морские… – с уважением сказал Колька. Имея в виду панталоны. Точно. И пальчиком грозит дяденьке. Будто девочка она. В детском саду выступает. На утреннике.
А дяденька упер руки в бока. Он танцует перед тетенькой. Высоко подкидывает голые коленки. Он в шляпе с пером, в коротких штанишках и толстых гетрах. Он розовый, как боров. В усато-радостных зубах у него – трубочка.
– Он – кто?
– Папаша Куилос.
– А это что у него?
– Это подтяжки Папаши Куилоса.
– А-а… Шкодный, верно?
– Ага. Очень шкодный…
На оборотной стороне открытки явно пьяной рукой было начертано: «Колька! Это – Папаша Куилос и тетка Гретхен. Слушайся их, мерзавец!»
С любовью вставил Колька открытку обратно в прорези листа. Разгладил. Сказал во второй раз:
– Папка прислал…
Потом пришла тетя Каля и начала ругать Кольку и далекого дядю Сашу с его дурацкой открыткой, отосланной домой под пьяную руку.
А вечером – отогнанный, упрямый – опять отползал Сашка с кирпичом от крыльца Аллы Романовны. Кирпич недовольно возил в нейтральной зоне. Прослушивал перелетающее над головой:
…Надо же! Это, говорит, машина у меня! Хи-хи-хи! Какой милый мальчик!..
…Саша, иди сюда!..
…Да пусть играет, пусть! Мне разве жалко! И вообще: какая ты счастливая, Тоня!..
… ??! …
…Да-да-да! И не спорь! У тебя вон Сашенька есть – такой хороший мальчик. А у меня… Я такая несчастная! Сколько я Коле говорила: Коля, милый, давай заведем ребеночка! Коля, ну прошу тебя! Вот такого, малюсенького, Коля! Прошу!.. Не хочет…
…Неправда! Коля любит детей…
…А вот и не любит, вот и не любит! Ты не знаешь. Сколько раз я ему говорила: Коля, милый, давай заведем…
…Ну, во-первых, детей не заводят…
… ???! …
…Заводят кошек, голубей, болонок всяких… Пуделей… Детей рожают, уважаемая Алла Романовна. В муках рожают. Это, во-первых. А во-вторых, не Коля не хочет ребенка, а вы, вы сами не хотите. Не любите вы детей, и в этом все дело… Вот так! Вы уж извините… Сашка, домой!..
…Хи-хи-хи! Почему-то ты всегда, Тоня, пытаешься оскорбить меня. Но я…
…Да будет вам! Невозможно вас оскорбить, – совсем уж лишнее срывалось у Антонины. – Успокойтесь!.. Извините… Сашка, кому сказала!..
А между тем, не слыша, не подозревая даже о скрытой войне под окнами внизу, как ангельчик… как блаженненький ангельчик стремился из раскрытых окон к небу застольный Колин голосок, подталкиваемый туда смеющимся баском Константина Ивановича.
5. Долгое лето
В то Сашкино лето и свалился на городок оркестр. Да не какой-нибудь, а симфонический!..
Запыленные два автобуса ослабши дрожали возле Заезжего дома, а музыканты, бережно выставляя футляры вперед себя, по одному сходили на землю. Теснились, накапливались, нервно оглядывались вокруг. По команде тронулись через дорогу к Дому заезжих. Шли в футлярах до земли. Как в бараньем стаде. Так – лавой – поднимались на крыльцо и заходили в двери, которые, выдергивая шпингалеты, испуганно распахивали, а потом удерживали две уборщицы и кастелянша.
Двухэтажный старый дом вздрагивал. Внутри стоял топот ног. Лезли по двум лестницам. В коридоры. По комнатам. (Внезапное у администраторши случилось расстройство желудка, могла улавливать все только из туалета.) Сразу раскрыли все окна – и устроили своим тромбонам как бы банный день. Баню. Как будто с дороги. Трубили на всю округу. Сбежались пацаны. Собачонки уже сидели впереди, крутили внимательными головами, самозабвенно подвывали. Музыканты, отстраненно мыля скрипки смычками, им подмигивали.
По городку сыпали стаями. Как иностранцы. Мужчины в коротких штанишках, с фотоаппаратами, женщины в летних открытых платьях, высоко выставившись из них. Одурев от сельского воздуха, от солнца – смеялись, баловались. Фотографировали. Обезглавленный собор, где теперь кинотеатр; пыльную замусоренную площадь, где в обломанной трибунке от перекала, без кошек, черно орали коты; тяжеленькие купеческие лабазы, в которых и теперь запрятывались в прохладу и темноту магазинчики.
В сквере заглядывали в сдохший бассейн тощие скрипачки. С лопатками, как с жабрами. Два Папаши Куилоса изловили Сашку Новоселова и фотографировали его. В награду. За дикий совершенно чуб и как малолетнего аборигена. Сашка держался за ржавую пипку фонтана. Чуб торчал надо лбом. Как пугач, пышно выстреливший.
Сонный базар взбаламутили. Хватали помидоры, пучки редиски, лука, укропа. Дули у мариек молоко. Хлопали их по плечам: хорошо, хорошо, матка! Яйка, яйка давай! У чуваша-мясника сдернули с крюка полбарана. Везде пели гимны дешевизне. Радостные, торопливенькие, тащили полные сумки и сетки к Дому заезжих.
Двумя же автобусами запрыгали вниз, к реке. Купаться.
Им окружили буйками на мелководье. Лягушатник сразу закипел. Вокруг плавали одетые в тельняшки милиционеры. Отмахивались от лезущих веслами… Но никто не утонул.
Концерт был назначен на семь часов в ГорДКа, за сквером рядом с пожаркой. За высоким забором которой начальник пожарки Меркидóма (фамилия такая: мерок нету – забыл дома) уже с шести втихаря бодрил своих пожарников строем.
Пожарники прошли все двадцать метров до клуба в полном молчании, как бы с угрозой. Меркидома поторапливался за строем, бодрил (раз-два! раз-два!), успевал даже выказать кулак бойцу, оставленному (брошенному) на каланче. Пригнали и милиционеров на концерт. К семи в зале было не продохнуть.
Домой Сашка прибежал с вытаращенными глазенками. Бегал по комнате – весь в себе, перепуганный. «Начинают! Начинают! Можно опоздать!» Собираться пришлось отцу. Антонина одевала в выходное сына. «Начинают! Начинают! – все не унимался тот. – Можно опоздать!»
Узкий тесный зал галдел – как богатое людьми застолье. За полчаса-час все давно освоились, чувствовали себя как дома: громко переговаривались, перекрикивались, махали друг другу руками, все были корешки, соседи и соседки, родственники, шутили, подпускали жареного, раскачивались от хохота как рожь под ветром – рядами.
Но когда два пацана растащили на сцене занавес – всё разом смолкло.
Оркестранты сидели на сцене очень тесно, крупно. Словно грачи. Словно тетерева на дереве. Дирижер, уже накрыленный, завис над ними почти у потолка…
Начали тянуть. Симфонию. Дирижер осаживал, трепеща пальчиками…
Потом пела певица. Она походила на стоящую свиную ногу. В конце арии она загорлáнилась так, что всем стало жутко… Благополучно обрушила голос в зал с последним аккордом оркестра. Ей хлопали ожесточенно, до посинения ладоней. И она пела еще.
В прохладные тенёты предночья люди выходили взмокшие, тряся рубашками, вытаскивая платки. Большинства будто и не было на концерте: спокойные, продолжили обсуждение своего, обыденного, прерванного этим концертом, а если и говорили о нем – то о внешнем его, театральном, искренне принимая бутафорию за натуральность, за правду. Говорили о черных фраках музыкантов, поражались роскошному панбархату на скрипачках, сплошь осеянному брильянтом: однако сколько же это для государства-то вылазит! Вот они куда, денежки-то народные! Прокорми такой еврейский колхоз! А если взять в м а с ш т а б е? А?.. Но некоторые были с лицами просветленными. Можно сказать, с ликами. Слушающими свою душу. Бережно уносили что-то, может быть, и не очень понятное для себя. Но уже приобщившись к новой вере. Впустив ее в себя, отдавшись ей.
И спросил отец сына:
– Ну, понравилось?..
Сашка молчал.
– Понравилось, спрашиваю!
– Нет.
– Музыка, что ли, не понравилась? – удивился Константин Иванович.
– Нет… Охранник не понравился…
– Какой охранник? Где?
– Охранник музыки… – объяснил Сашка. – Они начинают играть, а он на них – руками… Не давал играть музыку. Сердитый.
И как досказал последние слова – так после них тащил за собой отца – как на булыжнике заборонившуюся борону. Так и шли они: один тянул за руку, не оборачивался, другой – колотился, приседал, растопыривал пальцы, готовый лечь от смеха на дорогу…
Казалось, всё, этим бы и закончиться бы должно Сашкино знакомство с серьезной музыкой… Не тут-то было!
Дня через два Антонина увидела у сына какую-то оструганную белую дощечку, по которой тот водил кривым прутиком. На вопрос, что это? – Сашка опустил чуб, набычился… «Это скрипка у него! – сразу выдал брата Колька. – Он так играет на скрипке, хи-хи-хи!» Сашка хотел двинуть, но сдержался. «На скрипочке, дескать, играю, хи-хи-хи!» – не унимался Колька. Сашка двинул. От матери получил подзатыльник. Уравновешивающий.
Поздно вечером словно выпали из комнаты в медные сумерки раскрытые окна. Где-то под ними, в комнате, у дивана в простенке, ворочался, ползал Сашка.
Боясь рассмеяться, спугнуть, Константин Иванович на кровати подталкивал жену.
Сашка двигал свою дощечку и прутик под диван. Подальше… Но Антонина знала сына – спросила растерянно:
– Возьмет, что ли, кто? Сынок? Зачем же ты туда-то?..
Затих. Подымался на ноги. Чубатая голова понурилась к окну, к черному хаосу сумерек. Слушала их, осмысливала. Убралась куда-то. Стал побулькивать где-то возле стола в приготовленной и оставленной ему воде. Шарил тряпку, чтобы вытереть ноги…
– Включи лампу, сынок…
Не включил. Все так же молчком полез на диван, в свою постель. Поскрипел там какое-то время, умащиваясь. Утих. Немного погодя размеренно запосапывал.
Константин Иванович все посмеивался. Надо же! Музыкант! Вот ведь!.. А, Тоня? Вот пострел!
Но Антонина по-прежнему лежала с раскинутыми руками. Словно удерживала ими свою растерянность, боль. Ведь не забудет! Ни за что не забудет! Господи! Такой упрямый!..
Потом над двором и над всем миром текла, просвечивала ночь.
Из Игарки, со своего Севера, приезжал Александр Шумиха. Муж – Калерии, отец – Кольке. По городку задувал на такси. Пролетал мимо. Поцеловать маманю и папаню. Одаривал их прямо на крыльце, на виду у всей улицы, плачущих, трясущихся. Как фокусник выкидывал на них из чемодана разные мануфактуры. Затем велел рулить к жене, к сыну. Назад. Через три дома. Соскучился.
Часов с одиннадцати утра, как только укреплялось солнце над городком, и начинался обязательный плясовый ход. Прямо от дома Шумихи. Прямо с дороги перед домом.
Тащили шест лентами. Теснились под него, сплачивались, приплясывали.
Птицей шел впереди Шумиха. Замысловатая плясовая головенка из-под картуза, красная рубаха о кистях, сапожки – с выходом. Ему гармошкой проливал его родной брат Федька, такой же замысловатый, плясовый.
Две раскрашенные бабы кружили сарафаны и визжали. Они – ряженые. Заречно, голодно прокрикивали, притопывая, шумихинские дружки:
Эй, милашка дорогая,
Потеряли мы покой,
Ты кака-то не такая,
Я какой-то не так-ко-ой!..
Укатывались с шестом, утопывались по шоссейке к городу, взбивая пыль. В расшвырнутых воротах, как после выноса тела, брошенно оставались стоять тетя Каля и Колька. Оба – несчастные.
Поздно вечером ход – задыхающийся – пьяно бежал. То есть натурально чесал по шоссейке. К дому Шумихи. Трусцой. Будто неостановимая, пропадающая у всех на глазах лихорадка. Шест с лентами вздергивался, как спотыкающийся, падающий конь.
Возле своих домиков мужички глазели. Посмеивались, покручивали головами. «Ну, шалопутный! Ну, дает! Ить – целый день!»
– Землячки-и, не спи-и! – кричал им Шумиха, отчебучивая впереди. Распущенная плисовая рубаха билась зачерневшим красным огнем-холодом. – Федька, жа-арь!
Болтающийся Федька ворочал гармошку уже как свою килу. Но – поливал.
За забором во дворе шест падал.
Расталкивались, расползались глубокой ночью. Поодиночно мычали в глухой ночи вдоль провальных заборов. Длинный стол в доме – брошенное побоище. Осовевший хозяин все еще упрямился. Строго брал жену Калерию то на левый, то на правый глаз. Жена сметала посуду в корыто с водой. Сбрасывала стаканы в грязную воду. Как какие-то противные свои персты. Сын Колька приставал с Куилосом.
Наутро все начиналось снова. Гулянка-выпляска шумихинская шла три дня. Потом плясун отчаливал. Оказывается, брал без содержания. За поспешными сборами не успевал даже Кольке и Сашке про Папашу Куилоса. Откуда он у него в Игарке взялся.
Проводы на пристани по многочисленности провожающих походили на проводы в армию.
Под остающуюся, отчаянно наяривающую гармошку Федьки один выплясывал Шумиха на дебаркадер и дальше, на пароход, размашисто выхлопывая сапогами, ломаясь к ним, кидая в них дробь рук.
Его громадный чемодан дружок торжественно взносил на борт, удерживая на плече. Внезапно чемодан раскрылся. Совсем пустой. Как после циркового фокуса… Оглядываясь по-воровски, кореш пронес чемодан на пароход под мышкой.
Тетя Каля и Колька на пристани только всхлипывали, дрожали. Говорили как заведенные: «Уезжает! Он уезжает!» Антонина и Сашка их оберегали.
Потом вдали, на дамбе, у заката, приплясывая с гармошкой, Федька все играл вдогон брату Сашке, сам – как черненькая скрючивающаяся гармошка.
После отъезда дяди Саши Сашка Новоселов еще упорнее зашúркал дощечку прутиком. Увидит, птица летит – попилит ей вслед. Жук ползет во дворе у тети Кали – медленно идет с ним рядом, наигрывает ему, сопровождает музыкой.
– Тебе что, мало гармошки нашей, а? Мало? – стенала с крыльца ему тетя Каля. Она сидела пропаще – свесив с колен руки, кинув подол меж широко расставленных худых ног. После проводов мужа – все еще как после похорон.
– А его Константин поведет в школу, в музыкальную, на скрипочке учиться, хи-хи-хи, – ехидный Колька поведал.
Каля удивленно поворачивалась к сестре:
– Правда, что ли?
Антонина, отстраняя лицо от струйного жара летней печки, варила-помешивала в медном тазу малиновое варенье. Молчала.
Но Каля уже обижалась:
– Чего надумали-то, а! Уже и гармонь им плоха! Уже забрезговали! Интеллигенты чертовы!..
Озираясь по тесному классу, где все было обычным, только доску разлиновали для нот белыми полосами, Константин Иванович покачивался на стуле, ухватив себя за колени, посмеивался. Объяснял. Сердце стоящего рядом Сашки словно бы мело, передувало. Как вялым ветром тополиный пух.
Голова Учителя Музыки походила на печальную состарившуюся ноту. Он молча слушал. Потом указательным сухим пальцем клюнул клавишу пианино – звук вспорхнул, у потолка влетел в солнечный луч, заиграл, запереливался в нем, утихая. «Спой», – сказал Учитель Музыки. Сашка молчал. Учитель Музыки клюнул еще. Ту же подвесил ноту к солнцу. «Ну! Ля-я-я!» Еще взвесил её раз, еще. Сашка засипел, подлаживаясь, подбираясь к этой ноте.
«Так. Неплохо», – говорил Учитель Музыки. И все выпускал ноты. К потолку, к солнцу. По две уже, по три. Спрашивал: сколько их улетело? две или три? Сашка отвечал. «Так. Молодец!» Потом вдруг въедливо застучал по столу карандашом. Сашке. Сашка попробовал ему отстучать так же. Долбили. Как дятлы в лесу. Стремились перехитрить друг дружку. Константин Иванович смеялся.
«…Понимаете, какое дело? – говорил для Константина Ивановича, не сводя печальных глаз с Сашки, Учитель Музыки. – Мальчик не без способностей… Но… нет ведь у нас класса скрипки. Вот ведь в чем дело. Учителя нет. Скрипача. Должен вот приехать осенью. По распределению из Уфы. Из музыкального училища. По нашей просьбе должны кого-то прислать. Парня или девушку… Ждем вот… А пока…» – Он развел руками.
Предлагали Сашке на виолончель. Завели в другой класс.
Короткие цепкие ножки тетеньки точно проросли наружу из коричневого дерева инструмента. Тетенька начала дергать смычком так, словно хотела перерезать себя пополам. А виолончель – не давала ей, не пропускала. Тут же понуро стояли ее ученики. Трое. Удерживали виолончели стоймя. Точно не знали, что с этими виолончелями делать. А мечущиеся стекла очков под черной грудой волос тетеньки походили на цинковые иконки, какие на базаре из-под полы показывают…
Сашку вывели из класса.
Свалилось лето, и уже мокла осень. Ломили и ломили в городке тяжелые сырые ветры. Плешивые деревья шумели одичало. Промелькивали, стремились скорее умереть исслепнувшие листья. Лягушкой скакал, шлепался по прибитой желтой листве крупный дождь.
И опять в который раз уж Сашка и Константин Иванович шли в музыкальную школу.
Учитель Музыки завлекал Сашку баяном. Он сидел с баяном, как с густо заселенным ладным домиком, где все голоса жили в полном согласии. «А вот еще, Саша, послушай. Вот эту мелодию».
Поставленный перед баяном Сашка боялся дышать. Словно заполненный его музыкой до предела.
Опять посмеивался, опять объяснял за Сашку, как за глухонемого, Константин Иванович. В чем тут, собственно, дело…
Учитель Музыки застыл от услышанного. С пальцами в клавиатурах, будто в карманах… Переложил правую руку на мех.
«Напрасно, Саша. Напрасно стыдишься его… Он же самородок, народный музыкант-самородок… А что пляшет, с гармошкой, с песнями… то если б все плясали, как он, пели, играли… зла бы не было на земле. Понимаешь, не было б… Он ведь душа народа нашего. Неумирающая душа. Которую давно закапывают, всё закопать не могут… А ты стыдишься его… Зря, Саша, совсем зря…»
Отец и сын уходили дорогой в гору, упираясь ветру, уносили раздутые на спинах плащи – словно напухшие свои души. Налетал, выпивал лица дождь. Чтобы тут же улететь и пропасть где-то.
Старый Учитель стоял за стеклом окна. Глаза его были печальны. Как остановленные маятники.
Уже на горе, увидав тащащий лужи автобус, Сашка сломя голову мчался за ним. Догонял, бежал рядом, под окнами его, почти не замечая луж.
На автостанции люди неуклюже сваливались со ступенек на землю. Больше женщины. С замявшимися подолами, с обледнёнными ногами, разучившимися ходить. Ставшие словно бы ниже ростом, женщины навьючивались сетками, сумками. Устало расходились в разные стороны.
– Не приедет никто, Саша, – гладил Сашку по голове Константин Иванович. – Сказал же Учитель… Зачем же? Не надо больше сюда бегать…
– Не приехал, не приехал… – шептал Сашка, заглядывая в пустой автобус.
Тем и закончилось всё.
Было ли в этом что-то от судьбы, от убитого призвания, или просто детским стойким желанием, желанием недоступного, наверняка неосуществимого, детским капризом, который случается даже у неизбалованных детей раз-два во все детство – Новоселов, став взрослым, не мог сказать. Но, как рассказывала потом мать, крохотная его душонка долго страдала от этого, плакала, и он бегал, встречал автобус каждый день, всю осень. До самого снега…
А дощечка и прутик затерялись, пропали неизвестно где, как улетают и пропадают неизвестно где птицы.







