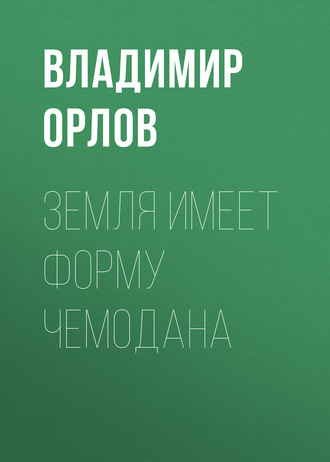
Владимир Орлов
Земля имеет форму чемодана
78
Куропёлкин держал в руках книгу о китайской пейзажной живописи и раздумывал. Наверное, Нина Аркадьевна всё же собралась ехать в Китай и ей для какой-то частности понадобились знания о китайских пейзажистах. Новое задание не слишком озаботило Куропёлкина. Во Владике в годы его службы не раз устраивали выставки исскуства из музейных собраний сопредельных земель – Поднебесной, Восходящего солнца, стран поменьше – Кореи, Монголии. Куропёлкин с любопытством их посещал, вбирал в память свитки и гравюры, запоминал разъяснения экскурсоводов, часто – иноземцев, и теперь самонадеянно полагал, что он – в теме. А присланную книгу лишь стоит пролистать.
Да и не до книг ему сейчас было!
Он не подвёл, не опозорил работодательницу Нину Аркадьевну Звонкову.
Он не посрамил Нинон!
«А в нём душа кенаркой пела…» – вспомнилось Куропёлкину. Откуда эти слова? С танцплощадок Котласа и Владика (в дни увольнений). Там мужик в ритме и при звуках фокстрота рассказывал: «Она в киоске торговала холодным квасом и ситро…» И так далее. «И оглянувшись, увидала: стоит парнишка молодой… И он стоял и повторял: “Какой у вас чудесный квас!”, а про себя твердил хитро: “Вы лучше кваса и ситро!”».
Да, в нём, Куропёлкине, душа кенаркой пела.
Он не подвёл, не посрамил госпожу хозяйку. Она по электронной почте отправила ему воздушный поцелуй. Он заслужил. Женечка…
Растроганный Куропёлкин намерен был отправиться в травяные просторы с шампиньонами и нарвать для Нины Аркадьевны букет полевых цветов с ромашками, гвоздиками, колокольчиками, львиным зевом. До того стал нежным…
79
Но его остановили камеристки. Явились к нему, об их сеансе он нынче забыл, и они обеспокоились.
– Чтой-то вы к нам опаздываете? – спросила барышня Соня. – График нарушаете. А у нас ведь очередь!
– Вы уж поспешайте, Евгений Макарович, – сказала Вера, – а то ведь госпожа в своих усталостях от трудов невыносимых надумает рано отойти ко сну… А что это у вас, у двери, стоит такой рваный и вонючий башмак?
– Не знаю, – сказал Куропёлкин. – Сам пришёл. И не уходит.
Следовало ожидать привычных шуток и подтруниваний камеристок. Но Вера с Соней были серьёзны. И смотрели они на Куропёлкина холодно-строго и даже будто бы с мало объяснимой укоризной.
– Больно вы сегодня важные, – сказал Куропёлкин.
– Это вы, Евгений Макарович, теперь важный, – сказала Соня. – Нам вот за вами гоняться приходится. Говорят, что вас вот-вот из подсобных рабочих переведут в советники.
– С чего вы взяли? – спросил Куропёлкин.
– Нам лучше знать, – сказала Вера. И – ни мгновения улыбки.
– Но особо не радуйтесь, – вступила Соня. – Ведите себя внимательнее и благоразумнее… И не раздражайте вонючим ботинком. И через полчаса, ваше начитанное сиятельство, ожидаем вас на процедурах.
80
«А в нём душа кенаркой пела, и пить хотелось без конца…»
Не отставала глупость от Куропёлкина. Не отлипала.
Постановил: на водных процедурах постою под холодным душем, хоть полчаса, пока дурь не изойдёт.
Изошла.
– Вот что, барышни, – сказал остывший и благонамеренный Куропёлкин. – Трескучий здесь или где?
– Не имеем права знать, – сказала барышня Вера. – Но что – вам Трескучего не хватает? Или как? Мы вам надоели?
– Ни в коем случае! – воскликнул Куропёлкин. – Вы для меня, как родные! Но вы стали жалеть меня. Вы без присмотра Трескучего балуете меня ночным спецбельём. Оно словно – без напряжений, одрябшее, из перестирок и с меня чуть ли не сползает. Не стесняет и не жмёт. Это приятно. Но… Вы ведь сами просили меня быть благоразумнее.
Вера с Соней переглянулись, и Куропёлкин понял, что они молча переговорили о важном, о чём сам он запрещал себе думать.
– А потому прошу вас, – продолжил Куропёлкин, – выдавать мне сегодня и впредь суперстрожайшие комплекты спецбелья, какие только есть у вас на складах. Пусть и с колючей проволокой внутри. Или со стальными шипами.
Вера и Соня стояли перед ним, склонив головы.
Возможно, хотели возроптать и возразить. Но не возразили.
Принесли, видимо с секретного склада, несколько знакомых (на вид) упаковок с компьютерными словами на прозрачном пластике: «Совершенно секретное наноспецбельё. Применяется в экстренных случаях и по приказу».
Доверили Куропёлкину самому выбрать (вышло, что на ощупь) упаковку. Выбрал.
81
Киоск с холодным квасом и ситро пропал. Душа парнишки молодого насытилась и перестала петь кенаркой.
Но до обычного вызова в опочивальню оставались часы, а волнение Куропёлкина – и без кенарки – не угасло, и, чтобы отвлечься, Куропёлкин стал полистывать «Каренину», а потом принялся за Овидия и Апулея. Наконец, дело дошло и до китайской пейзажной живописи.
Но книги задерживались в руках Куропёлкина минут на пять. Не то чтобы он их отбрасывал, нет, бережно клал рядом, уважал труд печатников, да и что было швыряться книгами, они-то в чём были виноваты? Тем более что, посидев минуты две с закрытыми глазами, снова брал доставленные ему тома. Но никак не мог сосредоточиться. Труднее всего воспринимал сейчас слова в «Анне Карениной». Листал, листал страницы, но так и не наткнулся на главы, из которых можно было бы понять, брал ли взятки Алексей Александрович Каренин.
Мысли его горбились и опадали, будто волны в семь баллов на подходе к Авачинской бухте. Слава Богу, не в шторм, а именно в семибалльности беспокойства. Взбаломучена была и душа подсобного рабочего Куропёлкина.
Иногда он вспоминал о башмаке с акульей пастью (зубы у акулы были, правда, из деревянных гвоздиков острием вверх). Башмак всё ещё стоял в прихожей. Попал он туда, и сомневаться не стоило, в сопровождении горничной Дуняши и явно был либо предупреждением, либо подсказкой, как повести себя при обострении нынешней ночи. Впрочем, мало ли чего добивалась на самом деле хитрющая горничная. Никакие обострения были теперь Куропёлкину не нужны, и он погасил в себе мысли о башмаке.
Ну, вонючий, ну, рваный, без сапожных парфюмов и аромазитированных вакс, он Куропёлкина не раздражал, пускай стоит, решил Куропёлкин. Башмак воняет, если кто незваный и возмутится, пусть зажимает ноздри и подносит к носу платок от Пака Рабанна (видел в рекламе).
Проказница Дуняша! Или провокаторша…
Завтра, решил Куропёлкин, попрошу её сварить суп из этого башмака и пусть дегустирует его.
Но получалось так, будто он оттягивает ритуал облачения себя в спецбельё, осмотра его технического состояния и подготовку его к безошибочной эксплуатации.
В спецбельё ему опять были определены футбольные трусы традиционного покроя (и длины), но на этот раз трусы он получил никакие не динамовские. А какого клуба и из какого города, неизвестно. Это Куропёлкина вначале встревожило. А потом он подумал, что, может быть, так и надо. Свежий клуб, свежая энергия, боязнь (у свежего ночного комплекта – боязнь опозориться, будет служить верным и старательным бойцом-охранником: «Рады стараться, ваше благородие господин Старший матрос!»). И так далее. Куропёлкин скоро убедил себя в том, что трусы являются частью формы команды «Луч-Энергия» из Владивостока. Чёрное с жёлтым. «Вы мужик – энергоёмкий!» – совсем недавно Куропёлкин услышал от кого-то. От кого? Не важно. Но как понимать – энергоёмкий? Это он много, что ли, в себя энергии втягивает? Или, напротив, сидит, вместив в себя множество энергий (из Тихого океана, например) и не знает, что с ними делать?
Не важно! Не важно! Куропёлкин натянул на себя совершенно-секретные тихоокеанские трусы.
В нетерпении натянул.
А потому и забыл о существенном.
И не сразу вспомнил об этом.
Да как тут не забыть, если он сразу же ощутил торжество нерушимой крепости! Он был теперь бастион Раевского. Он был неприступен. Ложные блажи исчезли. Он был холоден, как ледник Федченко.
И стал наконец-то спокоен. До того спокоен, что задремал…
82
Дремотное его состояние было нарушено стуком в дверь.
Камеристки Вера и Соня явились с розыском.
Тут-то Куропёлкин и вспомнил о существенном.
Именно камеристки имели право оснащать Шахерезада ночным спецбельём и сопровождать в опочивальню.
– Ба! – поморщилась Соня. – Башмак-то ещё сильнее воняет!
– Вот наш Евгений Макарович, – сказала Вера, – наверное, и угорел от своего башмака. А Нина Аркадьевна уже прикатила в господский дом.
– Я готов! – воскликнул Куропёлкин.
– Оно и видно! – усмехнулась Соня. – Но мы обязаны проверить соблюдение техники безопасности, качество по ГОСТУ и силу крепления сегодняшнего спецбелья. Снимайте трусы, Евгений Макарович.
Не получилось. Спецбельё приложилось к Куропёлкину второй кожей. Вера и Соня пытались освободить тело Куропёлкина от совершенно-секретной шкуры, но не вышло.
– Значит, действительно, – задумалась Вера, – спецбельё не китайское, а, как и уверяли нас, произведено нашей космической фирмой.
– И материал, видишь, – согласилась Соня, – из нанотехнологий для выходов в открытый космос. Слышишь, прямо звенит. Броня.
– Точно! – обрадовался Куропёлкин и пропел: «Броня крепка, и танки наши быстры, а наши люди – хули говорить!»
– Фи, Евгений Макарович! – воскликнула Соня. – Да что же вы такое поёте? Как можно с такими словами появляться в опочивальне Нины Аркадьевны?
– А что же в них дурного? – рассмеялся Куропёлкин. – Это мотопехотные слова, и флотские! В ту ночь решили самураи… а наши их… (удержался от уточнения флотскими словами)… Это гимн броне! И спасибо, что вы меня ею снабдили!
Камеристки посчитали необходимым всё же – для игры в совесть – хоть кое-как, хоть на глазок проверить надежность спецкомплекта. Но оттянуть и на сантиметр от тела Куропёлкина космический материал не получилось. Оставалось проверить состояние подсобного рабочего и его брони на ощупь. Проверкой камеристки, да и сам Куропёлкин остались довольны.
И повели его в господский дом.
Башмак по-прежнему вонял. И будто бы ухмылялся.
83
Нина Аркадьевна появилась в опочивальне в половине одиннадцатого.
Оживлённая, весёлая, помолодевшая.
Праздничная.
Вчера Куропёлкин не разглядел её новую стрижку. Сегодня разглядел.
На Купчиху, позволявшую себе посещать ночной клуб «Прапорщики в грибных местах», она никак не походила.
Не могла такая женщина, пусть и не поднося к глазам перламутрово-театрального бинокля, наблюдать за провинциально-местечковыми мучениями даже поручика Звягельского и троих волосатогрудых звёзд ночного театра господина Верчунова. Такую тонко-нежную, просвещённую женщину должно было бы тянуть на концерты в Большой зал Консерватории с участием Спивакова и Башмета. Или – в худшем случае – на представление цирка «Дю Солей».
Наверняка и вульгарный акробат Эжен Куропёлкин был ей теперь противен.
По справедливости.
А как преобразовались движения и повадки Нины Аркадьевны!
Истинно – Нинон!..
Исчезла начальственно-механическая резкость пластики Хозяйки, дамы из Форбс-списка, нынче движениями своими Нина Аркадьевна напоминала Куропёлкину забавную и вовсе не кусачую зверушку, из породы то ли кошачьих, то ли куньих. Даже и выгибы спины зверушки не были злыми и уж тем более чему-то или кому-либо угрожающими.
«И замечательно! – подумал Куропёлкин. – И слава Богу!»
Ко всему прочему.
«Броня крепка, и танки наши быстры, а наши люди…» Уточнение Куропёлкину снова не потребовалось. Главное, что броня действительно была крепка и боеспособна. И следовало высказать благодарность космической промышленности за доброкачественное изделие.
Куропёлкин слышал, что «Буран» испекали в Самаре. Вот спасибо и Самаре.
Не дожидаясь массажных услуг камеристок и втирания ими целебных благовоний, Нина Аркадьевна направилась к койке приготовленного Куропёлкина, и на этот раз не только взлохматила его вихры, но и чмокнула его в лоб. Облобызала.
«Броня крепка…» – принялся успокаивать себя Куропёлкин.
– Как хорошо, что я дома! – радостно воскликнула Звонкова.
И прежде чем предоставила своё тело рукам камеристок, снова подошла к лежанке Куропёлкина, снова погладила подсобного рабочего по головке и облобызала, теперь, как показалось, с особым чувством. Сказала, всё ещё переживая нынешнее событие:
– Нынче прекрасный день! Если бы вы знали, Женечка, какой успех мы с вами имели на симпозиуме! Оригинальность мышления, чуть ли не научного! И прочее. Суждения наши под названием «Взгляд на русскую поэзию нулевого десятилетия» будут опубликованы в каком-то академическом сборнике. Ты молодец, Женечка!
И снова – ласковая женская рука на голове Куропёлкина.
«Броня крепка!» – чуть ли не вышептал Куропёлкин. Броня и впрямь была крепка и боеспособна. Это хорошо. Неужели его и в самом деле переведут из Шахерезадов в советники?
Разволновался не один лишь Куропёлкин. Похоже, смутились и наверняка ко многому привыкшие камеристки. Они явно засуетились, заторопились, возможно, в намерении быстрее освободить госпожу от своего присутствия.
И не мешать.
«Да она пьяная, что ли? – подумал Куропёлкин. – Ну, если не пьяная, то подвыпившая… Имела, стало быть, основания для радостей… Вот если накурилась или приняла дозу, тогда хуже…»
В принципе Куропёлкину было всё равно теперь, пьяная она или принявшая дозу. И так, и эдак могла продолжить куролесить. Или, напротив, сейчас же свалиться и заснуть. Но, пожалуй, вариант с наркотой был бы ему куда неприятнее, нежели нынешние алкогольные удовольствия госпожи Звонковой. В наркоте был беспросвет, а беспросвет в жизни Нины Аркадьевны был для Куропёлкина нежелателен.
Почему?
Куропёлкин и себе не вызвался бы отвечать сейчас, почему… Имел опыт. Насмотрелся на ширялок. Пусть и немногих. Быть вблизи одной из них Куропёлкину не хотелось.
Но вот процедуры были завершены, и обнажённая госпожа Звонкова проводила камеристок к двери опочивальни. И тут Куропёлкин понял, что Нина Аркадьевна не пьяна, а всего лишь именно возбуждённая, для чего и впрямь имелись причины. Ну, может быть, осушила несколько рюмок, не исключалось, что и существенного напитка. Но движения её не казались сейчас критическими или рискованными, а пластика обновлённой в Париже Звонковой по-прежнему вызывала восхищение подсобного рабочего, и это его обрадовало. То есть ни о каком беспросвете и речи не могло идти.
Хотя ему-то что?
А Нина Аркадьевна о нём будто бы забыла. Ей явно недоставало сейчас в опочивальне зеркала. Тело её, пожелавшее осуществлять себя в стихиях танца или в ритмике ритуальных движений восточной женщины, требовало отражений в зеркалах Версальского дворца. Но отражалось оно лишь в глазах восторженного Куропёлкина.
А Куропёлкину приходилось остужать себя и напоминать себе о том, что он уже не Женечка и никакой не советник, а всего лишь нанятый Шахерезад. И как Шахерезаду, должно было ему войти в состояние сосредоточенности и внимания, то есть быть готовым к умной (смешно!), во всяком случае к обязательной, по условиям контракта, беседе с работодательницей. О чём же придётся говорить? Если о прибывшей, наконец-то, сегодня «Анне Карениной», то тут было всё проще простого. «Не брал! Не брал! Не брал! И не давал! И отстаньте!». «Китайская пейзажная живопись» и Овидий с Апулеем, это ладно. И здесь Куропёлкин поплавать не мог, а о китайских видениях гор, туманов, дождей в зелёных распадинах он и вовсе не отказался бы посудачить с Ниной Аркадьевной и сравнить при этом китайских и японских художников (то есть высказаться по поводу своих впечатлений от выставок во Владике).
– Нина Аркадьевна, – кротко спросил Куропёлкин, – какая у нас нынче ночная культурная программа?
Госпожа работодательница прекратила на минуту своё пребывание в стихии радостного танца. Опустилась со звёзд на доски опочивальни. Вспомнила о Куропёлкине.
– Женечка! – рассмеялась Звонкова. – Какая может быть сейчас культурная программа! Главное – упорхнуть от всех дел и забот в сон!
Но вместо того, чтобы направиться к своему алькову, она снова подошла к лежанке Куропёлкина, присела на верблюжье одеяло, стала ворошить его волосы, наклонилась к его лицу, коснувшись его грудью, расцеловала, прошептала:
– Женечка! Мне так уютно и спокойно с тобой…
Но тотчас встала, видимо вспомнив о чём-то важном. И отправилась к ситцевому алькову. Укрылась одеялом. Впрочем, освободив лицо, сказала:
– Я, Женечка, устала. Я вся в томлении. Или – в истоме. Никаких лекций и рассуждений, никакой китайской живописи, она потерпит. Если только расскажешь об Овидии и «Золотом осле»… Но недолго.
То, что долгий разговор она не выдержит, Нина Аркадьевна подтвердила сразу же. Только Куропёлкин сообщил госпоже о начальных приключениях героя Апулея, как она несомненно и безоговорочно заснула. На этот раз даже и с мгновениями храпа. Возможно, залегла неудобно и обидно для органов дыхания.
Возможно, она и туфли позабыла снять.
При появлении Нины Аркадьевны в опочивальне Куропёлкин, естественно, не мог не заметить, что она разгуливает по крашеным доскам пола не босиком и не в шлёпанцах, как обычно, а в туфлях на каблуках сантиметров десять ростом (глаз Куропёлкина). Ясно, что из Парижа или Милана.
И вот теперь она наверняка рухнула в сон, не сбросив с ног парижские обновки. Камеристки при проведении процедур вряд ли бы решились посоветовать снять их. Хотя свежие, нерастоптанные, они могли стеснять ступни Нины Аркадьевны и причинять боли её нежной натуре.
Мысли Куропёлкина слоились в разброде.
Но не чувства.
Чувствам был отдан единственно возможный приказ. Никаких томлений и истом! Застыть, заледенеть! Не пикнуть! Не вспоминать и о броне. Мало ли что…
И всё!
А мысли копошились, вползая смутой и растерянностью в душу Куропёлкина. Женечка, с ним в опочивальне женщине комфортно и спокойно, тёплая (или жаркая?) рука её ласкает его голову, губы её целуют его щеки и ухо, язык её проникает к его языку и любезничает с ним… Как это всё понимать? Как это всё оценить? Как отвечать на действия Нины Аркадьевны, Нинон?
А никак. Не берите, Евгений Макарович, в голову. Лежите себе смирно, терпите. Исполняйте условия контракта. Может, секундный каприз подвёл работодательницу к его лежанке. Может, блажь какая или игра. А то может, и проверка, вызванная, с брызгами шампанского, возбуждением хозяйки от удач во всемирном бизнесе… Дотерпи, Евгений Макарович, до утра. Утро, как известно…
Легко сказать, дотерпи! Даже если он и закрывал глаза, видение тела Нины Аркадьевны не пропадало. А потому Куропёлкин и не старался отводить глаза от ситцев алькова, оправдывая свой интерес беспокойством (по контракту) подсобного рабочего (о том, что он побывал в артистах, он, похоже, забыл) по поводу лёгкости снов работодательницы или, напротив, каких-либо затруднений в них.
А затруднения, несомненно, были. Мёртвый поначалу сон спящей красавицы скоро стал взволнованно-беспокойным. Нина Аркадьевна, не открывая глаз, будто сотворяла какие-то приятные ей движения, руки бродили по её телу, ласкали соски грудей, гладили живот, опускались ниже, при этом госпожа постанывала и вздрагивала. Потом она рывком, сбросив одеяло снова в глубину алькова, перевернулась на живот. Лежала на животе, вздрагивала сильнее, чуть ли не дёргалась, парижские туфли, похоже, и впрямь остались обузой на её ногах, причиняя ей боль, и Куропёлкин, ради облегчения страданий утомлённой женщины, решился на поступок. Встал. Стараясь передвигаться бесшумно, подошёл к алькову, остановился в сомнении. Но женщина прошептала со сладостной надеждой: «Женечка!», и Куропёлкин отважился освободить её от болей.
Он снял грубой своей рукой туфлю с левой ноги Нинон, и тут в опочивальне прозвучал резкий треск. Куропёлкин запоздало понял, что с треском была разрушена броня совершенно-секретного белья и разрушена справедливо восставшим естеством его натуры.
– Женечка! Войди в меня! – томно-призывное услышал Куропёлкин. Или ему показалось, что он услышал это.
И он вошёл.
Ноги Нинон раздвинулись, спина её прогнулась, приподняв бёдра, никаких возражений против присутствия в её теле не последовало, напротив, Куропёлкин почувствовал, что ему тут рады, так продолжалось минут сорок, женщина помогала ему (и себе), постанывала, шептала: «Да! Да!», «Ещё!», «Быстрее!», «Быстрее!», и так продолжалось до мгновений, когда оба они взлетели в выси и опали оттуда в беззвучье альковных простыней.
84
Беззвучье вышло недолгим.
– Негодяй! – вскричала госпожа Звонкова. И не вскричала даже, а заорала базарной бабой. – Что вы делаете?
– Пересказывал вам, – пробормотал Куропёлкин, – сюжет «Золотого осла» Апулея… Вы просили…
– Негодяй! Мерзавец! – кричала Звонкова. – Охрана! В Люк его! В Люк! И немедленно!







