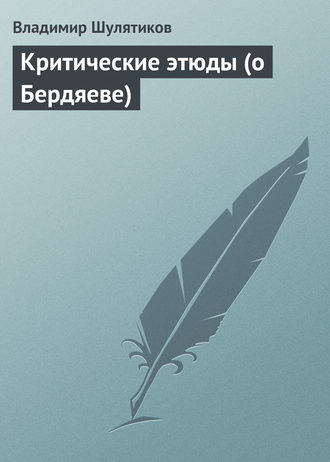
Владимир Михайлович Шулятиков
Критические этюды (о Бердяеве)
Дело в том, что в продолжение девяностых годов быстро росли и формировались ряды интеллигенции. Интеллигентный труд получил особенно широкое развитие. Интеллигенция поставила на первую очередь вопрос своего собственного труда. У интеллигенции явились свои собственные интересы. Интеллигенция начала сознавать себя обособленной общественной единицей.
Никогда раньше русская литература так много не занималась изображением своего собственного быта, как именно в девяностые года, никогда раньше изображение этого быта не отличалось такой полнотой, никогда литература не охватывала так широко различных слоев интеллигентного общества, начиная с «передовой» интеллигенции и кончая интеллигенцией, всецело погруженной в профессиональные интересы[1].
В то же время сами условия интеллигентного труда, его особенности заставляли интеллигенцию выработать своеобразный взгляд на отношения между нею и теми людьми, от кого она экономически зависела. В основу этих отношений лег психологический момент.
Интеллигенты, очутившиеся на службе у «хозяев исторической сцены», прежде всего, заговорили об умалении своей «человеческой сущности», о том, что механический труд убивает в них личность, уменьшает жизнеспособность их душевных сил, обращает их из живых существ в машины, из «целых людей» – в «дроби». Интеллигенты начали страдать не столько от тяжести труда, сколько от его «пустоты»[2]. В «хозяевах исторической сцены» они увидали, прежде всего, людей, посягающих на их душевный мир, прежде всего, носителей грубо-материалистического, торгашеского начала, замораживающего человеческую душу. И с этой точки зрения, вся разношерстная «буржуазная толпа» слилась в их глазах в одну сплошную серую массу, среди которой все – «буржуй» и «буржуа», предприниматель средней руки и крупный капиталист приняли образ «мещанина-филистера». Везде вокруг себя интеллигенты увидели царство грубого филистерства. Гипноз этого филистерства, этого «лавочного материализма» они сочли худшим из всех возможных бедствий. Они почувствовали себя совершенно подавленными отовсюду грозившим филистерством, они почувствовали себя совершенно одинокими людьми, затертыми серой массой, они назвали себя томящимся в неволе «диким конем», который тоскует о свободе и рвется туда, «где блещет степь и луг»[3].







