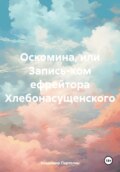Владимир Иванович Партолин
Повесть дохронных лет
– Доченьке, Леночке моей… пацана давай!
– Будет ей пацан… Я стараюсь!
– Наша берёт! – прыгали, хлопали в ладоши детишки и их мать.
– Наша возьмёт! – вторили им отец с «бандой малявки».
Картина ясна: в Катьке с Хансом папаши разуверились окончательно, видимо, не слишком-то питали надежды насчёт меня с Дамой, но у Куртов подрастала двухлетняя Леночка, тогда как у Вандевельдов все ещё только надеялись на семейное прибавление.
Попытки наших мамаш урезонить мужей успехом не увенчались: чача из бутыли убывала, сцепка раз за разом менялась. Официант устал держать бутыль и разливать содержимое – руки дрожали, ноги подкашивались. И мы с Дамой нашлись, как им всем помочь. Не сговариваясь, направляемые каким-то наитьем, взялись за руки, поднялись в кабинку и, став так, чтобы нас могли видеть сразу оба соперника, слились в долгом поцелуе.
Рефери навёл фонарик на нас – папаши, посчитав, что наступила переменка сцепки, чачу – в «топку». А заметили меня с Дамой, поперхнулись и разразились кашлем.
– Не… рано… ли? – задыхался Дядя Ваня.
– В самый… раз! – Свой кашель отец запил глотком из бутыли, вырванной из рук официанта. После повернулся к окну кабины и обратился к присутствующим:
– Хотите, фокус покажу?
Снял и сунул маме в руки шляпу, приложился к бутыли изрядным глотком, сполз со стула на пол, улёгся на спину и за пять секунд уснул. Во сне вдыхал через нос, выдыхал через открытый рот – чача с бульканьем поднималась и опадала меж зубами фонтанчиком гейзера. Зрелище, я вам скажу, ещё то: и отталкивающее и завораживающее.
Мамаши, суетясь, упрекали друг дружку в том, что не успели упредить представление, остановить фокусника. На свадебном пиршестве друзей (застолье они устроили одно на обе свои свадьбы) в этом же ресторане (тогда ещё рабочей столовой) фокусника, изображавшего из себя фонтан, попытались разбудить, тот захлебнулся и после буйствовал в невменяемом состоянии. В последующие от года к году демонстрации уже не трогали, предпочитая дать «фонтану» отоспаться. Уже лет десять минуло с последней демонстрации, потому-то мамаши и потеряли бдительность.
Не заметили, когда заснул и мэр. Он всхрапывал, сидя за столом лицом в натруженные руки. И мы стали свидетелями ещё одного фокуса: шляпа у Дяди Вани свалилась с головы – соломенные волосы (волосы!) веером постелились по зелёной скатерти. Ни какой лысины!
Дама легонько тормошила мэра за плечо, мне стало неловко за своего отца, но «закрыть фонтан» не пускала мама. Нашёлся метрдотель: отложив фонарик, он взял у официанта полотенце-салфетку, скрутил кульком и острием опустил в фонтанчик – чача впиталась.
Отец проснулся. А принялся помогать Даме, тормошить мэра, увидел волосы. Захлопал глазами:
– Парик, что ли?
– Давно сделал подсадку волос с затылка, но шляпу по-прежнему носит – привык, – ответила за мужа госпожа Вандевельде.
– От друга скрывал! – возмутился отец. – Шляпу носил! В мэрии, в школе, во всех присутственных местах не снимал. Мэр, словом, – далёк от народа.
Мэр, покорно подставляя жене голову под шляпу, дружелюбно согласился:
– Я как подсадку сделал, тебе показал. Шляпу в парилке – дело в бане было – снял, ты посмотрел пьяными глазами и плюнул. Я догадался, ты посчитал, что увидел себя в зеркале. Ей-богу, было дело. А народ мне близок, не ври. Избирает. Новая Земля не Москва.
– Ладно, Ваня, пойдём на воздух. И не слишком ты надейся… у моего отпрыска, целовались, я никакой страсти не отметил. Так что, старайся.
– Сделаем, Гена, – пообещал мэр фермеру.
Дядя Ваня позволил вести себя под руки. Вдруг высвободился, вернулся в кабинку, шире раздвинул шторки и снял с поклоном шляпу – поблагодарил посетителей ресторана за внимание.
– Показал близость к народу, – съязвил отец.
– Покажи и ты фокус, – совала «малявка» колоду карт мэру.
Тут подоспел, сбегавший домой за кителем, дядя Франц. В форме майора воздушно-десантных войск он стал по центру танцевальной площадки, вытянул в сторону руку и скомандовал:
– В строй, шеренгами по четверо… становись!
Первой под руку офицера стала Катька, рядом «малявка». Не замешкались и все гости мэра. В суматохе в строй затесали тройку посетителей.
– Равняйсь!
Посетители, удирая к своим столикам, расстроили шеренги.
– Сомкнись! Где аксакал?
Чеченца привёл барабанщик. С обожанием смотрел старику в рот, возвращая тому папаху и забирая свои барабанные палочки. Братья, прогнав Катьку с «малявкой» в хвост строя к детям, подхватили «солиста» под руки.
– Равняйсь!.. Смирно!.. Шагом… арш! Запевай!
Под «Славянку» и овации посетителей ресторана мы вышли под купол.
Счастливый метрдотель у выхода напутствовал пожеланиями светлого Рождества. Он, старый, с начала строительства «Ограды» работал поваром, и помнил знаменитую свадьбу друзей, после какой рабочую столовую и сделали рестораном, завезя на смену в щепу разнесённым столам и стульям, оконным занавескам, дорогую мебель и бархатные шторы.
* * *
Отец ошибался: целуясь с Дамой, страсть я испытал, мы ещё и дома уединились, когда гости пили, закусывали и танцевали. После выпили по бокалу шартреза – Катька нам им «спрайт» разбавила – и разыграли ссору в споре, где, чей подарок.
– Мой «троглодит» в той коробке, что справа.
– Нет, мой! Франц, я заметила, твой слева.
– А пойдём, проверим. Оба склеены, проведём лётные испытания.
– А пойдём. Тот, что не взлетит, твой.
Катька, ясное дело, проследила мои в зимнем саду опробования вертушек, – продала, зараза.
В зимнем саду коробки не сразу распаковали – целовались. Катька – шпионила, споив, – и застукала. С воплем «жених и невеста» понеслась к гостям. Я к тому времени переоделся в джин сы и сорочку навыпуск, но все же не решился сорваться следом за Дамой, зардевшейся и сорвавшейся к поджидавшей её за колонной Изабелле. Остался сидеть у фонтана под фикусом. Скоро объявилась Катька, она тащила за руку упиравшегося Ханса. Я им обнаружить себя пока дать не мог – все ещё «болело», повторить ещё раз спасительное сокрытие греха с помощью коробки от «троглодита» не рискнул. Не проканало бы: наверняка Катька знала про мои «художества» в скульптурной мастерской, во всех подробностях. Метнулся под антресоль и затаился за кадками с фикусами и пальмами.
Остановилась сестра как раз напротив меня и роденовской скульптуры «Весна» по центру фонтана, и я заподозрил, знает, что я здесь, где-то прячусь. И с Хансом сюда вернулась неспроста. Кашлянул, но даже если бы и крикнул, она не отреагировала бы, сослалась бы на шум воды в фонтане.
Ну, проказница! Вытерла тыльной стороной ладошки мальчишке губы – себе нет – и, поцеловав взасос, умчалась к гостям. А днём – отоспавшись, я пришёл в зимний сад за забытыми «троглодитами» – застал здесь Ханса одного. Он, обняв, прижав к груди под подбородком книгу, не отрывался от мраморных тел юной пары, целующейся под падающими на них струйками воды. Крепче прижимал книгу и в мечтах прикрывал глаза. Завидев меня, вспыхнул лицом. Сунул зачем-то мне в руки «Брамса», попросил «Не рассказывай Гадюке» и, нырнув в пальмовые заросли, неуклюже натыкаясь на кадки, убежал.
Коробок с вертолётами я на месте не нашёл. Зашёл к Катьке отдать «Брамса». Сестра лежала в кровати и обтирала ладошки занавесью балдахина.
– Суженый забыл, – протянул я ей книгу.
Катька зевнула, пропела «Вот спасибо-хорошо, положите на трюмо» и накрылась одеялом с головой.
Я хотел бросить книгу на коврик на полу, к тапочкам, но коврика на месте не оказалось, а тапочки обнаружил на тумбочке рядом с пустой коробкой из-под пряника.
– Не стошнит? Ты же в тесто пряника помочилась, – бросил книгу я на одеяло с крошками. – Вернула Хансу книгу и забрала свой пряник?
Катька вытянула из-под одеяла руки, потянулась и огрызнулась:
– Какое тесто? В лавке за углом школы купила.
Икнув, отпила из бутылки, из которой поила меня с Дамой шартрезом.
– Не чача, вместо шартреза? – съехидничал я.
– Гоша, фас! – вяло приказала сестра попугаю и снова накрылась с головой.
В углу, куда меня загнал попугай, я, отбиваясь от птицы, обнаружил мой и Дамы подарки, без коробок. Поспешил в зимний сад испытать и оставить себе исправную модель, так на удивление обе полетели. Вернулся в комнату Катьки, та посапывала в постели, и Гоша в клетке тоже спал. Под ковриком за платяным шкафом нашёл обе коробки, отвёртку, плоскогубцы и кое-какие внутренности «троглодитов», выпотрошенных сестрой. Лишними оказались.
* * *
В мае к всеобщей радости госпожа Вандевельде забеременела и папаши помирились. Переполоху было! Я подозреваю, ещё и ссорой расстроенный, отец откладывал покупку мне вертолёта. Теперь вот, когда парубок у меня есть, мои, отца и Катькины штрафы могли обернуться если не продажей вертушки, то экономией на керосине. С этим невесёлым предвидением я встал с подоконника и направился к себе. По пути через зимний сад спрятал «Брамса» за кадкой с пальмой – подумал, пусть поищет.
К ужину в столовую я не спустился. Заперся у себя в спальне, включил старенькую магнитолу, лежал на тахте и смотрел в потолок. Думал о том, что дела мои из ряда вон плохи.
И ждал.
Не долго.
В дверь постучали. Выдержав паузу, я убавил громкость магнитолы и прислушался. За дверью скулили:
– Фра, это я… Твоя сестрёнка несчастная… Фра, слышишь? А?
Явилась – не запылилась.
– Фра…Ну, так ты слышишь? Я знаю, ты там: громкость убавлял, – звала Катька жалобным голоском.
Ругал себя за оплошность: не сбавлял бы громкость, постояла-постояла, подумала бы, что меня нет в спальне, что я в своём «закутке» наверху, и ушла бы восвояси. А теперь не отстанет.Оставила бы ты меня сегодня в покое, «сестрёнка несчастная».
– Я тоже к ужину не спускалась. Знаешь, я решила четыре дня за стол не садиться, ничего не есть: столько раз папа в меня своим лаптем попал. Ремнём хотел отстегать, да Цезарь, молоток, вырвал и уволок. Спряталась в парнике. Залезла в кадку, крышку надвинула, а папа, представляешь, разыскивая меня в огуречнике, включил подачу воды – думал, не найдёт, так хоть польёт грядки. Я бы выстояла, дыша через отверстие – в доске крышки есть сучок пустой, – так Гоша, балда, продал. Он охотился в парнике. Вода набралась до краёв кадки, эта продажная шкура уселась на крышку рядом с дыркой, и давай глотку драть: «Катькатолстаякатькатолстая». Откроешь, увидишь, как губы мне исклевал, гад. Хочешь сэндвич? Твой любимый, маминого приготовления – с телятиной… Спаржей и артишоками – я украсила. Аромат стоит – закачаешься. Булка – «французская», и длина её… пока ещё больше папиного лаптя. Возьми, не то съем, – предлагала Катька с полным ртом.
Жалко, что не двадцать раз, и лаптем – ремешком, оно бы поэффективней было бы. Больше бы дней голодала – больше бы похудела, злопыхал я. Сестра боялась потолстеть. Съест чего-нибудь, и канючит, наступая всем домашним на пятки: «Толстая я? Ну скажи, толстая я». Бог миловал, и только в самое последнее время стали замечать, что, действительно, Катька начала и есть уж слишком много, и полнеть. Ломанёт кусок пирога, и бегает за всеми с приставаниями: «Толстая я? Ну скажи?». Мама мудро разубеждала: «Да ты ешь, что тот цыплёнок». Я – убеждал: «Да ты ешь, что тот цыплёнок – толстеть и перестанешь». А отец язвил: «Съела пряник, твой подарок Хансу, потому и толстая. Только он тебя такую и возьмёт замуж».
– Так хочешь лаптя?
– Нет. Не мешай, отдыхаю, – не выдержал я.
Промычала что-то с полным ртом, прицмякнула, – мне захотелось есть. Чтобы не дать сестре успеть дожевать и развязать язык, поспешно спросил:
– Что отмочила, за что штрафанули?
– Знаешь, я знаю, что с тобой в школе приключилось… В скульптурной мастерской, – зашептала Катька в замочную скважину.
Вот, за тем ты и пришла. А то – «сестрёнка несчастна», братишке «лаптя» со спаржей и артишоками принесла.
– Марго дома за обедом рассказала, Мальвина мне позвонила, пересказала… Больно было?
Началось! Дождался!
– Слушай, не хочу я сэндвича. Вали к себе! – отрезал я, и добавил звука в магнитоле. Звучала какая-то джазовая пьеса с солированием ударных. – Топай под барабаны!
– Ладно, я пойду, – сразу к моему удивлению согласилась Катька и добавила, спросив: – Сэндвич оставить… под дверью? Булка… С телятиной была, спаржа и артишоки остались.
– Убирайся со своей булкой! – разозлился я, без всякой веры в то, что уйдёт – затаится под дверью, подслушать с кем и о чём буду говорить по сотофону. Но за дверью послышались скорые шаги по ступенькам, Катька как будто спускалась с антресоли.
Посмотрел время. Часы над тахтой, вмонтированные мной в ячейку подвесного потолка вместо светильника, показывали:
20. 4
А это могло быть и так, но могло быть и 20.04, но и 20.14, и 20.24, и 20.54 – третий цифровой индикатор не работал. Часы старинные, произведённые ещё на заре внедрения электроники. Мама купила в антикварном магазине в подарок ко дню рождения отца, ещё до их свадьбы. Таких часов теперь не делают. Прекрасная вещь: неисправность индикатора выручала, когда проволынивал с пробуждением утром в школу, или уклонялся что-то сделать ко времени. Мать потребовала, чтобы убрал эту архаику совсем и пользовался часами и будильником в сотофоне. Я на это среагировал пионерским заявлением: дескать, эти часы дороги мне как подарок первому строителю стройки веков. Отцу понравилось, и часы остались на месте. Как-то написал о них в сочинении на вольную тему. Со скрупулёзным разбором и анализом всех деталей и мелочей описал как старинные часы «ходют по потолку над тахтой». В заключение поправился, заметив, что не могут электронные часы «ходить» – могут только «хронометры механические». Получил отметку «два»: не понимает учитель русского языка и литературы шуток; кстати, он – сосед Вандевельдов по лестничной площадке, сын старика-чеченца.
Часы есть ещё в туалетной комнате при спальне, но вставать лень. А надо бы узнать точное время – в полночь разборка с Батыем, приготовиться предстояло. Все мои личные средства связи в спальне – викам и сотофон – отключены мной совсем: боялся, что позвонят с «соболезнованиями». С сотофоном сделал это ещё в момент связи с Плохишем. Позвонив мне, Стас промямлил «прости». Батый и он, дескать, признают свою неправоту и готовы публично принести свои извинения. На что я ответил шёпотом, отвернувшись от отца запускавшего двигатель парубка:
– Нет! Я вызываю Батыя! Разборка. Без оружия, на одних кулаках. Ни фига! На условиях моего ультиматума: драться будем одними ногами со связанными за спиной руками! Понял, Плохиш?
– Я этого, Покрышкин, ожидал. В таком случае, Батый просил передать, от секунданта не отказываться. Пойми…
Договорить Плохишу я не дал – прервал на полуслове и заблокировал сотофон. А дома у себя в спальне отключил от питания и викам. Трезвонил с порога, но я не ответил. Теперь вот отрезан от мира, ни одна душа меня не потревожит. До понедельника.
Во всяком случае, прикинул я, до начала разборки не меньше трёх часов – можно часок другой отдохнуть. Сбросил кроссовки и вытянулся на тахте. Расслабился. Взгляд сконцентрировал в центр индикатора с чуть просматриваемыми – не горящими – палочками от цифр, сосредоточился на перемычках, руки и ноги налил свинцом… и отрешился от всякой мысли. Этому меня тоже научил дядя Франц.
Когда я уже «плыл» не чувствуя тела, с «чёртиками» в пудовой голове, и работавшую цифру «0» сменила «1», вдруг откуда не возьмись прозрение:
– А кто мне руки свяжет?!
Я напугался собственного вскрика, меня пробил холодный пот и я вскочил с тахты.
– Секунданта у меня нет! Стало быть, некому… Какой же я глупец! Батый – тот, должно быть, сразу сообразил.
Я лихорадочно думал. Вышагивал от тахты к двери и обратно, нервно срезал кулаком по ладони – поспевал за обрушивающимися на меня деталями озарения. Батый, конечно, в праве перед Комиссией и публично обвинить меня в заведомом умысле уклониться от поединка. Мне вменят сознательную уловку невозможности выполнить мной же требуемые условия, дескать, специально – с целью «свинтить» – придумал колоться ногами и от секунданта отказался. Но это полбеды. Я вообще выйти на арену не смогу – рук мне связать некому: от секунданта отказался! В понедельник мой эксгибиционизм будет казаться мелочью в сравнении с тем позором, что меня ждёт. Ягодки как-то переживу, цветочки впереди маячили.
Я упёрся горячим лбом в стену и зажмурил глаза. Возникали предстоящие картины глумления: первоклашки и второклашки безнаказанно тычут указательным пальцем мне под вздох. Мелкота устроит бесконечную очередь по кругу: им развлечение и тренировка – мне позор. Никакого прохода от них не будет. Вот это будет стыд! Спасение одно: носить женские гипюровые перчатки. До тех пор, пока особым решением большинства комиссаров-наблюдателей это наказание с меня не будет снято. Надеяться же на то, что когда-нибудь это большинство наберётся, мне – Покрышкину, дуэлянту с рейтингом 47:4 в «благородных дуэлях», 28:2 в «разборках» и 8:1 в «разборках у Полярника», просто неразумно. Меня лишат прозвища, и обращаться станут исключительно по фамилии. Сатисфакции требовать я буду не вправе! Актёром «кино» буду только на вторых-третьих ролях. Пассажирское место моего парубка ни одна девчонка не захочет занять. Не будет у меня напарницы и «купцом уважаемым» не стану.
Я метался по спальне:
– А ведь, наверное, многие из моделаторов допёрли! Истребитель, точно. Его туманное «его проблемы» в переговорах по сотофону с Плохишом? Стоп-стот-стоп! Стас на вертолётной площадке что-то ещё хотел мне сказать, перед тем как я отключал сотофон. Наверное, и сейчас трезвонит, да мой бездействует. И по викаму он звонил, предупредить хотел. С соседнего ведь хутора – мог бы и прибежать.
Я бросился к жилетке за сотофоном, затем к магнитоле. Включил, громкость довернул до половины, чтобы Катька не подслушала и не мешала говорить со Стасом. Набирал номер, услышал стук в дверь.
Так и есть – не спускалась к себе. Промолотила ногами по ступенькам для вида, теперь, когда время Леночку укладывать, молотит по двери. А может быть, Стас прибежал, – предположил я и, оставив сотофон на тахте, вернулся к магнитоле.
– Чего тебе? – спросил я, не отпирая двери.
Катька молотила методично – пятками. Задницу в ход не пускала – лаптем ранена. Скулила:
– Ну, Фра… Ну, Фра.
– Чего тебе? – громче повторил я.
– Ну, Фр… Сколько тебе стучать?! Мама уже снизу отругала. Леночку укладывает. Хорошо, отец на поливе. Батый тебе звонит. Твой сотофон сломан? Открой и возьми мой. Батый ждёт.
Я без звука провернул блокиратор замка и тихонько – на себя чуть – приотворил дверь. Стояла Катька ко мне спиной, в одной руке держала надкусанный ломоть яблочного пирога, в другой – сотофон. Пирог был повернут повидлом и «косичками» к полу, и удерживала этот «лапоть» двумя только пальцами, причём. опасно близко от бигудей в волосах. По обыкновению я бы дал ей лёгкого пинка под зад, нацеливая в сторону винтовой лестницы, но меня привлёк рисунок на её пижаме: по розовой атласной ткани нарисован не то слон, не то поросёнок, причём видом со стороны задницы задранной выше головы. Из-под поднятого хвоста вылезало наружу что-то схожее с сардельками и воздушными шариками – эти плоды художественной фантазии сестры простирались по рубахе очередью от поясницы через спину к плечу.
Врезавшись мягким местом мне в колени, Катька не сразу поворотилась лицом – вскрикнула, почесала «штампы» лаптем на ягодицах и откусила от пирога. Я собрался сказать спасибо за беспокойство, пообещать ананас и прогнать, но благодарное слово было мной проглочено: и спереди на пижаме красовалась та же задранная задница, только видом со стороны морды. Не слона и не поросёнка, прозрел я, – бегемота. Голова лежит на лапах, скрещённых под массивной челюстью в идиотской улыбке.
Катька взирала на меня снизу вверх выжидающим взглядом лупатых синих глаз.
– Я бы тебе по «умному дому» позвонила, но у меня викам сдох. Майского жука запустила под кожух, он и сдох. Жук тоже. Починишь? – быстро проговорила сестра явно заготовленную фразу. Протянула сотофон, откусила от пирога и жевала зычно цмякая – так подавляла, по всей видимости, распиравшие её позывы засмеяться.
Я тут же заподозрил, что Батый не звонит, а просто в очередной раз хочет меня достать. Уверенная в том, что сам я после случившегося в школе звонить Хизатуллину не буду, отвертится: звонил, скажет, но не дождался моего подключения. Ананас ещё потребует за услугу.
– Мой сотофон отключён. Отдыхаю, мать. Викам твой починю, когда врать прекратишь: какие майские жуки на острове в мае. Хотела свои художества продемонстрировать? Потрясно. Конгениально. Навозу от… кабана море будет. Теперь топай отсюда. Ананаса не получишь, Батый мог со мной связаться и по викаму, – отшивал я сестру.
Закрыть дверь Катька не дала: была начеку, и опередила меня, ступив в дверной проем. Уверяла, всовывая мне в руки сотофон:
– Нет серьёзно, вот возьми, послушай!
Я не брал, скрестил руки на груди в полной уверенности в том, что сейчас последует. Как и ожидалось, Катька, хмыкнув, приложила сотофон к уху. Потрясла, дунула в трубку. Состроила для меня невинными глазки.
– Отключился! Не дождался, должно быть… Я наберу?
– Катись колбаской, сегодня ананасов не подаём. И привет майскому жуку!
С этими словами я попытался вытеснить дверью сестру на антресоль, но та, скорчив обиженную гримасу, упиралась и распалялась:
– Да, правда! Звонил. Вот те крест! – Перекрестилась пирогом. С бигуди на чёлке свесилась, прикрыв глаз, веточка сельдерея от съеденного давеча сэндвича, Катька, пыхтя как паровоз, пыталась веточку сдуть. Не добившись этого, сняла, подцепив сотофоном, и отёрла аппарат о пижамные штаны. – И про майского жука, правда! Марго разводит дома. Мальвина стащила и подарила мне двух. Одного я сегодня в школе засунула в рот, когда меня вызвали отвечать. Бактерию и замутило. Ты же знаешь Веру Павловну. Я немного сдрейфила и открыла рот, чтобы достать жука, а он возьми и вылети. Прямо – балда – в Бактерию врезался… В бюст ей.
Вера Павловна – завуч школы и преподаватель химии, ученики её звали Бактерией. Женщина с причудами: носила, не снимая, перчатки, руки при ходьбе и на уроке прятала в муфту на резинке по плечам, не прикасалась ни к чему в школе. Двери открывала ногой, а закрывала, ухватившись за дверной косяк, причём не за тот, на котором ручка, а пристенный с навесными петлями; что удивительно, проделывала это без видимых усилий. На спор одному Батыю входные в класс двери так вот удалось осилить. До стакана и графина на кафедре не дотрагивалась. До того была брезгливой, что в лица своим ученикам не смотрела – опасалась увидеть под носами сопли. Некоторые мальчишки специально их носили в надежде, что Бактерия всё же заметит. А тут, представил я себе, из Катькиного рта вылетает майский жук, мокрый от слюны, и слёту ей в бюст. Как и брезгливостью, бюстом своим Бактерия славилась на всю округу. Маленькая, худенькая, казалось, не ходила по школе, а носила эту свою удивительно несоразмерную часть тела. Иная женщина бахвалилась бы такой, Бактерия же стеснялась – прикрывала вологодскими кружевами. Что удивляло, юбки и платья носила короткие, чересчур, выше колена. Идёт, казалось, по школьному коридору старшеклассница-подросток, если бы не одна-одиношенька без подруг и не эта знаменитая грудь.
– Бактерию, прикинь, чуть не стошнило, – продолжала Катька. – А тут как раз Квартальный с отцом входят. Дядя Ваня прямо с порога на ходу: «Детки, вам понравились огурцы и помидоры господина Курта – папы вашей Катеньки? Эти овощи он выращивает с применением натурального навоза». Бактерия – перчатку ко рту, за носовым платком полезла. Дядя Ваня – к кафедре, и остановился прямо на жуке, не расслышав хруста. Этого Бактерия – она услышала – не выдержала, стошнило её через платок фонтаном. Папа успел оттащить Дядю Ваню в сторону… Второго жука, прикинь, думала поселить в викаме, я тебе говорила. Сунула под кожух – там и закоротило. Помер. Жалко бедняжку. А за Мальвину боюсь: ей от Марго может влететь. Починишь? – И не дожидаясь моего ответа, уже шёпотом, заговорщицки, добавила: – У тебя будет разборка с Салом? Отделай его: он противный. Знаешь, Марго в него влюблена. А Батый от неё без ума. Представляешь, он через меня с Мальвиной ей послание передал. Конверта мы не вскрывали, но, похоже, там стихи были. Любовные. Чеслово.
Я перезаложил скрещённые на груди руки и опёрся спиной в косяк дверного проёма, предусмотрительно ногой преградив Катьке вход в спальню. Надо было дать ей выговориться и навраться, потом пообещать ананаса и выпроводить. Батый, может быть, действительно звонил; инцидент с майским жуком и Бактерией, надо полагать, всё же был – за это схлопотала от отца лаптем. Про то, что Марго в Батыя влюблена – врёт. А уж про то, что Батый без ума от юродивой и стихи там какие-то написал – подавно врёт. Да случиться такое может, когда рак на горе свиснет, у суслика кит родится. Но кто другой додуматься бы до такого мог, представить себе такое! Восхищённый, я пожалел даже, что ананаса не осталось, за завтраком весь съел.
– А я не люблю толстых, – не унималась Катька, тут же откусывая от пирога, – ещё в детсаде Хансу говорила, если останется толстым, не выйду за него. Так он с каждым годом все больше распухал. Мне на зло, так не хочет на мне жениться, как будто я всеми фибрами за замужество. Прикинь, в последнее время худеет – это от того, что влюблён в меня по уши. Хиреет бедняжка.
Катьке, несмотря на то, что была настоящим сорванцом, прочили завидное будущее. Чуть ли не с пелёнок рисовала кукол и наряды всякие им придумывала, сейчас моделированием одежды занималась, если не профессионально, то талантливо. Хотя ни одну, насколько я знал, «сочинённую тряпку» сама своими руками не материализовала – шила (ей и себе) Мальвина. Ходили по школе в нарядах одинаковых, как близняшки. Они и в самом деле очень похожи друг на друга, только одна – красавица-хохотушка, другая – милый пострелыш. Рисовала тряпки не на компьютере – плакарами и цветными гелевыми ручками по бумаге. Особенно удавались ей эскизы лейблов и карлеток, по рисункам которых, уже на одежде, вышивала Мальвина. Я свою куртку – настоящую, военного вертолётчика (дядя Франц подарил) – доверил на полную её волю художественного воображения, так она с великолепной детализацией изобразила по спине несколько боевых вертушек самых последних моделей, летать на каких, я только мечтать мог. Изгалялась. Это уже и по тому видно, что вышивала те вертушки не Мальвина, а сама лично, и затребовала за работу аж двадцать ананасов. Я не соглашался, предлагал штуку, сошлись на трёх. Кстати, парубки на злополучных джинсах с фланелью – её вышивка. Я возмутился, почему на места колен помещены. «А оригинально, на ягодицах банально» – ответила. Осень, зиму и весну вышивала, сегодня, чуть ли не летом, надел в первый раз – обновил, так сказать. Все, и родные, и посельчане, думали, если не известной, то, во всяком случае, знаменитой модельершей на Новой Земле станет. Если, конечно, вернётся сюда после учёбы на материке. Катька нисколько никого в том не разубеждала. А с месяц назад я случайно попал в её «закуток». Сестра с семи лет установила «заступ» перед дверью своего «закутка» – этого личного помещения в доме; сама виновата – дверь на веранду оставила открытой. Здесь я узнал, что все помыслы и устремления Катькины связаны вовсе не с «тряпками», с Космосом. Вместо обычного бедлама в спальне, в закутке царили порядок и необычайность в оформлении интерьера. Стены и потолок сокрыты чёрной тканью, натянутой от потолочного фонаря до полу по замкнутому от входа кругу. По ткани россыпь светодиодов – звёзды. Некоторые созвездия я узнал. С теми, что заглядывали через потолочный фонарь, они составили в интерьере закутка ночной небосвод, наблюдаемый где-нибудь среди поля. В центре помещения располагались стол с «HP-персоналкой», подключённой к ресурсам моего «PO TU», и станина с телескопом в тысячу крат. От экрана включённого монитора гуляли отсветы по никелированным частям кресла. К своему изумлению, в нём я узнал зубоврачебное кресло, которое прошлым летом при странных обстоятельствах исчезло со склада сельпо. Катька украла? И как вообще смогла эту махину сюда в закуток тайно доставить? Предположил, дядя Франц купил и подарил. Словом, всё в закутке выдавало то, что интерьер Катька преобразила в космическое пространство с импровизированной рубкой управления звездолётом. Я ещё тогда подумал, что всё это так – детская забава-однодневка. Эйфория от побед в освоении землянами Марса и Венеры давно прошла, к звёздам ещё не летали. Да и никогда сестра на людях не проявляла внимания к чему-либо космическому. В спальне у неё по стенам ни одного портрета женщин-космонавтов, а только, как обычно, у девчонок её возраста, рип-певцы и стэп-гуру. Скоро случай закрепил моё открытие. Как-то сестра не вернулась со всеми домой в школьном автобусе (я в тот день последние уроки прогулял), маме позвонила предупредить, что будет на занятии в стэп-клубе, сама же оказалась в поселковом планетарии и просидела здесь до закрытия. Мне позвонили братья Карамазовы, они маму, служащую планетария, поджидали у ресепшена, Катьку и увидели. Мне звякнули, удивившись тому, что администратор выдал сестре пласткарту доступа в тренажёрный отдел космических полётов, туда не всякого лётчика пускали, вертолётчиков, разорителей Колизея, подавно. Я примчался и не без помощи братьев и их мамы договорился – дежурил за мониторами охранной сторожки старший брат Доцента – проследить за сестрёнкой. Затребовал тот же файл, что она заказала. Ни черта не понял. Тупо взирая на бесконечные колонки из цифр, я ещё засомневался – подумал, Катька с тренажёрным отделом всё подстроила – спровоцировала мою слежку и теперь водит за нос. Но, когда проследил её подключения к имитаторам, понаблюдал за тем, какие астро-навигаторские ребусы разрешала в пилотировании звездолётом, в тренажёрку к которым доступ не всякому курсанту Академии Роскосмоса возможен. Конечно, возникло подозрение в профанации всего происходящего – очередная Катькина афера, сотрудники планетария в сговоре с ней. Запросто могла совратить, как то, должно быть, случилось с товароведами и продавцами сельпо, что зубоврачебное кресло для закутка ей добыли. С этими понятно, эскизами «тряпок» своих соблазнила, с сотрудниками планетария наверняка повозилась: все как одна – старушки-одуванчики, даже та что за стойкой ресепшена: им мода не интересна когда созвездиями, да пилотами звездолётов с юности увлечены. Я отмёл все сомнения и пришёл к выводу: Хансу с его скрипкой места в Катькиной жизни не будет, замужество было помехой в осуществлении сестриной мечты.Врёт. Я-то знаю – по другой совсем причине Ханс получил отворот.