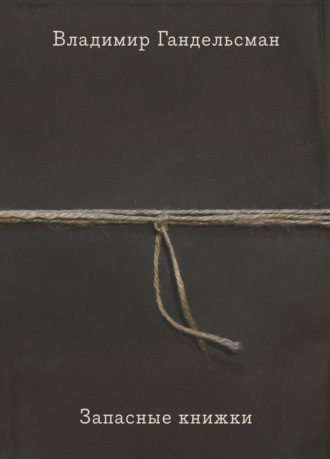
Владимир Гандельсман
Запасные книжки
На другом полюсе – вторичность, в пределе выражаемая проклятием, слово-плевок, и оно – очевидный выдох, некое «тьфу!».
Как бы там ни было, но из этой смеси почти непроизносимого (но и неизбежного) на вдохе и слишком произносимого (и часто необязательного) на выдохе и состоит
человеческое слово. И оно – дыхание искусства. Порой у одного и того же художника это дыхание прекрасно прослушивается.
Весенний берлинский день Годунова-Чердынцева и его памфлет на Чернышевского – суть вдох и выдох.
Сиюминутная сила произведения не измеряется гармоничным соотношением вдоха и выдоха. Скорее уж наоборот: явное преобладание одной из составляющих (особенно – второй) производит неотразимое впечатление на современников. Дисгармония – явление более доступное, более желанное, более отвечающее состоянию человека, а поверхностный читатель (каким почти наверняка современник и является) склонен сводить художественное впечатление именно к совпадению материала с тем, что он более или менее самовлюблённо переживает. (Отсюда и повышенный интерес к авангарду, чья добродетель – элементарная дисгармония.)
Гармония – явление сложное и малопривлекательное, поскольку на вид – скучное. Равнодействующая сил там равна нулю – стоит ли отдавать себя на растерзание разрывающих векторов, если они, взаимоуничтожившись, ничего не прибавят к вектору индивидуальной целенаправленности. Кому нужно это невыгодное чтение? Кто любит забывать себя, любимого?
И всё же и поэту, и читателю иногда ведомо чудо самоисчезновения. Человек, погружённый в чтение, равен пейзажу, с той великолепной разницей, что это пейзаж разума. И его невозможно не полюбить, настолько его нет промышляющего.
«Весь с головою в чтение уйдя, не слышал я дождя».
Ни у поэта, ни у читателя нет цели, но есть цельность, есть созерцание, которое восстанавливает человека, есть разумное небывание.
Критик – худший читатель, а точнее, критик – уже не читатель, он ценитель. Из абсолютной категории влюблённой тишины он переходит в сплошь относительную категорию профессиональной агрессии (восторга ли, разноса – неважно). Он становится невольником впечатлений, идей, мнений и прочих продуктов культурно-хитрящего ума.
Думаю, каждому знакомо музейное состояние растерянности, которое можно сформулировать примерно так: хорошо бы знать собственное мнение!.. – между тем как взгляд, только что оторвавшись от картины и словно бы мгновенно затосковав по цельности, уже тянется к пейзажу за окном. Краткое время зрения, подлинности, растворения, а проще – любви – миновало. Началась культура.
Культура – есть деятельность растерянного человека. Никакого противоречия – деятельность заглушает растерянность. Хорошая мина при плохой игре. Замечательно убийственное определение: деятель культуры. Заслуженный деятель искусств.
Культура не только вторична по отношению к Слову, но она имеет и другой знак. Вот их встреча:
«Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя?
Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе».
Пилат в неуверенности (ведь он не находит вины Христа) и в испуге (под напором иудеев) высокомерно угрожает, апеллируя к своей власти. Пилат в состоянии нормальной человеческой раздвоенности. Культурный человек, произносящий не суть, а слова.
Иисус отвечает не слову, но сути, а именно: я прощаю тебя, твою растерянность, тебя сбили с толку, наделив властью, которой на самом деле нет. Иными словами, Пилат говорит: «Я не знаю, что делать», а Иисус отвечает: «Я прощаю тебя» (не угрозы, не жестокость прощает, но раздвоенность, первородный грех).
Христос отвечает всегда как человек, которого словно бы оторвали от чтения книги, относящейся не к заданному вопросу, но к тому, кто задаёт.
Слово – а Иисус и есть вдохновенное Слово – обращает человека к тишине и цельности.
* * *
Я помню чудное мгновенье, передо мной я…
* * *
Интервью – это когда один даёт, другой берёт.
* * *
Зарубежище.
* * *
Человеческая история как возня самцов.
* * *
Тютчевское:
Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовётся, –
И нам сочувствие даётся,
Как нам даётся благодать, –
можно прочитать в «противоположном» направлении, а именно: нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся (на что-то), и нам сочувствие (к кому-то) даётся, как нам даётся благодать.
Такое прочтение никак не беднее, между прочим.
* * *
Диалог Иисуса с самаритянкой.
Когда в ответ на просьбу самаритянки дать живой воды Иисус посылает её за мужем, Он не знает, что мужа у неё нет. (В самом деле, не хитрит же, не «проверяет» её Иисус – да и что проверять?)
Но Он чувствует, что самаритянка как бы не одна. Речь Его приближается к признанию, что Он и есть живая вода, и своим проникновением в человека Он словно бы ведёт его к мгновенному отрыву от мирского, который выражается в данном случае в словах: «У меня нет мужа».
Впечатление такое, что самаритянка не ожидала своего ответа. Ею высказалась эта незначительная правда, и огонь необъяснимого стыда как будто пережёг её связь с внешним миром.
Почему стыда?
Это не обычный стыд человека, который соврал или
собирался соврать (опять же – зачем в данном случае?), но – сокровенный стыд разоблачённого трусливого желания: дай живой воды! Трусливого, потому что не всепоглощающего.
Орфей (вообще – поэт) – несостоявшаяся самаритянка.
* * *
Весёлый человек – потенциальный подлец.
***************
Рай – это отсутствие воображения. (Воображение появляется со слов в Библии: «Будете как…»)
* * *
О.: «Нынешний деятель искусства, когда даёт интервью, непременно оговаривается, что он никто и что слова его ничего не значат. Эта „дающая“ скромность много неприятней утверждения какого-нибудь Дали: я – гений. (Хотя истоки те же.)
Самоирония, став игрой в самоиронию, перешла запретную черту, то есть амбиции писателя настолько велики, что, словно боясь быть уличённым в какой-либо слабости, он предупреждает удар самоотрицанием, вплоть до того, что заявляет: а я никакой не писатель, и то, что я публикую, – никакая не проза. Или, допустим, утверждает, что количество написанного ему важнее качества. Человек искусства непрерывно кривляется…»
* * *
Есть люди, чья порядочность выглядит как мелочность, верность – как трусость, вежливость – как вялость, вера – как ежедневное бритьё, жизнь – как распорядок дня. Чьё-то дарование им немедленно кажется высокомерием.
Умеренность и аккуратность. Молчалин минус подлость. Нечто равное нулю.
* * *
Мафия – вопрос количества. Всюду, где больше одного человека, – мафия.
* * *
Творчество отличается от жизни тем, что в нём непрерывная утрата (любимых, родины, времени, наконец) есть непрерывное приобретение. (Вверх по лестнице, ведущей вниз.) И потому оно всегда чувствует себя виноватым перед жизнью. Должно, во всяком случае, чувствовать. Ввиду своей неуместной победоносности.
Есть и ещё основания для вины. Опускаясь в глубины человеческой души и высвечивая в ней уродцев, существующих, но ещё неведомых, или – воображением творя этих уродцев, творчество рано или поздно пресуществляет их в жизнь. Так, реально гоголевские персонажи со сцены сошли в зал, так, бесы, увиденные Достоевским, не без его творческой мощи и помощи обрели в жизни усугублённые черты. То есть приобретение (новшество) в творчестве может обернуться гримасами в жизни. Грубо говоря, сначала иждивенчество, потом – разбойное нападение.
Но кому придёт в голову винить Эйнштейна в создании оружия уничтожения? Разве что самому Эйнштейну.
При всей чистоте и благородстве замысла, художник знает, что творит, и сожжённые рукописи свидетельствуют о том, какое значение (и, вероятно, не без оснований) он придаёт своему творению. «Я знаю силу слов, я знаю слов набат, они не те, которым рукоплещут ложи, от слов таких срываются гроба шагать четверкою своих дубовых ножек».
И гроба сорвались, не так ли?
А вот Лермонтов: «Чтоб тайный яд страницы знойной / Смутил ребёнка сон покойный / И сердце слабое увлёк / В свой необузданный поток? / О нет! преступною мечтою / Не ослепляя мысль мою, / Такой тяжёлою ценою / Я вашей славы не куплю».
Далеко же мы ушли от лермонтовских сомнений.
* * *
Не так страшен гвоздь, как его программа.
* * *
Да хватит уже любить Родину!
* * *
Всё-таки работа накладывает на внешность человека.
* * *
Выхожу один я. Надо.
* * *
Я далёк от мысли.
* * *
Россия – хороший документальный чёрно-белый фильм,
Америка – плохой, художественный, цветной.
* * *
По капле выдавливать из себя раба перед зеркалом.
***************
Великий человек отличается от святого тем, что он всегда немного смешон.
* * *
Плохой человек хуже хорошего. (Но хороший поэт хуже плохого.)
* * *
Имеющее смысл – спорно. С бессмысленным не поспоришь.
* * *
Всё сводится к тому, чтобы поспать.
* * *
Пойду посмотрю, как там сосиски…
* * *
Почему у вас из одного сразу следует другое? Почему одно не остаётся одним? Например, я скажу: «Единственный, кому следует поклоняться на земле, – это я». Вы тут же выведете: сумасшедший. А почему бы просто не послушать?
* * *
Не знать ответы на главные вопросы (вроде «есть ли Бог?») – абсолютная определённость.
* * *
Напрасно вы чувствуете неловкость, обнаружив себя дремлющим над текстом какого-нибудь замечательно-религиозного человека.
(Он благополучно изничтожает Толстого-проповедника, и, вероятно, справедливо, но Толстого читать интересней.)
Святость в слове – пресна, ей, в сущности, нечего сказать, т. к. тайна её невыразима. И если уж грешному писателю не следует со словом соваться в святость, то и святости не следует соваться в слово.
* * *
В Америке как бы можно встретить еврея, который не знает своей национальности. И (что важнее) нееврея, который не знает твоей национальности.
* * *
Нет, слушай, нет, слушай, я на Валаам, это вот, однажды. Плыву, каюта одноместная, большая, а я один. Выпил немного, бутылка у меня мадеры, на три четверти, а потом, думаю… Вышел на палубу покурить, никого. Вдруг у трубы вижу. Одна машет, иди сюда. Я говорю, у меня бутылка, тут, мол, холодно, тут, мол, пошли. Она, я тебе скажу, вот такая и ляжкастая, знаешь, и у меня от предвкушения, что ли, челюсть вот так заходила и стучит ходуном, лязгает, что я слова не могу… Я говорю, что у меня аллергия, и выхожу, ну и она ушла, слышишь…
* * *
Знакомая продавщица говорит: ты не пей – и к тебе потянутся люди.
* * *
Шотландский спонсор. Английский королевский спонсор.
* * *
Какая мерзость: пожилые люди в шортах!
* * *
Характер может быть только тяжёлый.
* * *
К искусству перевода.
Нора: «Меня сегодня так и подмывает выкинуть что-нибудь…» («Кукольный дом», Г. Ибсен).
* * *
Как грустно полусонной тенью,
С изнеможением в кости,
Навстречу солнцу и движенью
За новым племенем брести!..
Тютчев «Как птичка раннею зарёй…»
Дело не в солнце и движенье, которых, может быть, и нет, а в новом племени. «Поезд ушёл», это ощущение – вечная роль неумного зрителя. Неумного – потому что умный зритель роли не имеет, а точнее, умный – никогда не зритель.
* * *
– Ты же знаешь, я очень серьёзно отношусь к литературе, – он говорил медленно и обстоятельно, и в голосе медленно и обстоятельно звучала скука.
– Да-да, знаю, – словно бы загипнотизированный, я втягивался в серую пустоту ерую устоту рую тоту…
Затем долго и нравственно он продолжал о своих чистых взаимоотношениях с людьми и журналами и лишь
в одном месте допустил роковую интонацию, сказав:
– Да мне что? Лишь бы они издали мой роман, – сказав с таким простодушно-циничным смешком, что я невольно подумал: «Какая неопрятная смерть».
* * *
Небо упало в обморок, и молния распахнула дверь в бильярдную.
* * *
Человек воспринимает жизнь как помеху.
* * *
Чем что-нибудь хуже, тем оно более предмет искусства. Всё плохое провоцирует на высказывание.
* * *
Пора принять какую-нибудь религию.
* * *
Жена даже спит с упрёком.
* * *
Стиль жизни (по телефону):
– Извини, не могу говорить, я одной ногой уже на улице (вариант: в могиле).
* * *
На первый взгляд человек может показаться интересным.
* * *
О каком вкусе можно говорить, если на полюсе – минус?
* * *
Медленное жаркое море. В час по ложной чайке.
* * *
В родном языке от частого повторения слово утрачивает смысл, в чужом – наоборот. Можно, наконец, уговорить себя, что оно – шкаф, например.
* * *
Иметь странный взгляд? Это обыкновенно. Другое дело само слово: обыкновенно.
* * *
Никто не заслуживает того, что с ним происходит.
* * *
На заданную тему: От других мне халва – что хурма, от тебя и хурма – бастурма.
* * *
Из Розанова:
Как бы убивать не прикасаясь?
(При ловле моли.)
* * *
Целоваться, не говоря о больших интимностях, становится как-то неудобно. Давайте застегнёмся. Старость – это официальная часть, идущая после концерта.
* * *
Мандельштам: «Фета жирный карандаш» – идёт от fett немецкого (англ. fat) и идиш – жирный.
(Догадался сам, не зная, что меня опередили как минимум двое: О. Ронен и Г. Левинтон.)
* * *
Из телефонного разговора:
– Как дела? – Ничего… Жена сегодня палец обожгла, заплакала: всё, говорит, надоело…
* * *
Я настолько свободен, что пишу не просто и не только, когда хочется, а гораздо реже.
* * *
Жена и муж.
Она: «Снег пошёл. Боже, я так ненавижу снег…»
(Вариант: «Скоро Новый год. Боже, какой ужас…»)
* * *
Язык литературы – единственный из всех специальных языков – не прикрывается специальной терминологией (произнося главные вещи).
* * *
Самое страшное: кабинет дантиста в самолёте.
* * *
Самое отвратительное: подводная лодка.
***************
Самое скучное: восхищение В. Набоковым.
* * *
Я не знаю себе цены.
* * *
Может быть, моё призвание – немного выпивать и нешумно разговаривать…
* * *
Она сидела и сдавала…
* * *
Замечательная как человек женщина.
* * *
Всего-то-навсего прошёл дождь, а какой неприятный осадок!
* * *
Спросил: куда так рано,
едва глаза протру? –
На что вода из крана
ответила: в дыру.
* * *
Из прозы:
Восточноевропейская овчарка бежала по ЗападноСибирской низменности.
* * *
Фет:
Ласточки пропали,
А вчера с зарёй
Всё грачи летали
Да как сеть мелькали
Вон над той горой.
Это указание потом поддержит Набоков: «…запомнишь вон ласточку ту?»
Вечности указывают, где она должна быть: здесь и сейчас – над той горой и в этой ласточке.
(Обратный процесс: «…который час, его спросили здесь, а он ответил любопытным: вечность!» – представляется спесью.)
* * *
Приятель-американофоб: «Американцы думают, что чем человек выше, тем он меньше весит».
* * *
Если вас взволновало чьё-то первое произведение, прочтите второе – оно вас непременно разочарует, и вы успокоитесь.
* * *
Самый чудовищный опыт (ибо он одновременно самый неопровержимый и пошлый): чем жёстче с людьми, тем они зависимее.
* * *
Надо всем отдать должное.
* * *
Женщина, которая мне изменяет, не устраивает меня чисто гигиенически.
* * *
Талант – разновидность безобразия, а также истерическое заполнение пустоты чем-то несуществующим, причём – истинной пустоты неистинным несуществующим. (Т. е. – явление провокационное.)
* * *
О, только не делайте вид, что вам непонятна классовая ненависть!
* * *
Почему со мной всё время разговаривают свысока? (Если дело во мне, то извините… Извините, пожалуйста, извините, пожалуйста…)
* * *
Работать вне традиции (в искусстве) – высокомерно и нечестно. Традиция, если и не делает ваш язык общедоступным, то, во всяком случае, делает его доступным для тех, кто хочет прочесть (или увидеть). Если же вы последовательно и до конца нетрадиционны, то и произведения ваши не подлежат обнародованию.
* * *
На плохое настроение надо иметь право, на хорошее – наглость.
* * *
Рано или поздно начинают повторяться: пейзажи, лица, ситуации… Словно бы происходит постепенное совмещение всех отпущенных тебе возможностей новизны (представляющих некий ветвистый узор) с полем
жизни, заданным a priori, иначе – с временем и пространством, в которые ты помещён, точнее: с узором, уготованным в них для тебя.
Число возможностей новизны ограниченно. Всё чаще и чаще мы слышим щелчки-совпадения, видим наложение и совмещение двух узоров. И наконец всё останавливается в абсолютной симметрии, именуемой «смерть».
* * *
Животноводческий вопрос: откровенно или обыкновенно?
* * *
Он ей испортил жизнь. Причём – всю. (Вариант: рюмка разбилась вдребезги. Причём – вся.)
* * *
Она была армянкой по национальности…
* * *
Я говорю: у женщин ослаблено чувство вины, и вижу необыкновенные возможности развития этой фразы. Но чтобы мысль не потеряла глубину, я должен быть верен нежеланию додумывать её до конца.
* * *
Провозглашение скромности как образа жизни – абсолютная непристойность.
* * *
К моему отрывку о Христе и самаритянке (по М. Буберу):
Действительная виновность заключается, по Хайдеггеру, в виновности самого наличного бытия. Оно виновно «в самых основах своего бытия», виновно потому, что не осуществляет себя… В этой ситуации раздаётся зов совести. Кто зовёт здесь? Само наличное бытие. «В голосе совести взывает к самому себе наличное бытие. То наличное бытие, которое по собственной вине не достигло само-бытия, обращается к самому себе, зовёт себя
вспомнить о своей самости, освободиться для са мости, от „неподлинности“ наличного бытия к его „подлинности“».
Сам Бубер считает, что человека окликает не моё «наличное бытие», а то бытие, которое не есть я (т. е. окликает другой; хайдеггерово «наличное бытие» – монологично).
Как бы там ни было – Христос и есть этот «другой», который окликает.
Справедливости ради (по Буберу же): человек Хайдег гера на высшей ступени самобытия предназначен для «попечительного вместе-бытия с другими». Но – не дальше «попечительства», в котором нет ни веры, что в этом бытии с миром прервутся границы самости, ни желания, чтобы это совершилось. Т. е. его человек не знает сущностного отношения.
* * *
Знать, где зарыта собака, и съесть её.
* * *
К моему отрывку, в котором О. рассуждает об интеллигенции.
По Буберу.
Почти в тех же выражениях, что и Кьеркегор, Хайдеггер говорит, что «Некто» (толпа) лишает данное бытие его ответственности. Вместо того чтобы быть собранным в самости, наличное бытие распыляется в «Некто». Оно должно сперва обрести себя. Власть «Некто» приводит к тому, что наличное бытие полностью в нём растворяется. Следуя этим путём, наличное бытие убегает от самого себя, от своей возможности быть самостью. Ему недостаёт собственной экзистенции, «решимости» быть самим собой.
* * *
Я забыл, как надо писать: лявляется или льявляется? (Во сне.)
* * *
Спор двух Мартинов: Бубера и Хайдеггера – спор верующего и неверующего, только и всего.
Для Х. – ницшеанское «Бог мёртв». Для Бубера: «Да свершится воля Твоя через меня, в ком Ты нуждаешься».
Но не так уж велико различие. Последовательное и честное заключение себя в замкнутую систему, в бесповоротную самость, прорывается к Буберу, а сущностное соединение с другим предполагает ежеминутную самость, именно полную конденсированность всех человеческих капилляров в самобытии.
P. S.
Всё бы ничего, если бы не слово «самость». Оно тошнотворно.
* * *
Смысл притчи в том, что её не следует толковать.
* * *
Пусть стены гостиниц расскажут то, что они слышали, брачным покоям.
* * *
– Я вам этого не прощу, – говорило лицо прыщу.
* * *
Она приходилась ему вдовой.
* * *
После смерти ему ужасно не везло. (Из чьей-то статьи о Чаадаеве.) Кстати: а при жизни?
* * *
Они родились в один день, но были противоположного пола, совершенно непохожи, жили в разных странах и до конца жизни ничего друг о друге так и не узнали.
* * *
Имея хороший вкус, можно притвориться умным.
* * *
Приятель-американофоб: «Сближение с американцем останавливается там, где ему кажется, что я вот-вот попрошу в долг».
* * *
Как глупо выглядит человеческий затылок…
* * *
Сумасшествие – это разновидность рационализма. (По-другому: безумие и рациональность – брат(о) и сестра.)
* * *
Сейчас я пишу предложение, которое закончится на последнем слове.
Записано в 70–90-е годы
2. Человек отрывков
ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ № 2:
В «Чередованиях» иногда появляется персонаж по имени О. В «Человеке отрывков» он появляется опять, с той разницей, что отныне я не обозначаю его одухотворённой или отчаянной буквой О и, взор потупив, не заключаю текст в кавычки, поскольку им не восторгаюсь и его не страшусь, а с большинством точек зрения не нахожу точек соприкосновения.
Между тем, давно заметив, что искусство афоризма особенно удаётся мизантропам, я предоставляю О. слово (даже если оно ослово), предлагая читателю самостоятельно определить, где что и кто.
Относительно литературных (и многочисленных) записей я, по сути, повторю то, что начертал в Предуведомлении № 1, но здесь – в виде цитаты из Авла Геллия, писателя весьма древнеримского:
«…если у кого-либо окажется случайно время и желание озна комиться с этими ночными трудами, мы хотим попросить и добиться того, чтобы при чтении уже прежде знакомого оно не было бы отвергнуто как известное и общедоступное. Ведь разве есть в литературе что-либо столь отдалённое, чтобы об этом всё же не знали довольно многие?»
* * *
Один говорит: «Я пишу мало, не то что вы», имея в виду: «Зато хорошо».
* * *
Т. очень доверчив и совершенно лишён воображения. Мнение дурака может произвести на него неизгладимое впечатление именно потому, что ему и в голову не приходит, что тот дурак.
* * *
Ной выпускает голубя: «…и выпустил голубя; и он уже не возвратился к нему».
Он вернулся в Новом завете: «…увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него».
* * *
Книга критики: «Желчные пузыри земли» с эпиграфом «Сестра моя желчь – и сегодня в разливе».
* * *
Соблюдение прав человека создаёт больший шум, чем возмущение по поводу их несоблюдения и борьба за них. (В нью-йоркском метро.)
* * *
Из стихов Кузмина ясно, что он ни с одним человеком не был связан. И не только с человеком – ни с чем. В его вещах нет чувства тяготения к чему бы то ни было. Зато – прелестные (прельщающие, соблазняющие, женственные).
Но в дневниках всё по-другому.
* * *
Р. слишком любит жить, чтобы жить достойно.
* * *
Начало автобиографии: «Я родился за несколько десятков лет до смерти…» Добавим ли: начало счастливой автобиографии?
Вы скажете, что любая автобиография – счастливая, поскольку могла и не начаться… Не уверен.
* * *
Одна из самых поразительных встреч в литературе всех времён – встреча Петра Степановича Верховенского с Кирилловым перед самоубийством последнего, – беса низости с бесом духовности.
Мелкость сквозной мыслишки Верховенского: застрелится он или нет? – и крупность вызова Кириллова: Бог я или не Бог?
(«Если бог есть, то вся воля его, и из воли его я не могу. Если нет, то вся воля моя, и я обязан заявить своеволие. – Своеволие? А почему обязаны? – Потому что вся воля стала моя. Неужели никто на всей планете, кончив бога и уверовав в своеволие, не осмелится заявить своеволие, в самом полном пункте? ‹…› Я обязан себя застрелить, потому что самый полный пункт моего своеволия – это убить себя самому. – Да ведь не один же вы себя убиваете; много самоубийц. – С причиною. Но безо всякой причины, а только для своеволия – один я. «Не застрелится», – мелькнуло опять у Петра Степановича.)
И – гениальный ход-подстрекательство П.С.:
«Знаете что… я бы на вашем месте, чтобы показать своеволие, убил кого-нибудь другого, а не себя. Полезным могли бы стать. Я укажу кого, если не испугаетесь. Тогда, пожалуй, и не стреляйтесь сегодня. Можно сговориться.
– Убить другого будет самым низким пунктом моего своеволия, и в этом весь ты. Я не ты: я хочу высший пункт и себя убью».
Люди своевольничают с краю, а я по центру, – хочет сказать Кириллов.
Мелкая идеология палача питается возвышенной идеологией жертвы (ему ведь необходимо самоубийство Кириллова; питается; вообще Петр Степанович часто и с удовольствием ест в ответственные минуты – минуты перед убийством), а жертва питается низостью палача (ты совершаешь своё из низких, а я своё – из высоких побуждений, потому и совершу).
И все же оба совершают это не из «взаимных» соображений, а из личной выгоды; Верховенскому – замести следы, всё свалив на Кириллова, а Кириллову – доказать, что он свободен от Бога, что он Бог.
Потому их схватка фиктивна; они нужны друг другу, но как бы их разговор ни повернулся, произойдёт то, что должно произойти.
В непостижимости этой сцены как будто доказано существование Верховной Силы, столь отрицаемой и тем, и другим.
* * *
Профессорская жизнь – это сытая послеобеденная зевота в пыльном кабинете.
* * *
Десять часов – ещё ничего, но пол-одиннадца того – уже поздно.
* * *
«На свете счастья нет, но есть покой и воля…» подразумевает обратное: счастье есть, но оно состояние не духовное, а потому его нет. Покоя и воли нет, но это единственно духовная реальность, потому они есть.
* * *
Нет выбора между добром и злом. Нет вообще никакого выбора, поскольку, как сказано, если он есть, он не может не быть плохим. Есть состав крови.
В 70-е годы я знал молодого человека, которому грозил арест за антисоветскую деятельность. Его вызвали в Большой дом на Литейный, но накануне назначенной явки он покончил с собой, – ничего такого уж страшного
ему не грозило, если вспомнить «срока огромные», но он не мог допустить унижения допросом.
Это не урок морали, это пример того, что у некоторых людей выбора нет. А пока он есть у подавляющего большинства, этим большинством правит подавляющее их
меньшинство.
* * *
Одно из правильных определений: человек живёт настоящим (но не временем!).
* * *
Слово о словах:
«Газпром» – уродливое слово. Никакая реформа русского языка не сумеет разъять этих сиамских близнецов. Они и порознь не слишком красивы, а тут совсем труба. Вот
именно.
* * *
Дело не в ударениях и не в том, какого рода «кофе» (особенно в Париже или Венеции). Дело в способе соединения слов и в уместности их применения.
* * *
Женщина обращается к своему ребенку: «Иди сюда, кретин, кому говорю…» Он не кретин, но идёт, идёт, и пока дойдёт, станет кретином.
* * *
Выходит книга «Сталин» в серии «Жизнь замечательных людей». Но каково значение слова «замечательный» в русском языке? В той ли серии выходит биография серийного убийцы?
Евгений Евтушенко когда-то наивно просил правительство «удвоить, утроить… караул, чтоб Сталин не встал и со Сталиным – прошлое», но у слова «караул» есть и другое значение (как у «трубы»), и оно торжествует.
* * *
Кто-то пишет в адрес журналистки Н.: «Даже вот с точки зрения этичности – допустимо ли хаять всё русское и российское, попивая кофе в Париже?»
Пушкин заранее ответил: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей», и если вы окажетесь рядом с парижским кафе, не проходите мимо. То же и в Риме… Если, конечно, у вас нет дел поважней: например, написать «Мёртвые души», задать пару риторических вопросов типа «Русь, куда ж несёшься ты? дай ответ…».
Гоголь не расслышал, что она ответила, – может быть, вам повезёт и вы тоже не расслышите?
* * *
Я бы сошёл с ума, но не хочу пошлости.
* * *
Эмили Дикинсон «живее всех живых». Её интонация настолько оригинальна и человечна, что пробивается даже в самых худших переводах. То же – Уоллес Стивенс, Оден. И, разумеется, Шекспир.
Современная поэзия – это то, что созвучно вам, лично вам, здесь и сейчас. То, что находит в вас немедленный отклик, тот «колокольчик» из «Графа Нулина»:
Кто долго жил в глуши печальной,
Друзья, тот, верно, знает сам,
Как сильно колокольчик дальный
Порой волнует сердце нам…
Уместные строки. Нет в обиходе нынешней российской жизни этого «колокольчика», как нет больше в обиходе русской поэзии «глуши печальной», – тем удивительней, что человек, произносящий эти стихи, – вот он: его интонация, простота и лиризм высказывания так ощутимы, будто вы находитесь с ним в одной комнате.
И наоборот. Наимоднейший сленг, лихой матерок, пристрастие к откровенным сценам, придурковатое обаяние перфоманса и прочие отважные поползновения процесса, «позиционирующего» себя как сегодняшнюю литературу, для вас ничего не значат.
* * *
Остроумный философ-мизантроп сказал: «Любовь к ближнему – вещь невообразимая. Разве можно
требовать, чтобы один вирус любил другого?» В середине ХХ века сей философ ещё не знал, насколько он прав. Оказывается, человек – наслоение вирусов (подобно слоям в археологическом раскопе), в борьбе с которыми выжили его потомки, в том числе вирусов тех болезней, которых больше нет. Но – ждущих своего часа.
Судя по некоторым научно-популярным статьям, час «обратного» противожизненного клонирования пробил: учёные научились их воскрешать и, в принципе, могут устроить какую-нибудь опустошительную эпидемию. Было бы желание.
* * *
Состояние больного, когда в его присутствии о нём говорят в третьем лице. Это делается не намеренно, и интуиция, которая позволяет нам эту «вольность», на самом деле знает: он не здесь. По крайней мере, отчасти не здесь.
* * *
Как юный поэт, которому нестерпимо плохо (хотя никакой уж такой любовной драмы нет), находит для этого слова (столь же плохие, но – находит!), поскольку у него преизбыток сил при полном незнании жизни, а тем более законов искусства, – так поэт престарелый слов не находит, потому что знает, что истинное воплощение требует страдание превозмочь, а значит, испытать его словно бы вдвойне и выйти за его пределы, туда, где мычание или банальность пресуществляются в поэзию, – потому что он знает не только это, но и то, что у него нет сил («…но силы, силы отняты при этом» – из стихотворения Валерия Черешни, посвящённого Вяземскому).
* * *
Иногда кажется, что Пруст не сумел одолеть «правила приличия», навязанные временем: в «Любви Свана» столь не договорена грубость, будь то грубость слов или положений… Лишь упоминания о том, что она возможна. Но с ней, вероятно, исчезло бы то, что Пруст называет «очарованием затаённой грусти», говоря о короткой фразе
в сонате Вентейля: «Очарование затаённой грусти – вот что пыталась она воспроизвести, воссоздать, вплоть до самой его сущности, хотя сущность эта обычно непередаваема и представляется легковесной всем, кто её не изведал…»
* * *
Комплекс нарушения табу. Человек, всё время переходящий границу и в момент перехода делающий в штанишки, испытывая при этом несказанное удовольствие. В детстве ему говорили: «Не порть воздух, не ковыряй в носу», а он – назло. Сегодня так существуют многие литераторы.
* * *
Пушкин в «Элегии» (1830):
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море…
И концовка:
И может быть – на мой закат печальный
Блеснёт любовь улыбкою прощальной.
Через двадцать шесть лет Некрасов в «Последних элегиях»:
Душа мрачна, мечты мои унылы,
Грядущее рисуется темно…
Чуть дальше:







