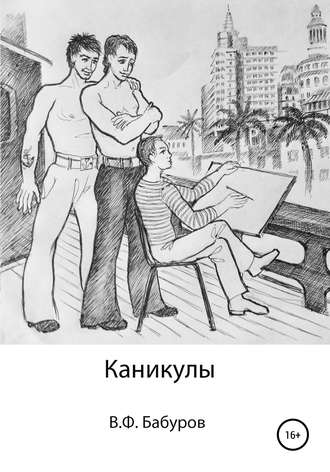
Владимир Филиппович Бабуров
Каникулы
– А документы? – спросил брат.
– Да с этим уладим. Помнишь, в Сингапуре на сутки из-за одного придурка задержались, который дебош в портовом кабаке учинил? Так я его своей властью лишил права сходить на берег, его документы изъял – теперь они у меня. Для арабов все европейцы на одно лицо… С его ксивой он и пойдёт. Пускай парень погуляет – ноги разомнёт, да и экзотику посмотрит. Ему, как художнику, это полезно для расширения кругозора будет.
Я был сражён этим неожиданным и великодушным жестом капитана. К тому же меня ещё никто из посторонних людей не назвал художником!..
Меня охватило ликование от столь высокого признания моих скромных успехов, а более всего – от неожиданно свалившейся перспективы побывать своими ногами за границей, да ещё и в загадочных Арабских Эмиратах. О таком везении я и мечтать не мог!
Морской пейзаж с натуры я расположился писать на самой верхней палубе. За капитанским мостиком над палубой был натянут большой тент, в тени которого я и разместился со ставшим уже моим раскладным этюдником. Вместо натянутого на подрамник грунтованного холста пришлось довольствоваться специально подготовленным грунтованным под живопись картоном, который я заблаговременно заказал ещё в Сингапуре, в комплекте с красками.
Время для своего пейзажа я, в противоположность прошлой картине, выбрал вечернее, тем более что, обогнув Индию, наше судно шло в северо-западном направлении, и мне из-под моего тента по левому борту открывался отличный вид на заходящее за морской горизонт солнце. К тому же место, где я расположился, было не проходное. Сюда редко кто из экипажа поднимался, разве что капитан или его помощник со штурманом – пивка выпить в тенёчке да в уединении. Я уже знал (это мне поведал тот художник – знакомый отца), что пейзаж с натуры надо писать, обязательно находясь в тени, иначе, написанный под ярким солнцем, он потом при обычном освещении окажется тёмным и пасмурным. Как-то, не взяв с собой зонт, я пренебрёг этим правилом и был удивлён метаморфозой моего пленэрного этюда. Полуденный пейзаж, написанный с натуры под ярким солнцем, дома оказался серым и почти дождливым.
Никогда раньше я не видел таких закатов, как те, которые открылись предо мной в тропиках. Небо из-за душных испарений и взвеси мельчайшей песчаной пыли, висящих в воздухе, было мутно-непрозрачным. Даже в полдень можно было спокойно смотреть на солнце, которое пробивалось через эту взвесь мохнатым серо-оранжевым пятном на ещё более жёлто-сером фоне. В небе не было той звенящей синевы, которая столь привычна для наших прохладных дальневосточных мест. И всё это при около пятидесяти градусах жары. К вечеру небо становилось одинаково тёмно-серым и почти сливалось с таким же тёмно-серым цветом воды. И над едва различимой линией между небом и водой висел приплюснутый близостью к горизонту огромный малиново-кровавый эллипс вечернего солнца, медленно погружавшийся за кривизну, скрывающую всю невидимую для нашего глаза часть планеты.
Эта экзотическая особенность колорита местного пейзажа значительно облегчала мою задачу. Я выкрасил фактически одной серой краской весь свой картон, слегка подсветлил границу между небом и водой и, недолго повозившись с подбором цвета, вписал туда сильно подспущенный малиновый воздушный шар солнца. Вспоминая магический эффект прежнего пейзажа, где выписанный передний план придавал законченность всей картине, я и на своём этюде едва заметно наметил легкую рябь волн, которую прописал более чётко по мере приближения к зрителю. Для пущего эффекта волнам переднего плана я добавил немного зеленовато-жёлтого оттенка, чтобы каким-нибудь образом связать мой «шедевр» с картиной из кают-компании, а по самым гребням некоторых волн малиновым цветом нанёс отблески света заходящего солнца.
Тем временем на горизонте стали появляться очертания каких-то невысоких гор, по мере приближения к которым стали различимы и зелёные заросли вдоль берегов, и кое-где виднеющиеся среди них, строения.
Брат объяснил мне, что мы уже находимся в Оманском заливе Индийского океана и скоро будем входить в Персидский залив, который по-английски зовётся просто – галф, а там уже и до Шарджи недалеко.
И вот наш корабль вошёл в воды Персидского залива. Слева по борту тянулась бесконечная полоса песчаной пустыни, на которой изредка попадались какие-то в основном одноэтажные, с виду глинобитные строения с редкими зелёными пятнами финиковых пальм. Вдруг среди этой плоской, как стол, равнины прямо из песка возникли компактной кучкой многоэтажные строения, резко, без всякого перехода, окружённые абсолютно голым пространством.
Это, как объяснил мне брат, был Дубай – один из семи объединённых в одно государство эмиратов. Через несколько часов неспешного хода мы причаливали под разгрузку к грузовому пирсу торгового порта Шарджа, также являющегося столицей, но соседнего эмирата. Вторгавшийся узким рукавом в пустыню залив, где располагался наш причал, заполнялся громадным количеством небольших деревянных корабликов, многие из которых были, кроме двигателей, оснащены мачтами с реями под паруса. Они были очень похожи на корабли восточных пиратов из иллюстраций к сказкам о Синдбаде-мореходе. На каждом таком кораблике сбоку от борта находилась висевшая над морской пучиной маленькая деревянная пристроечка типа бочки, в которой мог поместиться только один человек. Я поинтересовался у Женьки как у знатока парусного флота: что это за пристроечка?
Немного подумав, Женька стал рассказывать, что это, скорее всего, место для наблюдателя, руководящего процессом причаливания к пирсу или к другому кораблю. Но как раз в этот момент на ближайшем к нам кораблике в такую будочку, которая приходилась ему едва по пояс, вошёл бородатый мужик в чалме. Он, не стесняясь царившего вокруг оживления интенсивной портовой жизни, спустил свои штаны и, присев на корточки, стал справлять естественную надобность, с интересом при этом наблюдая из своего, трудно сказать, укромного места происходящую вокруг суету. Его какашки с громким шлёпаньем плюхались с высоты прямо в воды Персидского залива. Женька был посрамлён и обескуражен! Он попытался оправдаться тем, что якобы на каких-то португальских старинных парусниках такие пристроечки действительно были и использовались для того, о чём он и говорил. Мне стало жаль Женьку в его конфузе, и я снисходительно не опротестовал его объяснение.
Моя снисходительность имела давние истоки… Когда-то, когда я был ещё совсем маленький и учился во втором классе, я был очень влюблён в одну девочку. Сейчас, с позиций уже почти взрослого человека, я удивляюсь той совершенно не детской силе моих переживаний. Я вообще-то не был сильно стеснительным ребёнком, что подтверждалось большим количеством всевозможных педагогических репрессий в мой адрес, значительно превышающих среднестатистический уровень. Но предмет любовных чувств моих был для меня настолько идеален и недоступен, что я робел даже подойти к этой девочке, а не то что заговорить с ней. Эти пламенные чувства нашли совершенно неожиданный выход в моих первых стихах. В то время брат ещё был курсантом мореходки и приехал домой на каникулы. Он был безусловным кумиром для меня, и я, конечно, поделился с ним своей страшной тайной, с трепетом и сильным волнением прочитав ему своё стихотворение. Сейчас мне помнятся лишь первые строки из этого довольно пространного опуса: «Ты пари, орёл, пари в вышине далёкой, скажи милой о любви моей одинокой…»
– Чего-чего? – ядовито-насмешливо спросил брат. – Это что за «у-па-ря-ри ча-па-ри»?
Его слова ледяным душем обрушились на моё воспламенённое любовью сердце. Насмешливая оценка братом трепетных сокровенных стихов вызывала ощущение великого конфуза. Обида эта, значительно преувеличенная силой страстных чувств, запомнилась мне на всю жизнь. С той поры любая конфузная ситуация, происшедшая с кем-нибудь из друзей, будила в моём сознании сочувствие и сопереживание. Поэтому и на Женькином конфузе я не стал заострять внимание. Хотя соблазн был велик…
Как я позже узнал у старпома, уже бывавшего ранее в этих краях, на этих деревянных судёнышках осуществлялись местные перевозки грузов в пределах Персидского залива, в основном между Ираном и арабскими государствами Аравийского полуострова.
Я решил, что мой звёздный час настал. Свой «закатный» пейзаж с малиновой фасолиной вместо солнца я поспешил не медля представить на суд капитана, дабы напомнить о его опрометчивом обещании – отпустить меня на берег. Удачно получилось, что капитан как раз зашёл в каюту к брату обсудить положение дел с двигателем судна, чтобы в случае необходимости его ремонта вести соответствующие переговоры с администрацией порта.
Я благоразумно дождался завершения процедуры очередного уже ставшего рутинным «обсуждения» и на очередном тосте встрял в разговор.
– Вот, вы просили меня… – пролепетал я и поставил перед глазами «обсуждающих» свою картонку. Капитан с некоторым недоумением стал вглядываться в мою малиновую помидорину.
– А где море-то? – встрял в разговор брат.
– Как где? Да вот же волны…
– Разве море такое серое бывает? Вон у нас на пейзаже оно какое цветное да яркое. Ты что, красок пожалел?
– Погоди, погоди… – сказал капитан. – Я вот вчера на мостик вечером вышел – смотрю, а солнце-то точно такое, как у него нарисовано, приплюснутое. В наших широтах такого солнца и не бывает. Да и цвет у неба был такой же серый… Мне нравится! Он хорошо уловил особенность южных закатов. Только почему на море пусто? Надо бы тоже каким-нибудь корабликом оживить…
Тут и брат решил встрять.
– А что, если тут наш корабль изобразить с кормы, как бы уходящим к горизонту? Пусть и висит в нашей кают-компании наше же судно!
– А что! Идея хорошая. Наш корабль изобразить не слабо? – уже обернувшись ко мне, сказал капитан.
– Так это – его с натуры тоже надо бы… Если бы мне с причала его порисовать, пока на разгрузке стоим? Только с корабля сойти – мне пропуск нужен. Вы говорили, что Серёгин мне дадите.
– Какого Серёги?
– Это он, наверное, имеет в виду того балбеса, которого из каталажки в Сингапуре вызволяли, – напомнил брат.
– Ах, да! Что-то такое припоминаю. Да, точно, обещал! Ну ты, дружок, и хитрован! Всё помнишь! Ладно. Обещал так обещал! Попробуем арабов обдурить. Завтра контроль проходим – и сойдёшь размяться, но только обязательно у замполита инструктаж пройдёшь. Без этого нельзя. А я с ним поговорю…
Через день после этого разговора часть команды группами не менее трёх человек была отпущена для увольнения на берег. Для всех увольняющихся замполит провёл обязательный инструктаж с назначением ответственного старшего в каждой тройке с обязательным условием – никому ни в коем случае от своей тройки не отделяться и ни с кем, кроме членов команды, ни в коем случае не общаться. Ведь империалистические разведки не дремлют, и потерявшим бдительность членам экипажа легко попасть в их сети. В конце инструктажа замполит прошёлся насчет возможных нарушений общественного порядка и, напомнив экипажу о прискорбном негативном происшествии в Сингапуре, выразил удовлетворение, что хотя бы здесь он может быть спокоен за честь экипажа и всей страны, имея в виду, что Эмираты – мусульманское государство со строгим запретом на употребление алкоголя. А ввиду отсутствия в продаже такового некоторые склонные к неумеренному потреблению личности останутся трезвыми, что не позволит им уронить ничью честь.
Меня включили в группу с Женькой и назначенным старшим нашей группы вторым механиком.
Второй механик, пожилой мужик лет тридцати пяти, уже бывал в этих местах и кое в чём просветил нас.
Совсем недавно на полуострове нашли нефть, и в Эмиратах начался экономический подъём. Ещё в сороковые годы основными факторами экономики здесь являлись выращивание фиников и кустарная добыча жемчуга, а население состояло из враждующих между собой племён вокруг редких источников пресной воды. Богатым считался араб – владелец десяти финиковых пальм, но не из-за фиников, а потому, что в их тени можно выращивать помидоры. Другая растительность в этих скудных землях сама по себе не растёт в принципе. Коренные арабы (по-английски – «локалы») ещё помнят времена, когда, в течение года всё население племени, включая шейха, питалось исключительно финиками за отсутствием другой пищи. В местном краеведческом музейчике начало всей истории Эмиратов представлено фотографиями с момента прилёта в пустыню где-то в пятидесятые годы английского бомбардировщика. Это была первая историческая встреча английских офицеров с местной аристократией, сидящей на своих пятых точках и с босыми пятками на голом песке. Теперь Эмираты стремительно развиваются на нефти, и местные «голопятые» уже стали одними из богатейших людей на земле.
Кроме того, по совету великомудрых англичан, ставших основными и непререкаемыми гуру для арабов, в Эмиратах отсутствуют налоги, что сразу стало привлекать сюда ушлых бизнесменов со всего мира. Безналоговая политика обернулась тем, что в Эмиратах любой товар стоит почти на треть дешевле, чем в странах, где он производится. Вот мы и повезли каучук-сырец в страну, где нет фактически никакой что-либо производящей или перерабатывающей промышленности: какая-то фирма перепродаст его с большой выгодой для себя. По этой же причине Эмираты представляют особый интерес и для громадного количества заграничных тёток, приезжающих сюда за покупками на специально организуемые гигантские распродажи шмоток, именуемые фестивалями. Это же привлекает в Эмираты и крупный бизнес, представленный здесь известнейшими банками мира и офисами самых раскрученных компаний. Отсюда и растущие, как грибы, среди голой пустыни небоскрёбы с размещёнными в них банками, офисами компаний, торговыми центрами и отелями. Такой бум породил потребность в рабочей силе, и теперь в Эмиратах на одного «локала» (то есть местного) приходится около пяти гастарбайтеров. Это люди из других, менее благополучных арабских государств, а также из Индии, Пакистана, Малайзии, Шри-Ланки и многих других стран. Но самые главные люди здесь – англичане. Они идут первым сортом и по статусу, и по престижу. После них следуют «локалы», потом другие европейцы, за ними – приезжие арабы, потом – прочая шушера, и на последнем месте рабочие из Индии и Пакистана, которые за мизерные по местным понятиям деньги вкалывают на стройках при пятидесяти градусах жары полный световой день.
Вот в такую экзотическую заграницу мне и предстояло попасть впервые в своей жизни.
Сразу за портовой территорией начинался примыкавший к ней вплотную район старого города. Это были одноэтажные глинобитные строения, обращённые к улице глухими, без окон, стенами либо такими же глухими глинобитными оградами. Над этим плоским ландшафтом возвышались довольно длинные, этажа на три-четыре, прямоугольные трубы. Это напомнило мне крематорий из фильма про Освенцим, только труб было много – почти над каждым домом. Оказывается, это были вовсе не трубы крематория, а местная система вентиляции и охлаждения жилищ. За счёт высоты труб возникал перепад давления, и воздух из жилых помещений увлекался вверх, затягивая свежий в дома. Возникал сквознячок и даже некоторая прохлада. Чем выше была труба – тем в более комфортных условиях жили хозяева.
По улицам ходили совершенно одинаково одетые люди: мужчины – во всём белом, женщины – во всём чёрном. При этом «во всём» – мягко сказано. Мужчины были в белом с головы до пят в своих длиннющих белых рубахах и каких-то бабьих, в мелкую клетку, платках, опускавшихся им на плечи и закреплённых на голове чёрным обручем. У женщин чёрным закрыто было буквально всё, и даже, лицо закрыто чёрной занавесочкой. Открытыми оставались только глаза. А на лицах некоторых женщин были надеты какие-то оставляющие открытыми опять же только глаза кожаные, как бы медицинские маски, похожие больше на собачьи намордники или на забрала рыцарских шлемов.
Пройдя старый город, где, кроме уже выше перечисленного, в каждом квартале над серой одноэтажной застройкой возвышались минареты и купола мечетей, мы подошли наконец к видневшимся ещё издалека небоскрёбам нового города. Здесь начиналась банковская часть делового центра, что не представляло для нас никакого практического смысла из-за отсутствия вкладов в банках и вообще каких либо финансово-деловых интересов на тот момент. Мы быстро миновали этот местный «Уолл-стрит» нового города и вышли на главную респектабельную улицу – аль-Вахда роуд, заполненную отелями, магазинами, ресторанами и прочими атрибутами загадочного, такого привлекательного и такого недоступного мира «загнивающего запада». Улица эта была заполнена самым разнообразным народом. Со всех сторон слышался разговор на многих языках, но в основном на английском. Как выяснилось, ввиду громадного количества приезжего народа английский стал в Эмиратах главным языком общения, и для «локалов» он теперь второй основной – после арабского. На нём свободно говорят даже местные дети. Меня поражало, как много в этой стране совершенно свободно живущих людей со всего мира, и это никак не пугает её руководителей. Почему-то в Советском Союзе каждый даже случайный контакт с любым иностранцем был государственным преступлением, приравненным к госизмене. А тут – на тебе! Никто не боится не то что разговаривать, а хоть за ручку ходить с кем хочешь. Погуляв немного по аль-Вахда роуд, мы, скорее чтобы отметиться, решили выпить по чашечке кофе, так как большую роскошь ввиду ограниченности финансовых ресурсов не могли себе позволить. Проходя мимо стеклянных стен какого-то кафе, перед входом в который прямо у тротуара стояло несколько столиков, мы присели за один из них. Из кафе тут же выбежал очень проворный молодой смуглый парень и жестом бывалого фокусника расстелил перед нами белоснежную скатерть. Женька что-то вдруг сказал ему на непонятном мне языке. Парень тут же скрылся в кафе и через некоторое время принёс поднос с тремя чашечками изумительно ароматного кофе. То питьё под названием «кофе», которое мне приходилось пить в нашей студенческой столовой, ни в коей степени не соответствовало этому чудесному напитку ни ароматом, ни вкусом, и вообще трудно понять, почему ту сваренную в общем баке бурду называли кофе.
Невозможно представить, чтобы где-нибудь в Союзе ради чашки кофе стали бы накрывать белую скатерть. Скорее обматерили бы и послали куда подальше. Да и столиков у тротуара у нас я что-то не припомню.
Но более всего меня потряс Женька. Как это так?! Как же это он так вот запросто чего-то сказал – и его поняли?!
– Жень, а ты что? По-ихнему говорить умеешь? Как это?
– Да я английский давно учу. Как решил стать моряком, так и язык стал самостоятельно учить.
– Вот здорово! Ну ты молодец! А я вот и в школе с пятого класса английский учил, и в институте – уже год как, а, кроме как «ху из дьюти тудэй», ничего не понимаю, и сказать толком не могу.
– А что ты удивляешься? – вступил в разговор второй механик. – У нас ведь специально так учат, чтобы никто говорить не умел и ничего не понимал. Вон, когда я был курсантом… Как-то появилась делегация английских преподавателей русского языка, так наши «англичанки» все попрятались. Побоялись, что все выясняь, что они сами языка толком не знают. Ты думаешь, почему во всех анкетах есть пункт о владении иностранными языками? Да чтобы тебя же на учёт и поставить. Чтобы тебя за границу не выпускать. А языки по-настоящему учат только в спецшколах, где готовят по линии КГБ. А те, кто, вроде Женьки, умудряются всё-таки язык изучить, сразу ставятся на учёт и становятся либо стукачами и КГБ-шными шестёрками, либо навсегда невыездными, так что ты, Жека, никому о своём английском не трепись, а то проблем не оберёшься.
Мы рассчитались с официантом, который не выразил ни малейшего недовольства по поводу того, что, несмотря на постеленную нам скатерть, заказ был ограничен только кофе, а не перерос в банкет. Было приятно осознавать, что хотя бы с краешку мы соприкоснулись с благами «буржуйской» жизни. Повинуясь дальнейшим указаниям нашего старшего во всех смыслах и опытного руководителя, мы двинулись с этой роскошной улицы отовариваться в доступное для наших скудных кошельков место – на индийский рынок. Мне мой брат выделил от щедрот своих пять американских долларов, которые, наряду с местными дирхамами были в ходу на неофициальном рынке, а особенно у индусов.
Я впервые в своей жизни имел на руках доллары и решил ни в коем случае их не тратить на ерунду, а приберечь на что-либо более стоящее в будущем. Хотя в то же время я знал, что везти доллары домой было очень опасно. У всех на слуху ещё была свежа история, как по приговору суда в Москве были расстреляны так называемые валютчики, а за простое владение иностранной валютой можно схлопотать до восьми лет лагеря.




