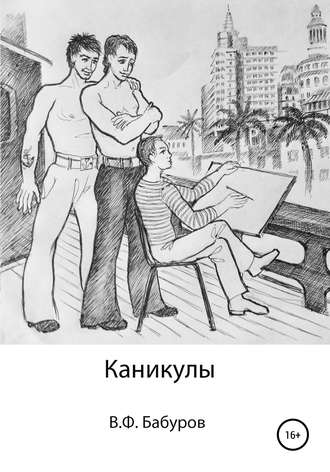
Владимир Филиппович Бабуров
Каникулы
К не очень большому моему сожалению, в данном порту не оказалось судна, подходящего для столь высокой миссии, как отправка меня домой. Мы загрузились каучуком для Южно-Африканской Республики и непредвиденно, по радиограмме из пароходства, и для Арабских Эмиратов. Нам предстоял длительный переход по южным широтам с заходом в экзотический порт Шарджа.
Моя жизнь на судне постепенно становилась всё насыщенней впечатлениями и знакомствами. Свободные от вахты моряки с удовольствием позировали мне, что скрашивало их досуг в замкнутом пространстве корабля. Я тоже извлекал из этого немалую для себя выгоду. Те портреты, которые не особенно удовлетворяли «заказчика», становились моим личным фондом, которым наряду с натурными зарисовками и этюдами я собирался поразить своих педагогов по возвращении в институт. Кроме того, я получил отличную возможность общения с кругом совершенно новых и необычных для меня людей. Особенный интерес к возможности запечатлеть себя проявила одна из тех чудесных женщин, присутствие которых в кают-компании так приятно удивило меня. На судне она совмещала две должности: официантки и библиотекаря.
В моей не сильно благодаря юному возрасту насыщенной событиями биографии особенным пробелом, смущавшим моё самосознание, было отсутствие опыта отношений с женщинами.
Конечно, имелось в виду не повседневное общение, которым иногда даже чрезмерно наполнена жизнь каждого, кто не сидит целыми днями дома. Подразумевалось то, что давно уже зрело в глубинах моего подсознания, но пока не имело возможности воплотиться в реальной жизни.
Короче, что там наводить тень на плетень – я был девственник…
В общежитии, конечно, хватало всяких рассказов перед сном о подлинных или мнимых сексуальных подвигах моих друзей, многие из которых поступили в институт уже после армии и имели кое-какой жизненный опыт. Но мне собственной практики пока что Бог не дал. Излишне говорить, что моё семнадцатилетнее естество было постоянно атаковано почти непрекращающимися сексуальными фантазиями, доводящими меня иногда до умопомрачения невозможностью их немедленного удовлетворения, а тут – на тебе, женщина! Да ещё такая симпатичная, да ещё позировать хочет! Старовата, правда, для меня. Ей, наверное, уже года двадцать три. Я для неё, конечно, пацан совсем, вряд ли хоть какой-то интерес могу у неё вызвать, кроме портрета. Вон тут сколько взрослых мужиков, да ещё каких! Ну ладно… Хоть так пообщаюсь – и то приятно.
«Библиофициантку» или «офицбиблиотекаря» звали Нюра. Мы договорились начать её портрет на следующий день в её свободное время. Кубрик, где обитала Нюра, был двухместный и довольно маленький, в отличие от роскошных апартаментов моего брата.
Я поинтересовался, как же мы будем заниматься портретом в крошечном кубрике, да ещё и в присутствии её напарницы. Но Нюра успокоила меня, сообщив, что напарница её работает в другую смену, да и вдобавок почти не ночует на своей койке, так как у неё роман со штурманом.
Ничего себе – роман! До сих пор я думал, что роман – это когда дарят цветы, ходят на свидания и целуются где-нибудь в кустах, чтобы никто не видел. А тут на тебе – роман! Какой же это роман, если в своей койке не ночевать? Это женитьба какая-то.
Я сходил в каюту к брату за большой папкой с роскошной фактурной бумагой и коробкой цветной пастели, которые были куплены по моему необузданно наглому списку распоряжением капитана. Когда я постучал в дверь каюты моей натурщицы, она была уже готова позировать…
Нюра расположилась на своей койке в позе нимфы, отдыхающей на берегу лесного ручейка. Я, конечно, представлял себе, как должны выглядеть нимфы, по начальному курсу лекций по античной истории искусств, которые нам читала замечательная интеллигентная старушка Клавдия Парфентьевна. Но то, что представляла собой Нюра, было выше всех моих знаний об этих шаловливых созданиях. Она лежала на боку лицом ко мне, прикрытая до половины какой-то полупрозрачной, очевидно нейлоновой тряпицей. А неприкрытая часть её фигуры, то есть то, что художники называют торсом, была совершенно обнажена. Я, конечно, слышал от старшекурсников в общежитии, что они в аудиториях рисуют обнажённую натуру, и меня эти рассказы очень волновали.
Удивительным представлялось, как я стану на старших курсах совершенно свободно лицезреть обнажённую женщину и мне за это ничего не будет. А тут – на тебе! Вот лафа привалила! Мне одному, да ещё и первокурснику – такое везение. Вот покажу свою «обнажёнку» в общаге – все так и попадают…
Несмотря на эти мои рассуждения, я был, конечно, очень смущён и сильно робел. Стараясь выглядеть бывалым художником, которому всё это не в диковинку, я расположился на соседней койке – напротив. После нескольких несмелых штрихов розовой пастелью руки почему-то не стали меня слушаться. Глаза помимо воли отказывались смотреть на представшее предо мной великолепие. Нюра, с очевидным интересом наблюдая это замешательство, решила меня подбодрить и предложила подсесть к ней на кровать, чтобы я получше освоился и перестал смущаться. Кровь ударила мне в голову. Как во сне, преодолевая слабость в ногах, ставших ватными, я переместился на постель к «трепетной нимфе». Нюра взяла мою руку и положила себе на грудь. Я впервые, за исключением грудного возраста, наверное, прикасался ладонью к обнажённой женщине. Меня словно ударило электрическим током. По всему телу пробежала волна какой-то незнакомой до этих пор энергии и мгновенно сосредоточилась в нижней части живота таким образом, что джинсы мои стали моментально тесными. Я застыл. Мне было очень стыдно, что Нюра может заметить восставший непослушный орган и рассердиться за такую неподвластную мне хулиганскую выходку. Но Нюра ничего не заметила, а напротив – обеими руками притянула меня и крепко прижала к своей груди.
– Хочешь полежать со мной? – спросила она.
– Да, – не веря неожиданно свалившемуся счастью, сдавленным голосом чуть слышно просипел я.
– Ну, тогда раздевайся.
Я непослушными руками стянул джинсы и, стараясь, чтобы Нюра не заметила мой восставший срам, спиной к ней, согнувшись, стал примащиваться на постель.
– Совсем раздевайся. – сказала Нюра.
«Как совсем? – подумал я. – Ведь тогда она увидит всю мою стыдобу, ничем не прикрытую».
– Давай, давай, не стесняйся. Давай я тебе помогу, – и мигом сдернула с меня жалкие остатки моей былой девственности.
Что было потом – мне трудно вспомнить. Сознание моё было затемнено какими-то яркими вспышками ни с чем несравнимого блаженства, сплошного электрического тока, почему-то ощущаемого всей кожей от соприкосновений с роскошным и таким волнующим женским телом.
Сколько времени продолжалась эта неоднократно повторявшаяся оргия, не могу сказать. Наконец Нюра сказала, что ей пора собираться на вахту, и отправила меня. Внутри во мне звучали фанфары, били литавры и прочие инструменты большого симфонического оркестра.
Ура – я не девственник! Я смогу на равных участвовать во взрослых разговорах перед сном в общежитии, и пусть только какая-нибудь скотина попробует насмешничать надо мной! Порву!
Когда я вернулся в каюту брата, он был уже там.
– Ну и как? – спросил брат.
– Что как? – c подчеркнутым недоумением ответил я.
– Где ты был?
– Где, где… Портрет рисовал.
– Ну и как? Получилось?
– Конечно, получилось!
– Покажи.
– Покажи да покажи, нашёлся проверяльщик!
Я полез в свою папку с рисунками и вынул портрет четвёртого механика: молодого пацана – курсанта мореходки, проходившего практику в рейсе. Он позировал мне недели две назад, и мы с ним почти сдружились. У нас с ним из всего экипажа была самая небольшая разница в возрасте, он интересовался искусством, а самое главное – он был в полном подчинении у Деда – то есть у моего брата. Я уже успел узнать, что Дедом на судне называют не самого старого, а старшего по должности механика. Конечно, парень воспринимал меня слегка свысока, но и немного заискивал, надеясь через мои родственные связи добиться и более лояльного отношения к нему сурового Деда.
– Да-а-а, – протянул брат, – что-то Нюра у тебя мало похожа. Особенно бакенбарды не её!
Действительно, на портрете у четвёртого механика были бакенбарды, которыми он пытался компенсировать свой молодой возраст и почти девичий румянец своих щёк.
– Какая Нюра?! – удивлённо возмутился я. – Не было никакой Нюры!
– Брось пургу гнать, – сказал брат. – На судне не спрячешься. Весь экипаж знает, а ты дурак, один ничего не знаешь. Ну что, свадьбу – то будем играть?
– Какую свадьбу?! Мне ещё восемнадцать не исполнилось!
– Ну, пока до Кейптауна сходим да назад вернёмся – как раз тебе восемнадцать и случится.
От такой неожиданно свалившейся перспективы у меня мысли стали путаться. А как же я буду учиться? А если дети пойдут? А где жить с семьёй? Не с родителями же! И так с большим трудом от них оторвался. Слава Богу – в общаге живу. А тут – жениться! Нет! Ни за что! Это в мои планы пока что не входит.
Тут брат, очевидно, каким-то внутренним чутьём, ощутил всю степень моего смятения.
– Ладно. Не сцы. Вопрос с женитьбой как-нибудь уладим. Нюра – девка хорошая: подберём ей кого-нибудь. А ты смотри больше никуда не вляпайся. А то вернёшься домой с кучей детей, хорошо если своих.
«Да-а-а, вот она, взрослая жизнь, – подумал я. – Только расслабишься – и ты уже влип! Как в тайге. На каждом шагу – опасность! Впредь надо быть осторожным».
С этими горестными мыслями я и уснул. Но не тут-то было! Мне снилась Нюра в каких-то мехах, но с голым торсом и почему-то в комнате нашего общежития. И я опять с ней, а в комнате полно людей. И они входят и выходят, а мы с Нюрой как будто никого не замечаем, и нас никто не замечает. И я опять вопреки нереальности происходящего ощутил то же блаженство, какое и в кубрике у Нюры.
Проснулся я утром с полным убеждением, что мне, пожалуй, стоит жениться на Нюре – и будь что будет. А с детьми как-нибудь разберёмся.
Снова захватив свою папку и коробку пастели, я направился к каюте Нюры в несмелой надежде, что под предлогом продолжения «натюрсессии» мне опять обломится то великое счастье, которое так неожиданно и ошеломляюще обрушилось на меня вчера. Заодно я намеревался обсудить с Нюрой вопрос о нашей женитьбе. Меня, правда, смущало моё несовершеннолетие – захочет ли Нюра ждать целых два месяца.
У трапа на нижнюю палубу, где была каюта Нюры, стоял, прислонясь спиной к переборке и скрестив руки на груди, здоровенный матрос из швартовой команды.
– Куда курс держим? – спросил он ласковым и дружелюбным голосом.
– Да вот – Нюра просила… – почему-то пролепетал я.
– Мой тебе совет: будь поосторожней! Ходишь где попало. До берега далеко. Море глубокое. Выпадешь случайно за борт – нихто и не хватится. А Нюра занята… Просила её не тревожить. ПОНЯЛ, ПАРЕНЬ?!
Последние слова были произнесены вдруг таким совсем не ласковым голосом, что у меня как-то послабело в ногах, и расхотелось идти к Нюре, а захотелось, наоборот, поскорее вернуться в каюту брата.
– Ну вот и хорошо, – опять ласковым голосом замурлыкал детина. – Ты, парень не меньжуйся. В гости заскакивай, портреты порисуем, в картишки перекинемся.
Я на своих ставших ватными ногах побрёл назад.
«Да… – думал я. – А с виду ребята такие хорошие да задушевные. Наверное, этот громила сам на Нюре жениться хочет. Ну что ж. Не буду мешать чужому счастью. Конечно, что я такое в глазах Нюры перед этим мастодонтом. Он вон какой мужик, а у мне ещё школьный пиджак не тесен сорок четвёртого размера.
К тому же в глубине души шевельнулось лёгкое облегчение: проблема с женитьбой как-то сама собой и разрешается. Нюра, конечно, предпочтёт «мастодонта», как только узнает, что он её полюбил, а я – снова свободен! Рановато мне ещё в петлю-то лезть. Ещё институт надо закончить, да и вообще – жизни не видел…
Мои философские размышления о сложных перипетиях судьбы были прерваны весьма ощутимым шлепком по плечу сзади.
– Привет, маэстро! Куда влечёт вас рок событий? А я как раз с вахты, пошли ко мне в кубрик. Поболтаем.
Честно говоря, розовый румянец, окаймлённый, по тогдашней моде, жиденькими бакенбардами четвёртого механика, несмотря на толчок в плечо в качестве приветствия, меня обрадовал.
Мне был приятен этот парень. С ним можно было разговаривать о вещах, выходящих за рамки обычных среди моряков тем выпивки, баб, «бабок» и, конечно, драк в портах во всём многообразии случаев и событий. Общаясь наедине со многими из позировавших мне членов команды, я таких разговоров наслушался не на одну приключенческую повесть. А с Женькой – так звали моего нового приятеля – мы могли поговорить и о книгах, и о музыке, и о живописи, и о новых фильмах. Видно было по всему, что и он испытывал потребность такого общения, кроме обычных на судне выпивки да игры в карты. Особенно я зауважал Евгения за то, что он, как и я, совсем недавно полностью осилил книгу Станислава Лема «Сумма технологий». Этот полученный нами посыл к размышлениям и трансформации мироощущения сильно подпитывал интерес друг к другу.
Наши разговоры, бывало, продолжались всю ночь.
Как-то мы не без участия Лема дорассуждались до философского обобщения, что всё в мире взаимосвязано и не случайно. Всё вытекает одно из другого. Это правило работает и в биологии, и в космосе, и в отношениях между людьми, и, естественно, мы заговорили и об искусстве.
Женька с лёгкой завистью сказал:
– Тебе хорошо, ты художник. Ты рисовать умеешь. А я вот в детстве рисовать любил, да художником не стал. Наверное, я неспособный.
– Женька, – сказал я. – Рисование – это такая же грамота, как и писание букв. Если бы тебя учили в школе рисовать столько же, сколько писать буквы, ты был бы такой же грамотный и в рисовании. Только буквы передают словесную информацию, а рисование – информацию визуальную, о том, как выглядят предметы. Так что дело вовсе не в способностях. При его желании и медведя можно научить рисовать. Но так же, как умеющий писать буквы – ещё не писатель, так и умеющий рисовать – ещё не художник. Художником, как и писателем, может быть только тот, кому есть с чем обратиться к человечеству – либо через писание букв, либо через рисование. А умение рисовать так же относится к искусству, как умение писать буквы к литературному творчеству. Чтобы делать искусство, надо быть ЛИЧНОСТЬЮ!
– Вон как ты это здорово объяснил! Откуда ты такой умный?
– Да это не я сам додумался. Это у нас на факультете есть преподаватель такой. Он сам из Москвы, по распределению приехал. Продвинутый – жуть! Вот он нам и объясняет, что да как.
Тут мы с Жекой и задумались: а что же такое личность? Чем личность отличается от не личности? И кто мы такие – личности или не личности? Каждому из нас, конечно, хотелось бы быть скорее личностью, чем не личностью, но, с другой стороны, мы вроде ещё и не писатели! Но опять же у нас всё впереди. Максим Горький вообще толком нигде не учился, окончил там какие-то свои университеты, а поди ж ты – великим писателем стал.
– Как ты думаешь? – спросил меня Женька. – Я уже личность или ещё не личность?
– Я даже и не знаю… – ответил я. – Я ещё и с собой не определился. Наверное, это смотря с кем сравнивать. Вот если писатель – личность, то с остальными как же? Может быть, дело не в том – писатель ты или не писатель, с ним-то всё понятно! Обращайся себе к человечеству – и дело в шляпе. А вот если ты не писатель и не настоящий художник – личность ты или не личность?
– Вот взять, к примеру, наш экипаж, – сказал Женька. – Многим не то что к человечеству обратиться, а и между собой-то поговорить толком не о чем. Одни разговоры – о бабах да о мордобое, да в карты всё свободное от вахты время режутся. Конечно, если взять нашего капитана – он с человечеством общается постоянно. В каждом порту документы оформляет, на английском говорит. Мореходку опять же закончил. Дело своё знает.
– Опа! – сказал я. – Наверное, дело как раз в деле? Если человек знает какое-то дело, нужное не только ему самому, но и другим людям – это, наверное, уже личность?
– Даже не знаю, что и сказать… – ответил Женька. – Вон у нас в посёлке сосед картошку выращивает, по сто пятьдесят кулей выкапывает и продаёт. Тоже вроде для людей старается – дело делает, а поговорить с ним не о чем. Он кто? Личность или не личность?
– А, вопрос? Если с ним поговорить не о чем – чем его голова занята? Наверное, только одной картошкой? С этим к человечеству обращаться проблематично. Разве только к соседу по огороду?
– Так получается что? Личность – тот, кто может что-то сказать или сделать важное не только для себя или своей семьи, а и для многих других людей. И тогда получается, что, чем ты более интересен другим людям, тем ты и большая личность? – изумился Женька.
– Выходит, что так. Видишь, ты какой умный, как ловко сформулировал, – похвалил я его. – Получается, с личностью мы определились, а как быть с не личностью? Где граница? Как мы можем определить: этот – уже личность, а этот ещё нет. И как называется этот, кто ещё нет?
– А давай посмотрим – кто у нас на судне личность, а кто нет? Вот с капитаном всё понятно – личность. А вот матрос Серёга – быдло быдлом. Разговоры только о бабах, драках и как напиться…
– Слушай, Жень, – сказал я, – интересно, а Серёга обидится, если узнает, что мы его в быдло определили?
– А и пусть обидится. Его даже следует обидеть, чтобы он хоть немного задумался. А то вести себя не умеет: матерится на каждом шагу, даже при женщинах. Зарабатывает вроде не хуже других, а одевается как босяк. Все деньги пропивает, на большее ума нет.
– Так, может, он и не виноват. Может быть, у него детство было трудное, родители дураки – учиться не заставляли.
– Так-то оно и так. Да только вон Димке тоже с родителями не повезло: отец – запойный пьяница, а мать в зоне срок отбывала. Так он, наоборот, на плохом примере себя в руки взял, книжки читал, на штурмана выучился. Теперь человек человеком.
– Вот ты говоришь «человек человеком». А что такое человек? Как ты думаешь, чем таким люди отличаются от животных?
– Ну, умом, наверное, – немного подумав, ответил Женька. – Хотя, если разобраться, и у животных ум бывает. Вон, у меня дома собака – такая хитрющая тварь! А дельфины? У них мозг, говорят, побольше человечьего.
– Так, может, люди отличаются тем, что они, к примеру, дома строят?
– Да дома и насекомые строят: пчёлы или муравьи. Бобры те же…
– А может, отличие в том, что люди живут сообществом?
– Ха, сказал! У муравьёв сообщество покруче иного государства будет. Там тебе и рабочие муравьи, и армия с солдатами, и строители, и няньки, и свой микадо имеется. А, главное, никаких тебе революций. Живут себе единым счастливым коллективом.
– Ничего не понимаю, – сказал я. – Что ж это выходит – мы ничем от скотины не отличаемся?
– Выходит, если и отличаемся, то совсем немного. Сам посуди. Человек рождается – дурак дураком. Не зря говорят: «дитё неразумное». Если его не воспитывать да в школе не учить – он дураком и останется. Читал про маугли? Да не про того, который у Киплинга, а про тех, которых в натуре животные вырастили. Так они, если лет до двенадцати к людям не попали, – так и остаются животными. Даже говорить не могут научиться.
– Так вон оно что! Человеком становятся, если вовремя получают воспитание и образование! Пока люди не воспитывались да в школе не учились – были дикие и от животных почти ничем не отличались. Разве что чуть посмышлёней были. Ну и вели себя соответственно.
– Да, наверное, Серёга так себя и ведёт?
– Слушай, а зачем вдруг людям понадобились воспитание и образование и прочие там книжки? Вот жили себе, жили на земле – как и все прочие существа – и вдруг на тебе, подавай им книжки и воспитание. Как-то скотина и без этого обходится.
– На то она и скотина! Я вот только сейчас и догадался, что книжки и есть основное отличие человека от скотины! Человек жил скотиной сотни тысяч лет и делал всё, что только ему захочется, ни в чём себе не отказывая. А тут вдруг какие-то жалкие шесть-десять тысяч лет назад он стал объединяться с другими. А с другими надо считаться, а природа его миллионы лет создавала, чтобы он ни с кем не считался. Как ему, бедному, быть? Все его внутренние органы формировались для дикой жизни. У него и гормоны соответственно выделяются. Раньше он хотел самку – и тут же мог её иметь, если она попадала в поле его видимости. А сейчас нельзя – она чья-то жена. Хотел есть – убивал всё, что двигалось вокруг него. А теперь нельзя – свинка соседская, а на гастроном ещё заработать надо. Вот в книгах человечество и накапливает опыт: как жить, считаясь с другими. А считаться с другими, наверное, и есть культура.




