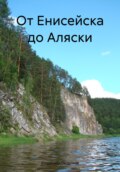Владимир Дмитриевич Окороков
Ясак
Глава 3 Маковский острог.
После тихих и спокойных вод Иртыша, когда суденышки без труда скользили вниз по течению, подъём против течения Оби был уже не таким лёгким и приятным. И все же даже этот участок пути не был таким тяжелым и выматывающим, как путь по Кети.
Русло этой таежной реки не всегда позволяло идти по берегу, кое-где приходилось, то по грудь заходить в воду, то карабкаться по скалам, рискуя свалиться в бушующий поток. И это не один день и даже не два, а почти месяц. Месяц каторжной, изнурительной работы. Днем под палящими лучами солнца, отмахиваясь от слепней и оводов, тащили дощаники и струги, а холодные ночи коротали возле костров, дым которых хоть как-то отпугивал тучи комаров и мошки не дававших людям заснуть.
Тут же, на этих кострах, из бересты гнали деготь. Первейшее и проверенное средство от таежного гнуса, правда липкое и вонючее, но на это никто внимания не обращал.
Так что к концу лета люди в отряде внешне походили уж совсем не на служилых людей государева войска, а на шайку разбойников. Обросшие, бородатые, изъеденные мошкой, с черными от дегтя лицами. Изодранное ветками и сучьями в лохмотья и потерявшее не только свой фасон, но и цвет, обмундирование, болталось на исхудавших телах.
И когда в отряде знающие люди вдруг заговорили, что, мол, до Кетского острога остался всего лишь один дневной переход, люди с облегчением вздохнули и повеселели. Они были уверены, что там наконец-то их ждет большая стоянка, баня, хорошая горячая пища с выпивкой и, конечно же, отдых.
***
Последний раз большая стоянка должна была быть в Нарымском остроге, что в устье впадения реки Кети в Обь. Однако экспедиция тогда задерживаться в Нарыме не стала. Оставив часть груза предназначенного для населения острога, малость передохнули и отправились вверх по Кети. Время, как говорится, поджимало.
Поскольку предстоящий, как считалось последний, этап пути был самым протяженным и трудным, то и сейчас стоянку решили сократить до минимума. Дальше предстояло, доверившись памяти казаков десятника Кайдалова по их заверениям ходивших уже по этому пути к Енисею, подняться по Кети до заветной тропы, а там «волоком» по тайге до речки Тыя. Все понимали, что надо торопиться, время до холодов оставалось совсем мало.
Невзирая на ропот и недовольство казаков, Петр Албычев посоветовавшись с Кетским воеводой Челищевым, решает, не мешкая, продолжить путь.
***
Следующие две недели уже с трудом перетаскивая струги по мелководью, пройдя около двухсот верст, вверх по Кети, караван снова разбивает лагерь.
Пешком до речушки Тыя оставалось не менее трех дней пути. Но это если идти налегке. Албычев и Рукин задумались.
– Зима уже наступала на пятки, вот-вот пойдет снег и ударят морозы, а путь впереди предстоит нелегкий. Ведь нам еще надо перетащить туда весь груз. Зимовать здесь надо, а то и сами пропадем и груз растеряем. – Уговаривал Рукин Албычева
– Да понимаю я все, чай не маленький. – Петр в задумчивости оглядел лагерь. – А знаешь Черкас, ты прав. Будем зимовать. И место, посмотри-ка, как специально для нас уготовано. Люди, и так изрядно уже измотаны, едва на ногах держатся, пусть отдохнут. А завтра с утра всем объявим, да и начнем строиться с Божьей помощью. Ты Черкас вечером к нашему костру кликни-ка Андрейку Фирсова, по всему видно, паренек-то головастый. Может, что дельное подскажет.
На том и порешили. Место на берегу Кети, где расположился отряд на ночлег, действительно, как будто специально было предназначено для строительства острога, а то и небольшого городка. Достаточно большая поляна на достаточно высоком и крутом берегу. И судя по принесенным течением корягам и лесинам, валявшимся у реки, поляна не подтоплялась весенними водами.
– Лес здесь как на подбор, да и рядом совсем. По крайней мере, нам на первое время хватит. – Черкас обвел рукой вокруг себя.
Даже в сгущавшихся сумерках было видно, что строевой лес был действительно почти под самым боком. С трех сторон поляну плотной стеной окружали высокие, столетние сосны.
– Место, действительно, отменное. – Задумчиво произнес Петр. – Меня, Черкас, другое беспокоит. Хватит ли нам хлеба до следующего каравана? По плану-то мы в эту осень должны были уже к Енисею выйти. Ведь у нас хлеба, сам понимаешь, только на эту зиму и хватит-то. А если обещанный, воеводой, караван не придет? Голод будет.
– Не кручинься, атаман, эти люди ко всему привыкшие, как-нибудь перезимуем, а там видно будет. Здесь и рыбы, и мяса полно, не ленись только. Может зерно, попридержим, сэкономим малость. Выдержим, атаман не печалься. Вот только воеводе надо, как-то, дельно отписать, чтоб не разгневать его?
– Однако надо сейчас решать. Обратно двести верст до Кетского острога спускаться, или рискнуть и к Енисею по снегу идти, или здесь зимовать. Вот и ты говоришь, «как бы воеводу не расстроить». Нам, Черкас, не только перед воеводой ответ держать придется, но и перед всем честным народом, если мы отряд по глупости своей погубим.
– Так решили же. Завтра объявим казакам, сам увидишь, большинству вздумается здесь зимовать. Избы и землянки мы к Покрову Пресвятой Богородицы с Божьей помощью построим.
– Не знаю, вот ведь только Воздвижение Креста Господня было, две седмицы и осталось-то до Покрова. Совсем время нет. Да и кто топором-то владеет? Раз, два, да и обчелся. Твои стрельцы, поди и топора-то в руках не держали?
– Всякие есть. Я вот что, атаман думаю. Утром лично со всеми стрельцами и казаками переговорю, кто может топором работать те в лес, на заготовку бревен. Кто топора, как ты говоришь, в глаза не видел, зачнут землянки копать, этому-то учить никого не надо. А еще, я знаю, охотники есть, надо мясо-то впрок заготовить. В общем, я завтра сам всякого испытаю, к чему годен и тебе, атаман, доложу.
***
После этого ночного разговора прошло всего несколько дней и теперь визжание пил и стук топоров стал настолько привычен, что на это никто и внимания не обращал. Работа начиналась затемно, затемно и заканчивалась, стихая только лишь на обед.
Когда в начале октября внезапно ударил морозец и запорошил первый настоящий снег, стойбище уже выглядело как небольшой городок. Пяток рубленых изб да столько же землянок были почти готовы, только и оставалась-то сложить в них печи из камня, либо чувалы и живи. В первую очередь, кроме бани, был построен амбар. Он хоть и был с виду неказист, однако не протекал и теперь в нем хранился весь груз. Поселение было огорожено двухметровым тыном с воротами, выходящими к реке и двумя смотровыми вышками.
Получилась вполне себе добротная заимка, в которой можно было не только перезимовать, но и в случае чего укрыться от воинствующих кочевников-тунгусов, частенько рыскающих в этих местах.
Внезапно на заимке появились националы. Они подобострастно улыбались, угодливо заглядывая казакам в глаза говоря: «Рус корошо. Намак тоже корошо. Намак кланяться велел. Подарок дарить Намак воевода прислал».
Оказалось что заимка, ставшая в будущем новым острогом, была возведена на землях остяцкого князя Намака, весьма лояльно и дружески настроенного к русским властям. Он и его люди одними из первых присягнули русскому царю, приняли православие и безоговорочно платили «ясак» в российскую казну.
Сам князь Намак в эту осень с первопроходцами не встретился. По словам послов, племя кочевало в верховьях реки Малый Кас, за десятки верст от заимки, возведенной на его землях. Однако, неведомо как, прознав об отряде, посланном аж самим воеводой князем Куракиным, гонцов своих с подарками, Намак в отряд прислал.
– Вот же нехристь узкоглазая. – Расхохотался Черкас. – И как узнал только?
– Как узнал? – Андрейка Фирсов, присутствовавший при разговоре, удивленно вскинул голову. – Да его люди давно уже следом за нами идут. И сам Намак наверняка где-то рядом отирается. Никогда еще его племя не кочевало дальше ста верст от Кети.
После того ночного разговора у костра в устье Иртыша, смекалистый Андрейка понравился Албычеву и он теперь держал его при себе и частенько прислушивался к его советам.
– Как думаешь, зачем посольство с дарами Намак к нам прислал? – Поинтересовался он.
– Так знамо дело зачем. Вынюхать все, про отряд. А потом Намак Чеботаю обо всем и доложит. – Не моргнув глазом выпалил Андрейка.
– Воеводе Челищеву, что ли?
– А то кому же? – Мы когда в Кетском ночевали, я с дружками в кружало ходил и разговор слышал. Будто Чеботай очень не рад, что мы к Енисею идем. Это выходит, говорит он, мои ясачные волости теперича другим достанутся? Так не бывать этому, говорит. Костьми лягу, говорит, а земли те не отдам. Сам-то я от Чеботая таких слов не слышал, но люди зря не скажут. Наверняка это он и послал по нашему следу людей Намака.
Вечером того же дня отправляя в Тобольск гонца к воеводе Куракину, Албычев писал, что вопреки задуманному плану экспедиция дальше двигаться не сможет, а потому принято решение – зимовать в верховьях реки Кети. Он не только описал место вынужденной стоянки, но также отправил Куракину план поселения и просил разрешения именовать новый острог Намакским.
Чтобы лишний раз подчеркнуть уважение к коренному населению, Петр Албычев именовал новый острог в честь их вождя Намака. Однако где-то там, в чиновничьих переписках между Тобольском и Москвой, кто-то из писцов, дьяков или подьячих совершит описку и в Москве, в Приказе Казанского дворца, новый сибирский острог будет записан как Маковский.
***
В разговоре с послами Албычев поведал им, что отныне платить «ясак» они будут воеводам нового Тунгусского острога, что будет поставлен на реке Енисее. Гонцы заверили его, что князь Намак не будет возражать, раз так повелел большой воевода, князь Иван Семенович Куракин. Однако всерьез опасались как бы прежний их начальник, воевода Кетского острого Челищев, не стал бы, противится, такому повороту дел.
– Ничего не бойтесь. – Как мог, успокаивал остяков Петр. – Весь «ясак» идет в царскую казну, а кто его туда доставит, разницы большой нет.
Однако же гонцы уехали в полном недоумении. – Как это, не важно, кто доставит «ясак» в царскую казну? – Ломали они головы – а как же «воеводские поминки»? Ведь Челищеву, кроме государственного налога, еще полагалось немало шкурок для личного пользования, равно как и всем дьякам и подьячим Кетского острога. Все это знали, и никто никогда бы не посмел нарушить этот установившийся годами порядок. Кроме того, все воеводы старались как можно больше собрать «ясака» и тем самым выслужиться перед государем, а тут – на тебе. Да и «аманатов» с их племени полным полно маются в острожной тюрьме. Кто ж их без уплаты «ясака» выпустит?
В общем, уехали гонцы Намака в полном недоумении и печали, так и не поняв, что им теперь делать.
Албычев тоже после разговора с Намакскими остяками долго не мог успокоиться. Что-то показалось ему в их поведении неестественным и фальшивым. – Внезапно приехали, быстро уехали, даже от вина отказались.
Улучив момент, Петр как бы ненароком с напускным равнодушием поинтересовался у Андрейки Фирсова.
– Как так получилось, что никто из отряда не заметил прежде этих Намаковских послов?
– Как не заметил? – Удивился Андрейка. – Мы давно докладывали своему десятскому Алексею, что за нами следом остяки идут. Он только посмеялся, – показалось вам, говорит, наверное. Да и эка ли невидаль, в этих местах остяка или тунгуса встретить. Это же их вотчины, а не наши.
– Ну, это как сказать, теперь-то уже, наши. А с Алексея я за недогляд спрошу.
– Остяки Намака не опасны нисколько, это тебе не тунгусы, те звери. Злые, частенько нападают не только на наши «ясачные» отряды, но даже на стойбища остяков. Намак сам себе на уме, считаешь, что он нас, русских, шибко любит? Нет, он тунгусов боится. Потому и ищет защиты у Чеботая и «ясак» платит исправно, и «поминки» воеводские изрядные привозит.
– А с тунгусами он как? Челищев-то?
– С тунгусами он тоже дружит, но виду не показывает. «Ясаком» не обложил, под царскую руку не зовет, к православию не призывает. Раньше воины тунгусского князя Данула, что на правом берегу Енисея вотчины имеет, частенько на его отряды нападали. Было дело, убивали тунгусы казаков и стрельцов, почем зря. Только знаю, что теперича люди Данула перестали воевать, то ли из страха перед Чеботаем, то ли Чеботай Данулу какую поблажку сделал. Поди теперь, разберись. Хитрый он, этот Чеботай. – Проронил задумчиво Андрейка. – Я б на твоем месте атаман, верить ему поостерегся.
Глава 4. Кара Господня.
Так уж случилось, что в Тобольске князь Куракин был 13-м по счету воеводой. «Чертова дюжина». Это мистическое число, в христианской религии, давно считается несчастливым и таит в себе множество таинственных, дьявольских предзнаменований, предрассудков и суеверных страхов. И поскольку Иван Семенович считал себя истинным христианином, ему, как и большинству людей жившим в тот период времени, не были чужды эти предрассудки. Боялся он, что с ним может приключиться какая-нибудь напасть.
На памяти Ивана Семеновича двое его добрых приятелей, Сабуров Семен Федорович и Евстафий Михайлович Пушкин, будучи, как и сам он, воеводами, внезапно померли здесь, в Тобольске. На чужбине, вдали от родовых гнезд. Совсем недавно и тоже скоропостижно умер и его помощник, второй воевода Григорий Иванович Гагарин. Да и смерть самого первого воеводы, основателя Тобольского острога Даниила Григорьевича Чулкова, тоже была загадочной и необъяснимой.
Единственно, что хоть как-то успокаивало князя, так это лишь то, что умерший Григорий Иванович Гагарин был тоже, как и он, воеводой хоть и считался вторым лицом в Тобольске. Таким образом, Куракин надеялся, что в связи со смертью Гагарина его и на этот раз все же минует, этот магический и зловещий жребий.
Страх за свою жизнь, давно уже поселившийся в его душе, в последнее время, как-то, особенно настойчиво и упорно преследовал богобоязненного воеводу. Он считал, что все напасти и беды, периодически сваливающиеся на головы Тобольских правителей, не что иное, как кара Господня.
А началось это все, с того момента, как в Тобольск на вечную ссылку привезли «набатный колокол» Спасо-Преображенского собора из города Углича. Этим колоколом, ударили в набат, когда жители Углича обнаружили бездыханное тело царевича Дмитрия, последнего сына царя Ивана Грозного. Малолетнего царевича Дмитрия в Угличе любили и почитали, считая его прямым наследником на царский трон. Уверенные, что произошло коварное убийство, горожане вышли на площадь с требованием выдать им злодеев. Боярин князь Василий Шуйский, срочно прибывший из Москвы, чтобы успокоить возмущенную толпу, пытался убедить их в том, что Дмитрий погиб случайно, но никто ему не верил и это только еще больше, распаляло народ. Разъяренная толпа разорвала, голыми руками, виновных в предполагаемом убийстве бояр и пошла, громить и сжигать их имущество. Волнение росло и набирало силу и если бы не прибывшие из Москвы войска, неуправляемая толпа грозила выплеснуться за пределы города. А там и столица недалеко. Ведь был убит не просто царевич – последний наследник династии Рюриковичей.
После подавления стихийного восстания многие его участники были казнены, многие отправлены в ссылку в Сибирь. Был наказан и «набатный колокол». Его сбросили с колокольни Спасо-Преображенского собора, отхлестали кнутом, оборвали «ухо», вырвали «язык» и отправили на вечную ссылку в Тобольск. Здесь он и хранится до сих пор, запертый в сарае приказной избы. Когда воевода проходит мимо, то тайком все же крестится на этот сарай. Как потом выяснилось, точно так же поступают почти все жители Тобольска.
Воевода как христианин знал, что колокол в православной Руси имеет духовно-символическое значение и почитается наравне с иконой и крестом. Заслышав колокольный звон, люди всегда снимают шапки, крестятся и молятся. Считается, что колокольный звон не только приносит исцеление, но даже отпугивает нечистую силу.
Бить кнутом и держать церковный колокол под арестом в темнице, Куракин считал великим богохульством и глумлением над христианской святыней. И, что за эти святотатства и поругания им когда-нибудь придется ответить, он нисколько не сомневался.
Еще одним камнем на душе, мучившем воеводу не меньше опального колокола, был случай произошедший уже совсем недавно с ним самим. Когда Иван Семенович вспоминал эту врезавшуюся ему в память злополучную ночь, ему становилось не по себе. Он до сих пор считал себя невольным соучастником этого с одной стороны глупого, а с другой кощунственного поступка, противоречащего всем христианским нормам и устоям.
Вот и сейчас, стоило только вспомнить об этом случае, как тут же заныло сердце, забухало в висках, а лоб его покрылся мелким, липким потом.
– Прости меня Господи – Прошептал воевода и истово перекрестился.
Это произошло на второй год его службы в Сибири. Зимней морозной ночью когда, как говорится, добрый хозяин и собаку из дома не выгонит, воеводу разбудил шум на воеводском дворе.
– Что там случилось? – Недовольно крикнул Иван Семенович, только-только было задремавший на своей теплой пуховой перине.
– Вставай, воевода. Вестовой пожаловал с целым казачьим отрядом из самой Москвы. – В опочивальню к Куракину влетел его рассыльный казак и принялся зажигать свечи. – Тебя, князь, требует.
– Господи, спаси и сохрани – Воевода перекрестился на темные лики в углу комнаты, тускло освещаемые лампадой. – Что случилось-то? Уж не война ли опять с Ливонцами? – Наскоро одевшись, воевода спустился на первый этаж.
Незнакомый ему казак уважительно поклонился и молча протянул свернутую рулоном грамоту, залитую воском, со свисающими ярко-желтыми плетеными шнурами на царской сургучной печати.
Привыкший уже в последнее время ко всяким неприятностям, Иван Семенович ничего хорошего от этой депеши не ожидал. И оказался прав.
В грамоте было отписано, что к нему в Тобольск на вечное поселение отправлена девица Мария Хлопова. Содержать же девицу ту приказано под строгим присмотром, однако, с должным уважением и почтением.
– Господи! Спаси и сохрани. – Шептал воевода, уставившись в пустоту. – Она-то чем Романовым не угодила, что ее, в такую глушь сослали? – Сам, Куракин Марию Хлопову никогда не видел, но зато был неплохо знаком с ее отцом, Иваном Даниловичем Хлоповым, имевшим обширное поместье под Коломной.
Насколько он располагал информацией, Мария Хлопова была не только нареченной невестой молодого царя Михаила Федоровича, она, практически, уже жила в царских хоромах, вместе со своей тетушкой и бабушкой.
В честь первой жены Ивана Грозного, которая была из рода Романовых, Хлопову теперь именовали Анастасией и как будущую царицу уже упоминали, как и полагается, при богослужениях в церквях и храмах. И вот, на тебе.
***
Находясь в Тобольске, князь не мог знать о той тайной, подковерной игре, что происходила сейчас при царском дворе. Ему было неведомо, какая травля развернулась по отношению к семейству Хлоповых.
Многочисленные придворные подхалимы и прихлебатели, совсем еще недавно, выступавшие против венчания Михаила на царство, теперь наперегонки пытались выслужиться перед ним, чтобы занять теплое, доходное место, при дворе.
Само собой, они в упор не хотели видеть худородных и небогатых Хлоповых, в числе царской родни и всячески этому препятствовали.
– Показывай – Воевода накинул на плечи огромный овчинный тулуп и направился к выходу вслед за вестовым казаком. Следом за ними, с зажженными фонарями последовал казак, дежуривший в тереме и неизвестно откуда-то взявшаяся вдруг стряпуха Степанида.
На обширном воеводском дворе, освещенном несколькими сторожевыми кострами, несмотря на лютый мороз, было многолюдно. У коновязи всхрапывали лошади, похрустывая свежим сеном. Сгрудившиеся у костров казаки с жадностью слушали и обсуждали свежие новости, привезенные из столицы. И никто не обращал внимания на одиноко стоящий крытый возок с темными слюдяными оконцами. Без лошадей, которых уже выпрягли, кибитка выглядела особенно как-то сиротливо и покинуто.
Подбежав к возку и прежде чем открыть его, казак осторожно постучал. Куракин оттолкнул его и рывком распахнул дверцу. В обитом кожей и мехами возке воевода не сразу разглядел фигуры трех женщин, укутанных пуховыми перинами и медвежьими одеялами. И только когда казак поднес факел к открытой дверце кибитки Иван Семенович смог определить, кто из них царская невеста.
Воевода снял шапку и опустился на колени. Глядя на него, все кто находился в это время во дворе, словно опомнившись, тоже рухнули в снег на колени.
***
В Тобольскую ссылку, как было указано в подорожной грамоте, кроме царской невесты были так же препровождены двое братьев Желябужских – Александр и Иван и их престарелая мать. Все они приходились близкими родственниками Марии Хлоповой по материнской линии.
Почти три года прожила царская невеста в Тобольске. По ее просьбе она вместе с бабушкой была поселена в новом тереме близ древнейшего в Сибири Знаменского монастыря. Там они и проживали, все эти три года, проводя время в молитвах и рукоделии.
Братьям Желябужским, по распоряжению Куракина, была отведена изба попроще и победнее. Неизвестно же за какие преступления их сюда направили, а указаний по строгости их содержания не было.
Саму же Марию Хлопову Иван Семенович просто вынужден был окружить заботой и вниманием, так как из Москвы постоянно интересовались состоянием ее здоровья.
И вот, наконец-то, этой осенью пришел царский Указ с требованием – по санному пути отправить Хлопову, а вместе с ней и всех остальных ее родственников, на новое место ссылки в Верхотурье. Тогда еще этот острог не подчинялся Тобольскому разряду и был самостоятельным поселением, со своим воеводой Сомовым Федором Ивановичем.
Только теперь вспомнил вдруг Иван Семенович, что говорил ему князь Голицын. Все перемены будто бы на Москве теперь происходят, от того, что уже едет из многолетнего польского плена отец царя Михаила, Патриарх Филарет. Зная Федора Никитича не понаслышке Куракин, даже обрадовался этому. Уж он-то точно наведет порядок в боярской Думе.
Имея уже титул Патриарха и Великого Государя Российского, Филарет наверняка станет управлять государством по своей воле и усмотрению.
***
– Иван Семенович! – Окликнул, задумавшегося воеводу, запыхавшийся подьячий Агафон. – Депеша тебе от Петрушки Албычева.
– Что там?
– Прописано, что решили они на Кети-реке новый острог ставить, так как дальше в зиму двигаться нет никакой мочи.
– Ты что дурак несешь-то? Какой острог на Кети?
– Макыцкий писано
Глава 5. Загадочный пожар.
В этом году зима в Сибирь пришла рано. В конце сентября уже основательно похолодало, по Кети уже несло ледяную шугу, а к Покрову и вообще река полностью покрылась льдом. Все избы и землянки новоиспеченного острога замело снегом и только струившиеся из труб дымки, да утоптанная тропинка к речной проруби выдавали присутствие здесь людей.
***
В основном все участники экспедиции были людьми бывалыми, привыкшими к суровым сибирским зимам. Многие либо родились в Сибири, либо несли здесь ратную службу уже не один год. Те же, кто впервые оказался зимой в сибирской тайге, предпочитали отсиживаться в избушках, коротая короткие зимние дни, сидя у теплой печи, изредка выбегая на мороз по нужде и испуганно вздрагивать по ночам от треска вековых сосен.
Тот, кто не понаслышке знаком с Сибирскими зимами знает, что главное, это иметь достаточный запас дров. Чего-чего, а уж этого добра в сибирской тайге хватает. Казаки еще с осени напилили и накололи столько березовых дровишек, что их хватило бы не на одну зиму.
С провиантом тоже дела обстояли не критически, хоть запасы ржи и овса были рассчитаны на год, но год-то еще не кончился. И пусть никто не предполагал, что придется зимовать на полпути, хлеб еще был.
– Даже если зерна и хватит до лета, – рассуждал Албычев – то в следующую зиму, ежели, не придет обещанный Куракиным караван, придется обходиться без хлеба.
Правда с рыбой и мясом проблем не было. Сибирская тайга всегда прокормит опытного и смекалистого охотника и рыболова. Тобольский сотник Черкас Рукин был коренным сибиряком во втором поколении, уж он-то точно знал толк и в рыболовстве и охоте. Две бригады таких же таежников под его началом вдоволь заготовили на зиму и мяса, и рыбы. А те, кто никогда охотой не промышлял и, как говорится, настоящей тайги отродясь не видывал, успели запастись и ягодами, и грибами. В общем, всем осенью занятие нашлось, а чтоб никто от работы не отлынивал, пристально следили назначенные Черкасом казачьи десятники.
***
Как всегда это бывает, большая часть участников любой экспедиции даже не подозревают какие перед ней стоят цели и задачи, целиком и полностью полагаясь на своих командиров и начальников.
Конечно, как всегда, в отряде были различные кривотолки, сплетни и пересуды по поводу истинных задач стоящих перед путешественниками. Основная версия, обсуждаемая холодными зимними вечерами возле пылающих печурок и очагов, это – что идут они к Енисею ставить Тунгусский острог. Но были и другие слухи, от войны с тунгусами и, до совсем уже фантастического, похода на Бухару или Китай с целью захватить и колонизировать басурман, приобщив их к единственно правильной святой православной вере.
***
Кроме основной задачи, строительства Тунгусского острога на берегу Енисея, было и еще одно поручение, о котором знал только Петр, но народ, раньше времени в это он не посвящал и даже другу своему Черкасу не говорил. Таков был приказ Первого воеводы Тобольского разрядного острога князя Куракина и Митрополита Ионы Архангельского.
Накануне, перед тем как им предстояло отправиться в путь, его кликнули в терем к Тобольскому воеводе, для секретного разговора.
***
В те времена вся Сибирь в религиозном отношении была подведомственна архиепископам Вологодским и Великопермским. И когда воевода представил Албычеву монаха, присланного в Тобольск от архиепископа Макария, Петр уважительно склонил голову и опустился на колени, прося благословения.
Именно в тот памятный вечер при свете пылающего очага и свечей, освещающих в красном углу иконы с суровыми ликами святых, монах и поведал ему эту тайну.
По словам монаха, в тех краях, куда утром должен отправиться его отряд, должен быть православный скит, где давно в уединении и молитвах праведных живет старец Тимофей со своей монашеской братией.
Как поведал монах, Тимофей Иванов в тех местах на берегу Енисея проживает уже более двадцати лет.
Еще при первом патриархе Иове на Енисее уже существовал этот скит. Знал об этом и его преемник, патриарх Гермоген. При нем скит тот называли Спасо-Преображенским монастырем и связь Патриархата со святой обителью непрерывно существовала. Правда в смутные времена было не до этого, контакты прекратилась. Но, патриарх Филарет, уже скоро вернется в Москву и он требует, связь с Спасо-Преображенским монастырем, незамедлительно восстановить.
И вот теперь, пользуясь оказией, с разрешения митрополита Ионы Крутицкого, временно управляющего Русской православной церковью, архиепископ Макарий повелевает ему, сыну боярскому Петру Албычеву, отыскать тот монастырь.
***
«Дети боярские» в России считались сословием благородным и входили в число служилых людей. Считалось, что все они были потомками старинных боярских родов и потому их жаловали не меньше дворян.
Петр знал, что первым, кто в их роду получил русское дворянство, был его дед Албыч-мурза. Он служил еще в Золотой орде, но после распада Великого ханства присягнул русскому царю Ивану Третьему.
Потом, уже при правлении Ивана Грозного, потомки дворян Золотой орды были подвергнуты опале. Многие из них были казнены, некоторые отправлены в Сибирь. Вот таким образом Петр Албычев и оказался в Пелыме в статусе сына боярского.
Тогда там, в тереме тобольского воеводы, Петр поклялся, что исполнит волю государя и Святой русской православной церкви, и раньше времени тайну эту не разгласит.
Но как оказалось, эта тайна была уже давно не тайна. Служилым людям из его отряда она давно была не только известна, но и от частого повторения приобрела уже поистине причудливые, даже фантастические формы и очертания.
Казачки десятника Кайдалова, ходившие однажды в те места воевать тунгусов, любили почесать языком, рассказывая изумленным слушателям, как не раз на берегах Енисея им приходилось встречать неведомого человека-призрака. Человек якобы тот никогда на разговор не шел, а быстро и почти бесшумно исчезал в чаще леса. Да так, что потом казалось будто его никогда и не было вовсе.
***
Сотник Рукин любил иногда потолкаться среди своих стрельцов, посидеть у костра, похлебать с ними из одного котелка, а иногда и выпив кружечку-другую браги, послушать байки бывалых людей.
Как-то, зимним вечерком, он вдруг завел разговор о таинственном старце.
– Слышал я вчера от казачков тех, что с Кайдаловым в Кетском остроге служили, байку ту занимательную, что нам Андрейка Фирсов поведал.
– Что ж тут удивительного? Они ж почитай с Андрейкой там и были. Или что новенького слышал, о чем Андрейка умолчал? – Поднял голову Петр.
– Да нет вроде, все так. И про старца седого и про медведицу. И послы остяцкие, что от Намака приходили, то же самое говорили. Якобы живет там кто-то из русских и уже давно живет, да вроде и не один. Ты сам-то раньше об этом ничего не слышал? – Черкас внимательно глянул на атамана.
– Нет. – Буркнул Петр. – Некогда мне всякие байки слушать и ты такие разговоры не поощряй.
– А вот еще остяки говорили, – не унимался Черкас – что там, в тайге, живет какой-то то ли шаман, то ли колдун. Ему вроде уже много тысяч лет от роду и он, якобы, видел самого Иисуса Христа.
Ну что ты несешь, Черкас? – Замахал руками Албычев. – Откуда им-то про Иисуса Христа знать, сам посуди. Там тунгусы одни, да зверье дикое. – В душе Петр давно уже сопоставил услышанное, от Андрейки Фирсова, с тем, о чем поведал ему тогда приезжий монах. И получалось, что монастырь тот или скит на Енисее все-таки существует.
***
Еще по осени все лодки, струги и дощаники по приказу Петра, были разобраны на доски и часть этих материалов перенесена по тропе к речке Тыи.
Остальные доски и другой ценный груз Албычев планировал доставить туда весной, как потеплеет. Осенью времени не хватило, все были заняты на строительстве острога, да пополнением запасов продовольствия.
И вот в апреле группа служивых, в количестве тридцати человек, отправилась туда с пятью большими санями гружеными досками. Экспедицией вызвался руководить сам сотник Рукин. Из-за отсутствия лошадей сани тянули и толкали сами люди. Они частенько проваливались в снегу, цеплялись за коряги и поваленные на землю лесины. Казаки злились, ругались сквернословно, но сани тащили. Особенно доставалась тем, кто шел впереди. Следом за обозом по снегу тянулась глубокая снежная борозда.