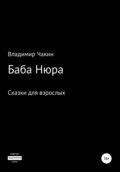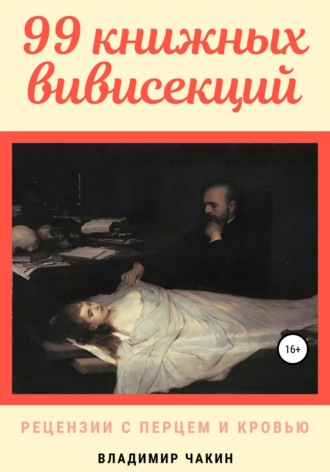
Владимир Чакин
99 книжных вивисекций. Рецензии с перцем и кровью
38. Между собакой и волком
Роман, 1980
Саша Соколов
Дядя Саша Соколов навалял немного слов,
в непролазную трясину затащил своих скотов,
что-то хнычат и мяучат и по-русски говорят,
в бубны лихо тарабанят, в ейны дырочки сопят.
И не чуется отрады, все в округе вкривь и вкось,
ничему ничуть не рады, надысть это все сдалось,
но не верится Сашуле, много лезет между слов,
среди боли и путины любит он своих скотов.
К автору было предубеждение: за что такой почет и уважение? Однако сейчас после прочтения померкли последние сомнения.
Что за чудо, не пойму, постоянно ловишь себя на неосознанном желании писать в рифму, ну, пусть не совсем в рифму, а чтобы складно звучало и тональность при этом блюсти. Это, наверное, и есть подражание Саше Соколову, не захочешь, а напишешь в струе мелодики его текстов. В Вики попалось, что до 80-ти процентов писателей (видимо, русских) испытали на себе его влияние, то есть влияние его творчество на собственное, изначально призванное быть чистым и незамутненным ничем и никем. Творить как дышать. Похоже, автор дышит гармоничнее, что совсем не обидно и не трогает за живое. Попросту сразу соглашаешься, да, так все и обстоит, именно так и такими словами. Которые вьются и вьются и складываются в неземную мелодию. Ничего искусственного нет в этой вязи слов. То ли проза, то ли поэзия, то ли модерн, то ли пост – какая разница, если отражает, даже вмещает в себя чуть не целиком сакральность языка (если она есть, а она должна быть, иначе почему в начале было Слово?). Всесторонне описанное и обрисованное полотно мира раскрывается читателю на листе бумаги. Замечаешь, что после Соколова повышается зоркость и объемность взгляда, смотришь на обычное безлистое дерево под окном и понимаешь, что на тему "безлистого дерева" можешь написать и одну, и две, и десять страниц, причем получится не пустое из порожнего, а нечто от него самого, деревянного и без листьев. Странно, но приобретенное качество, видимо, отражает скрытое богатство языка, которое мы до времени не различаем. Соколов как катализатор прозрения в суть языка.
Это не первая попытка, за плечами уже его дебютная "Школа для дураков", тогда было понятно, что это открытие, но масштаб не доплелся до мозгов. Давно это было. Сейчас, кажется, все по-другому случилось после прочтения его волшебной прозы.
Читается Саша Соколов не просто, малейшее мысленное отвлечение от текста чревато потерей ощущения смысла происходящего. Необходимая постоянная концентрация приводит к медленности процесса, каждая страница дается, можно сказать, с боем с самим собой, но это не напрасные усилия, ничего похожего на – какую муру я читаю, – такое тоже было с книгами некоторых авторов. Наоборот, чувство, что прочитанное ложится как раз туда, куда ему и следует ложиться.
И ни слова мата! Вроде куда уж больше про народ, чтоб "оживить" речь. Нет, обошелся без, да еще как, мат его текстам нужен как собаке пятая нога.
Возможно, он открыл универсальный метод в языковом пространстве, которому хочешь – не хочешь, а будешь следовать как аксиоме.
39. Aestas Sacra
Повесть
Новый Мир, № 9, 1993
Асар Эппель
Судьба мира от сотворения до конца света на примере бытия одной московской ночи в пятидесятых, вероятно, годах. Четыре подростка и девушка, их жизни на фоне окружающей городской природы и старомосковского пейзажа.
Невероятен как язык автора, так и его художественный метод. Пишу и понимаю, что не в состоянии их описать, настолько они вне всего, до сих пор читанного. Голый сюжет вот в чем. Поздно вечером прошел ужасный ливень, буквально всемирный потоп наяву. Создались соответствующие физические условия, и зародилась жизнь. Из подворотни вышла девушка и продолжила свой путь домой после танцев. Из дверей дома – четыре молодых человека направились параллельным курсом. Потом они пересеклись и пошли вместе. Автор сопровождает их с подзорной трубой и по ходу вглядывается через нее в окружающее, детализируя и восхищаясь увиденным. Непрерывное восхищение автора окружающим миром, несмотря на все его постоянные мерзости. Никакого противостояния, все естественно и может происходить независимо от нашей воли и отношения.
Уголок Дурова. Дикие звери в клетках. Чем они отличаются от людей. Ничем, то же, такое же мясо. Все живые существа едят друг друга, за счет взаимного поедания продолжают жить. Пожалуй, люди хуже животных и зверей, потому что у людей немотивированная жестокость. Даже если он всегда сыт от пуза, как мясник, ему хочется еще и еще чего-то, ему хочется гнобить себе подобных, ему хочется жестокого сладострастия и ему нипочем чужие человеческие жизни. Он относится к девушке как к куску животного мяса, которое на работе ежедневно рубит на части. Очень необычный образ человека: с одной стороны, ненависть, с другой – любовь, слияние, гармоничная суперпозиция одного в другом.
Судьба девушки. Познала мир и тут же ушла из мира с открытой к нему душой. Даже убийцу, это отвратительное животное в человеческом облике она пытается понять и поддержать, когда он уничтожает ее в сознательном удушливом угаре. Такую сцену никогда не забудешь.
Да и все остальные персонажи настолько колоритны, что так и хочется сказать штампом, что они живее живых. Возможно, если говорить в терминах живописи, это полотно, выполненное в импрессионизме с налетами экспрессионизма. Не опоэтизированная жестокость, а художественный, беспристрастный взгляд на окружающий мир. Именно так, возможно, смотрят на мир животные и птицы, безоценочно, лишь принимая к сведению окружающие события. Какая здесь к чертям мораль, если сейчас ты живешь, а через мгновение тебя прихлопнули как назойливого комара. Апокалиптичность каждого мига человеческого существования.
40. Крылья ужаса
Роман, 1993
Юрий Мамлеев
Чувство самобытия, чувство собственного бессмертного Я. Оно лишь еле-еле просвечивает сквозь оболочку окружающего косного, пошлого, грубого мира. И автор выискивает зерна, отделяет их от плевел и ведет разговор именно на языке ощущений самобытия, на фоне чистоты которого окружающий мир проявляется часто в уродливых, нелепых формах и аллюзиях.
Героиня идет по жизни и учится жить правильно, ищет себя. Но ее правильность отнюдь не мещанская пошлость, ведь реальность открывается ей самой неожиданной, но в то же самое время наиболее естественной своей ипостасью, какой бы удивительной она не казалась в первое мгновение встречи с ней. Шокирующая жестокость отдельных сцен, вызываемое ими чувство отвращения не производят впечатления искусственности, надуманности, сознательной манипуляции эмоциями читателя, как случается при чтении раннего Сорокина. Главная героиня и остальные герои видят мир насквозь, они интуитивно чувствуют своего при встрече. Чаще всего это чудики (по Шукшину), люди не от мира сего, но автор продвигает позицию, что возможно это как раз те люди, которые наиболее продвинуты в понимании себя и окружающего мира.
Присутствует ли мистика в данном тексте автора? По-моему, все проходит по грани между мирами. Чистой, ярко выраженной, декларированной мистики как будто нет. Но она всегда где-то рядом и, кажется, в любой момент может проявиться открыто.
Восточный эзотеризм, индуизм, один из путей познания мира, к которому прибегает героиня. В кружке собираются люди, пусть не с идентичными метафизическими взглядами, но вполне понимающие друг друга, то есть говорящие на одном языке. Разделить одиночество с близкими по духу людьми, вот это помогает нести Людмиле, главной героине романа, неподъемное бремя самобытия. Мир проклят дьяволом, от этого все беды и горести нашего мира. От этого внешние, материальные проявления мира искажены до неузнаваемости. И путь людей в том, чтобы всмотреться в мир, отбросив наносную шелуху, и разглядеть его истинное лицо.
Поразительна судьба Иры, другой, абсолютно трагической героини, и невозможно пересказать все перипетии ее жизненного пути. С одной стороны, абсолютное воплощение греха, с другой, в чем ее вина, если так сложилось по природе окружающей действительности. Ее вины нет ни в чем.
Мамлеев не стилист, он зондирует бездонные пропасти мира, изо всех сил пытается понять его, прекрасно понимая при этом, что мир зол и трагичен в своих проявлениях, и ничего поделать с этим нельзя. Он только таков. Остается лишь одна возможность, разглядеть, осознать, проявить собственное самобытие, любоваться им и жить, опираясь на флюиды самопознанного, собственного мира.
Литературно-художественный журнал «Бельские просторы»
41. И оттуда приходят письма
Повесть
Бельские просторы, № 1, 2021
Алексей Чугунов
Автор на примере обычного человека, правда, не совсем обычного, владеющего редкой профессией змеелова, показывает, как, по его мнению, проходят мытарства человеческой души после смерти до сорокового дня. А уж после сорокового, по православной традиции, душа отправляется либо в рай, либо в ад. Причем описание своих блужданий проводит сам мытарствующий в письмах к жене, которую он спас, вытолкнув из-под надвинувшегося автомобиля, а сам погиб в той аварии. В письмах, которые он пишет уже с того света, ну, может, еще не совсем с того, а с промежуточного мира, что, однако, не умаляет оригинальности авторского замысла. Герой произведения в письмах описывает свои мытарства, которые, впрочем, не совсем уж такие страшные мытарства, как следует из значения этого слова. Это всего лишь воспоминания о прошедшей жизни, тех моментах, когда был не прав, когда поступал не так, как следовало, причем чаще всего понимая, что действуешь неправильно. Описывает честно, как бы глядя на себя со стороны и сожалея о содеянном. И почти всегда эти прошлые моменты связаны с женой. Герой в письмах вновь и вновь объясняется в любви к жене, одновременно пытаясь оправдаться за прошлое, может даже не оправдаться, а объясниться, покаяться за собственную черствость и глупость. Автор подспудно как будто призывает: цените то, что у вас есть здесь и сейчас, цените, пока живете в этом мире, самом прекрасном из миров. А то случится такое, как с героем повести, когда придется писать письма с того света, чтобы объясниться и оправдаться. В повести это удалось, письма были написаны (уже после смерти) и даже дошли до адресата, любимой жены, что является чудом. А в реальной жизни после смерти уже поздно что-либо исправить, все совершенное в земной жизни останется навсегда на твоей совести, тяжким грузом на шее, тянущим в адские пределы. И очень хорош финал произведения, когда жена на сороковой день после смерти находит стопочку писем от умершего мужа и поглаживает округлившийся животик, свидетельствующий о зарождении новой жизни.
Показалось, автор в первую очередь мастер композиции: четко прослеживается схема, скелет повести. Не сразу до читателя доходит, что происходит с героем. Таинственность, недосказанность повествования способствуют такому восприятию текста. То ли обычная больница, то ли сумрачный мир психически больного человека, то ли некий фэнтезийный мир. Очень постепенно автор подводит нас к мысли, что это время мытарств до сорокового дня после смерти человека. Можно немного поспорить о конкретном наполнении мытарств, но это ведь не суть важно. Главное, человека суют носом в те ситуации прошедшей жизни, где он был не на высоте, был плох, нетерпим, сознательно шел на неблаговидные поступки и даже подлости. За все совершенное придется в свое время заплатить соответствующую цену. Героя повести спасает безграничная любовь к жене, автор подводит нас к этой мысли, и хочется в это верить.
42. Тахият
Повесть
Бельские просторы, № 2, 2021
Ринат Камал
Это сильно, впечатление от прочитанного сродни солидному потрясению духа. Двойственная, одновременно дьявольская и божественная природы человека показана на примере жизнеописания юродивого. Причем представлены не только внешние события и атрибуты его жизни, но и эволюция духа в горних сферах. Обычно принято считать, что блаженные это божьи люди, они чисты духом и страдают за людей. Но здесь автор приоткрывает нашему взору душу одного из них, и тут уже все далеко не так однозначно. Загадочность, таинственная недоговоренность, смутная неопределенность происходящих событий, явная близость к сакральному, хотя вокруг обыденная жизненная грязь, – вот причудливая атмосфера повествования.
Кто он вообще, этот как будто очевидный уродец, деревенский дурачок Тахият? Над ним смеются и злобно издеваются мальчишки, неприязненно относятся взрослые, только бабушки жалеют и подают нищему копеечку на конфетки. Рожден от отца, который бросил мать и уплыл в море. У отца как будто дьявольская природа, но не иносказание ли это? Мать земная, однозначно, но и она бросила его в младенчестве и ушла в никуда. Воспитывала Тахията бабушка.
Дьявол персонифицирован. В воображении или наяву Тахият посещает его, просит забрать из земной жизни, ведь нет больше сил терпеть земные горести, но падший ангел противится, возвращает деревенского дурачка в земной мир. Он должен сначала окончательно убедиться в злобной природе людей и открыто это высказать вслух дьяволу. Несколько раз посещает блаженный сатану, но остается при своем: людская природа по сути своей добра, никакие земные страдания, причиняемые ему людьми, не могут изменить его мнения о ней. Даже когда наступило умопомрачение, и он действительно обиделся на людей, начал громить все вокруг. Наше терпение не безгранично, это тоже вполне понятно, что и блаженный тоже человек и может сорваться. Но речь не о частностях, а об общем принципе отношения к людям.
Удивительно, как в таком коротком тексте автору удалось охватить все аспекты земного бытия. У Тахията была Зульхиза, девочка-одноклассница, образ которой он пронес в душе через всю свою жизнь. У нее своя, возможно счастливая судьба, у него путь страданий. И последняя их встреча загадочна, – то ли русалка, то ли сама девушка возникла перед ним на берегу реки? Как призрачно все в нашей жизни.
И смерть в болоте. Зачем он туда пошел, вот вопрос. И у меня один ответ. Устал. Его не принимают люди, а с ними Бог. От него отказался даже отец Дьявол. Именно так написано в произведении, отец Дьявол, и стоит всерьез задуматься об авторском сарказме. Ведь как порой ужасно неприглядно выглядят люди в своей земной жизни. В самом деле возникает вопрос, не порождения ли они дьявола?
43. Офицерские жёны
Документальная повесть
Бельские просторы, № 2–4, 2021
Лидия Выродова
Сложнейшие судьбы семей российских офицеров, кочующих по бескрайним просторам нашей Родины – куда посылают служить, там и дом твой. Временный конечно, до следующего назначения мужа. Несколько лет на одном месте, в лучшем случае, и снова в дорогу. А ведь еще дети, которых нужно воспитывать, которым нужно учиться, которых нужно устраивать в жизни. На новом месте новое жилье, часто далекое от совершенства, иногда поначалу даже не благоустроенное. Как это все переносить годами и десятилетиями, сохраняя семью и нормальные отношения в ней? Конечно, многое, если не все, здесь зависит от жен, офицерских жен. От их терпения, самоотверженности, упорства в преодолении постоянных трудностей, встречающихся на пути. Что муж, он днями и часто ночами на учениях, тренировках, он на военной службе, где не продохнуть. Значит, весь быт и дети на жене. От ее инициативы зависит обустроено ли жилье, теплые ли батареи зимой, чем питается семья, как успевают дети в школе.
А тут еще случается, женское счастье вдруг под угрозой. Частые служебные разлуки могут приводить к изменам. Опасность вполне реальная, и автор подробно останавливается на этом аспекте жизни семей военнослужащих. В повести показаны женские типажи, которым все нипочем, которые готовы отбить, вырвать, ухватить любыми путями мужика-офицера, и, по-видимому, такие истории случаются, иначе бы автор с такой болью не описывала подобные жизненные коллизии. Но все-таки чаще торжествуют ответственность, преданность семье и семейному счастью. Жизнь сложна, приходится пробиваться всем вместе, поэтому так важна дружба, взаимопомощь. Дружат офицеры, мужья, но эта дружба часто, если можно так выразиться, дистанционная. Учились в одной военной академии, долго служили вместе в одном гарнизоне, потом разъехались по разным путям и весям. Но вот дружба офицерских жен на данном конкретном месте службы, она часто попросту выручает, помогает побыстрее освоиться, сообща находить решения бытовых проблем.
Но не бывает жизнь без праздников, иногда и они случаются в тяжелой жизни военнослужащих и их семей. Какими сочными красками описывает автор эти редкие минуты, когда единые духом люди собираются за одним столом, вкушают яства, приготовленные преданными офицерскими женами, и радуются тому, что они сейчас собрались вместе и празднуют Новый год.
Автор повести имеет за плечами журфак МГУ, это человек, владеющий словом, с активной жизненной позицией. И вот именно благодаря ей, мы имеем эти подлинные, документальные свидетельства о жизни современных военнослужащих, а не примитивные, пошлые анекдоты. За что очень ей благодарны.
44. Охота на львов
Главы из романа
Бельские просторы, № 2–4, 2021
Игорь Фролов
Афганская война ближе к окончанию, то есть конец 80-х, быт и работа боевых вертолетчиков. Не убил ты, убьют тебя – вся логика того страшного бытия. Зачем, почему – вопрос так не стоял: священный интернациональный долг перед страной, Родиной, советскими людьми.
Но никакой патетики в текущих рабочих афганских буднях конечно нет. Твоя жизнь каждый день висит на волоске. Во многом выживание лежит на тебе самом, но далеко не только и не столько. Афганское братство не пустое слово. Взаимовыручка, полное взаимопонимание в ситуациях, когда решают мгновения.
Написал, перечитал написанное и чуть понятнее стало практически поголовное молчание фронтовиков о войне, той далекой войне первой половины сороковых. Где взять правильные слова, чтобы описать ежедневный, ежеминутный, ежесекундный пережитый ужас. Нет таких слов, что бы ни сказал человек, все произнесенные слова лишь слабое приближение к истине, к военной правде. Зачем говорить, если все, что ни скажешь, все не так, все не по делу, все, получается, недоговоренность, а по сути чуть не ложь поневоле.
Пытаешься экстраполировать на себя ощущения пулеметчика в кабине пикирующего на "духов" вертолета, тебе в лоб из-за горной гряды трассы крупнокалиберного, позади на тепловом хвосту догоняющая ракета, выпущенная из "стингера". Что чувствуешь, какие мысли в голове? Наверное, ничего толкового, ничего умного, скорее, вообще ничего, пустота и голые инстинкты, пронесет не пронесет. Судьба не сгинуть на этот раз. А завтра снова на плаху и опять фифти-фифти. Какая здесь к едрене Фене литература, когда выжить бы любыми путями. Ты не успел пулей остановить вражеского стрелка, командир не вывел машину из крутого пике, большой начальник задал не тот маршрут в боевом задании. И капут получился запросто.
Но автор романа, судя по всему, непосредственно причастный к афганской трагедии, все же взялся за перо и описал происходящее тогда, пусть и позднее, не сразу после боя. Встречаются однополчане через несколько десятков лет и обсуждают написанную одним из них книгу о том времени. Понравилось сочное описание постройки дома Тихим. Идеальное место для отражения атаки с любой стороны. Высокий холм, срезана острая вершина, на получившемся горном плато построен дом по собственному проекту. Мой дом – моя крепость. Жизнь в полном одиночестве, лишь однополчане-афганцы иногда навещают. Поговорить, вспомнить. Ничто другое в жизни не имеет ничего общего с тем, что пережито на афганской войне. Не имеет такого значения и смысла, кажется мелким, микроскопическим, не значащим. Сердца воевавших в Афганистане навсегда опалены тем жестоким пламенем.
45. Муравейник
Повесть
Бельские просторы, № 4, 2021
Алсу Халитова
Небольшая повесть о буднях сельской школы и ее учащихся вероятно знакомых автору не понаслышке. В класс приходит новый мальчик Артур, с ним знакомится Камиль, от имени которого ведется повествование. Притираются характерами, ссорятся по вине Камиля, который грубо высказался о бабушке Артура, живущей на окраине села в неопрятном внешне домике. К ней как раз и приезжает жить Артур, у которого отец погиб на шахте. Но затем все мирятся, и это происходит по делу. У бабушки в войну в Курской битве погиб муж-танкист. Она больше не вышла замуж, помнит мужа и каждый год ездит в те места, где он погиб. И ребята решили помочь бабушке отремонтировать дом, причем сделать это тайно, летом, когда бабушка в очередной раз уедет в Курские места. Ребята заработали деньги на сданной макулатуре, металлоломе, собранных шишках, дубовой коре, березовых почках. Закупили стройматериалы, привлекли взрослых и сделали! Бабушка вернулась и не узнала свой дом, каким он стал красивым.
Дочитал повесть с теплым чувством, вспомнив конечно про Тимура и его команду. Светлые нотки из той жизни в советское время. Значит, что-то сохранилось с тех ушедших времен и в нашей сегодняшней жесткой действительности. Взаимопомощь, переживание за другого, память о прошлых бедах, перенесенных советским народом. В детстве любил такие книжки и многое читал не без влияния нашей учительницы русского и литературы с пятого по восьмой классы Сакины Халиулловны Халиулловой. Она после уроков устраивала час внеклассного чтения, когда мы выходили и читали вслух по очереди интересные книжки для всего класса. Тогда познакомился я с повестями "Радость нашего дома" и "Таганок" Мустая Карима, "Большой оркестр" Анвера Бикчентаева и многими другими, но эти почему-то наиболее запомнились. Как там в "Оркестре", держись, Ахмадей! Воинственный крик самому себе на все сложные случаи в жизни. Просто здорово!
Что-то мне подсказывает, что сборник подобных повестей, изданный в формате отдельной книжки разойдется среди детворы влет. Спасибо автору за атмосферу повести, в первую очередь. И конечно название повести, совершенно нестандартное и очень точное.