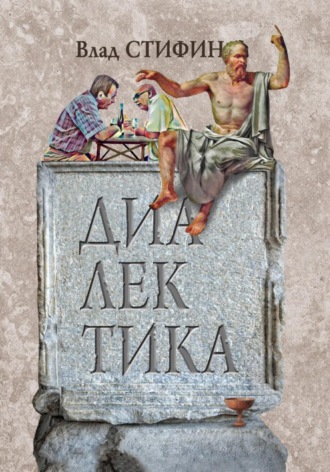
Влад Стифин
Диалектика
Тётка схватила их чемоданчики, решительно, широкими шагами двинулась к телеге, а по пути приговаривала: «Ой! Деточки мои милые, как ладно-то всё! Как ладно!» Разместившись на телеге, компания подалась к деревне, до которой от станции было километров десять по грунтовке мимо двух деревушек через леса и поля. Дорога – разбитая, местами после дождя заполненная лужами, – тянулась по пригоркам и низинкам, и тощенькой лошадёнке приходилось много трудиться, чтобы тащить поклажу по жиже и хляби. Тётка, поправляя клетчатый платок, плотно укрывавший её голову, подгоняла лошадку как-то весело и ласково:
– Ну, касатка, шибчей, домой же бежишь!
И лошадёнка как будто понимала возницу, подбавляла ходу, тужилась на горках и ускорялась в низинках. А гости подтягивали ноги повыше, чтобы грязь, летевшая с колёс, не брызгала на городские брюки. Проехали две хатки – те, что остались от когда-то большой деревни. Тётка тяжко вздохнула, тихонько сказала: «Много-то когда-то жило здесь, а теперича всего-то две семьи» и чуть подхлестнула вожжами лошадку.
– Теперича всё поменялось, не то что до… – добавила она и замолкла, и гостям показалось, что тётке загрустилось оттого, что деревня совсем маленькая стала. А может, в этом месте что-то было у неё в молодости. Было что-то радостное, а теперь такого нет – вот тётка и загрустила.
Они молча проехали ещё одну деревеньку – тоже маленькую, всего-то в пять дворов. У ворот торчал старый дедуля и прозрачными глазками щурился на проезжающих. Тётка кивнула ему: «Здрасьте вам, доброго здоровья!» Дедуля поспешно скинул шапчонку и торопливо ответил: «Вам, добрые люди, того же». Тётка чуток притормозила, попридержала вожжами лошадку, словно хотела показать гостей, похвастаться ими, и дед, заметив этот манёвр, произнёс:
– Никак гостей везёшь? С городу прибыли?
– С городу, с городу, – ответила тётка. – Племяшки родненькие на побывку.
– Племяшки, – участливо подтверждал дедуля, качал головой и продолжал: – Вон оно как, мы здеся, а вони тама ростут. Вон оно как… – бормотал дедуля и одобрительно кхекал.
Тётка, удовлетворившись реакцией дедули, подтянула вожжи, крикнула: «Но, пошла!» Лошадь дёрнулась, и они двинулись дальше. Через пару километров лес подтянулся к дороге, обступил её с боков, и ветви деревьев стали задевать и лошадку, и возницу, и гостей.
– Заросло всё, – вздохнула тётка и продолжила: – Мало нас осталось, совсем мало. Некому дорожку соблюдать. Перемены, перемены вот к тому и идут. – Она шлёпнула вожжой по коричневому крупу лошади и уже веселее добавила: – Диалехтика, как говаривал ваш дядька. Сплошь диалехтика.
Облысевший встал, прошёлся вдоль столиков и, вернувшись на место, произнёс:
– Да, было время молодое, неопытное. Сейчас не так – сейчас опыт властвует повсюду. Сейчас и деревень-то таких не сыщешь. А тётка мудрая была и любила нас.
– Это вы о чём, товарищ? – спросил Фэд и еле заметно улыбнулся.
– Это я о диалектике, батенька. Всё о ней, – ответил Вил.
Ветер от океана посвежел, порывы его уже изрядно трепали шторы на веранде, и тонкий человек, неожиданно появившийся откуда-то из подсобного помещения, принялся скручивать нежную ткань и укреплять её шнуром на стойках.
– Нам, пожалуй, пора убираться отсюда, – предложил Фэд и вопросительно взглянул на облысевшего.
– Куда уж нам убираться? – равнодушно спросил Вил. – Уж и так занесло на остров в океан. Куда ж ещё?
– Можем в горы забраться, – ответил Фэд и повернулся в сторону остроконечных скал, обрамляющих их «райский уголок».
– В горы? – удивился облысевший и мечтательно произнёс:
– Ходят люди по горам.
Непонятно это нам —
Тем, которые внизу
Тихо спят и ни гу-гу.
В горной местности не так,
Как в долине. Каждый шаг
В скалах может подвести —
Оборвался и лети,
Будто птица, но беда —
Крылья, где вы? И куда
Полетишь без них тогда?
– Желаете полетать, батенька? – спросил облысевший.
Фэд быстро встал, обернулся к собеседнику и резко ответил:
– Желаю. А вы, геноссе, никогда не хотели полетать? Не приходила в голову такая мысль?
Вил задумался. Он вспомнил, как стоял на высоком холме, пристально всматривался в низину, уходившую плавными изгибами к самому горизонту и мысль о полёте посетила его. Тогда он первый раз забрался на холм один, без брата и дядьки, которые ушли на рыбалку с самого утра, а его оставили. Оставили по причине его некоторой усталости от предыдущего трудного дня, когда они целый день помогали тётке убирать созревшую рожь.
Рожь созрела отменная. Тугие, полные спелых зёрен колосья клонились к земле, и казалось, что вот-вот зерно осыплется и нечего будет собирать. Тётка уже несколько дней беспокоилась, что пора бы, пора бы убрать хлеб. Но погоды, ночные дожди мешали уборке, и каждый новый день приносил и надежду, и разочарование. И вот однажды утреннее солнце осветило влажную землю, поля с неубранным хлебом, покосы, отросшие сочной травой к августу, и дальние леса, мокрые от ночного дождя. Тётка затемно поднялась, истопила печь, и, когда вся гостевая бригада поднялась, на столе уже стояли глиняная чаша с блинами и крынка молока.
– Доброго дня нам всем, – объявила тётка. – Подкрепимся и на рожь.
Она и дядька серпами жали колосья, а пацаны, получив чёткие инструкции, вертели снопы и укладывали их в бабки для просушки. Особо мокрые снопы из низинки укладывали на деревянные вертикальные колья, и к обеду половина поля была убрана. Солнце жарило с высоты, ночная влага парила над землёй, и день становился душным и томным, как предбанник после жаркой парилки. Молодые гости уработались изрядно. Руки болели, ноги двигались медленно, непослушно, и тётка, обнаружив сомлевших работничков, объявила перерыв.
Компания расположилась в тенёчке у бревенчатой стенки амбара и отдыхала около часа. Уже к заходу солнца тёткина личная рожь была убрана, и остались молотьба да прочие важные работы, необходимые для доведения дела до конца.
«Как важно довести дело до конца!» – подумал облысевший и, взглянув на вершины, открывающиеся за двухэтажным зданием «райского уголка», произнёс:
– Полетать – такая мысль приходила. Давненько это было – с тех пор налетался уж порядочно. Я летал, и меня летали. Налёт порядочный получился. Вот только со скал ещё не летал.
– Поедем на вулкан, я договорился, – сухо произнёс Фэд. – Там летать не надо, там надо смотреть.
Вулкан давно застыл. Шоссе плавными изгибами обходило скальные вершины, бежало по пустынной местности, где по обеим сторонам виднелись россыпи чёрных, коричневых и иных цветов камней, и ощущалось, что когда-то, может быть, и не так давно, здесь бушевала огненная стихия и живому существу места бы здесь не нашлось. Гибельно всё было для него.
Они сидели сзади на сиденье и молча обозревали пейзаж, проплывающий за стёклами машины. Водитель несколько раз предлагал им остановиться и рассмотреть природу поближе, но они решительно отказались выходить из машины и весь маршрут почти до самого «райского уголка» молчали.
– Стихия, – многозначительно произнёс Фэд, когда они расположились за обеденным столом.
– Да, впечатляет, – согласился Вил. – Особенно когда это далеко и не с нами.
– Не с нами? – несколько удивлённо спросил Фэд. – Мы что, боимся?
– Боимся, не боимся, а сгинуть раньше времени не хочется, – ответил Вил.
Фэд изобразил недоумение, слегка покачал головой из стороны в сторону и заметил:
– А как же борьба? Без риска проиграть борьбы не бывает.
– Э-э, голубчик! – ответил Вил. – Борьба за освобождение от гнёта, за счастье угнетённых – это одно, а риски со стихией природы – это совсем другое.
– Пожалуй, вы правы. Рисковать за всеобщее счастье – это очень благородно.
Фэд подхватил ложку и попробовал ещё парящий, горячий суп из тарелки, только что принесённой официантом.
– Здесь неплохо кормят, – произнёс он.
– Да, – буркнул Вил и приступил к опустошению своей тарелки.
Обед продлился почти час. Им подали несколько закусок из морских блюд, большую рыбину, которую они изволили заказать, и официант торжественно при них разделал её и услужливо положил в тарелки белые кусочки.
– Да-с, море кормит, – заметил Вил, разделавшись со своей порцией.
Фэд в знак согласия кивнул и уточнил:
– Специальные люди продукты должны добывать, другие специальные должны готовить еду – тогда будет порядок. Если всё стихийно, то порядка не будет. Даже движение масс должно быть организовано, иначе людской поток станет неуправляемым. Стихийная борьба вредна для общества. И ваша борьба противоположностей…
Фэд на несколько секунд задумался и заключил:
– Она тоже требует организации.
– Конечно требует, – согласился Вил. – Только, голубчик, знание диалектики позволяет это понять. Думается, что если не овладеть диалектикой, то борьба до добра не доведёт. Стихия захлестнёт народные массы, и светлого будущего никогда не достигнешь.
– Светлого будущего, – задумчиво повторил Фэд и вспомнил, как он молоденьким студентом агитировал за светлое будущее. Агитировал страстно и, как казалось ему, убедительно. Молодые люди слушали его, внимали его словам, заражались его идеями, иногда спорили, предлагали более мягкие способы борьбы за светлое будущее, но всегда признавали в нём вождя, может быть, ещё не очень опытного, но уже готового броситься на врагов, не щадя ни себя, ни других.
Здесь, лакомясь морскими яствами, он вспоминал, как голодовал в кутузке, куда попал за участие во всеобщей забастовке. Мануфактурщики не очень-то желали бастовать, им было не совсем понятно, зачем надо не работать, чтобы потом стало лучше, но он агитировал, требовал подчиниться и прекратить «горбатиться» на хозяина. Бастовать начали не все, всего несколько десятков вышло с красными флагами – тут-то их милитеры и похватали. Ему недолго пришлось в каталажке отсиживаться – через три дня его отпустили, предупредили только, что если молодой человек будет продолжать антиправительственные действия, то его снова придётся повоспитывать, но уже более строго. Он всего лишь день раздумывал над происшедшими с ним неприятностями и уже к вечеру решил, что будет более осторожным, а затем борьба снова захватила его целиком и осторожность как-то сама собой рассосалась, словно и не было каталажки и предупреждения административных деятелей. Каталажка не заставила себя долго ждать – через несколько недель его вновь арестовали и теперь продержали почти месяц, уже по решению суда. После второго пребывания в каталажке он решил (точнее, дал себе слово) больше не попадаться и начал скрытную борьбу. Нелегальное положение укрепило его волю и дух, научило его подчиняться строгим правилам конспирации, а главное – он понял, что борьба предстоит долгая, упорная и жертвенная.
«Жертвенная борьба – это серьёзно, это не простая работа за что-то, это риски, а риски не все могут выдержать», – подумал Фэд и приступил к потреблению третьего блюда.
– Хорошо, батенька, – благостно выдохнул облысевший.
– Что хорошо? – спросил Фэд.
– Хорошо, когда хорошо отобедались, – ответил Вил.
– Ага, – согласился Фэд и откинулся в кресле.
Облысевший глубоко вдохнул и объявил:
– Когда-то голодновато было, да и разносолами не баловались, а здесь сплошь объедаловка.
Вил отодвинул от себя тарелку и подумал:
«У тётки разносолов не было. Там еда была простая и казалась такой вкусной, гораздо вкуснее городской».
Вечером после трудного дня у тётки собрались её подружки. В углу под иконкой мерцал фитилёк лампадки, на столе горела настольная керосиновая лампа, свет которой выхватывал из тёмных углов хатки утомлённые морщинистые лица женщин. Натруженные за день их руки смиренно лежали на коленях, покрытых тёмными юбками. Женщины молча ждали, ждали ещё одну гостью – бабу Сафу. Они с дядькой знали, что вот сейчас появится баба Сафа и в пока что ещё угрюмом обществе как-то сам собой возникнет шум и смех. Баба Сафа будет говорить, в хатке будут слышны её рассказы о деревенских, рассказы шутливые и иногда немножко злые, но всегда интересные, не дающие скучать вечерним посиделкам.
Сафа и сама-то всем свом видом вызывала улыбку. Высокая и не очень грузная для своих лет, она легко двигалась, говорила складно, без сорных и бранных слов, и, как правило, рассказы её сопровождались энергичной жестикуляцией и даже некоторыми артистическими приёмчиками.
– Ой! Бабоньки, что расскажу-то вам! – загадочно начинала она, и всё вокруг затихало, ожидая очередной правдивой истории из местной жизни. Она, подражая говору своих героев, иногда их жестам и манере поведения, говорила о том, как напугались её мальчишки. Пошли, дескать, «до витру» поздно, уж темень на дворе образовалась непроглядная. Что-то там за избой у них хрюкнуло – так они, как сумасшедшие, дела свои не сделав, примчались в избу. Толком сказать ничего не могут, а только дрожат да тихим криком, как это бывает с испугу, бормочут несвязно: «Тама… тама». Ох! Бабоньки, спужалась я-то, аки агнец пред волком. Ничего сама-то сказать не могу. Токмо одно слово, да и то плохо изрекла: вместо «креститесь» «тряситесь» говорю. Тако стоим мы пред друг дружкой и дрожим незнамо отчего, и понять ничегошеньки не можем.
Подружки внимательно слушают Сафу и сами уж пугаться начинают, хотя и чувствуют, что история закончится благополучно и, наверное, как обычно, весело, но история-то страшноватенькая – мало ли чудищ бродит ночью по дворам. Ведь были ж случаи, деды и бабки рассказывали и о чертях, что народ деревенский дурили, до смерти хотели довести, и о ведьмаках страшенных, что в хаты проникают, так тут уж незнамо как и отбиться от них – только молитва и помогает. А Сафа продолжает историю излагать, лицо своё испуганным делает, глаза навыкате, руки опущены, дрожат, пальцы рыскают по юбке тёмной, словно понять не могут, что за ткань такая у бабки на коленях лежит.
– Трошки страх стихать начал, – продолжает Сафа. – Так, стук в дверь. Ночью-то какая нечисть к нам? Парни мои совсем затихли, бледные, как буряки кормовые. Да и я, бабоньки, вся не своя стала. Хотела было спросить: «Кого это в ночь нам принесло?» Да с испуга, хочь рот-то открывается, но звук неладный оттудова идёт. «Мы-ы» да «мы-ы» из рота.
Сафа поднялась с лавки и, изображая себя испуганную, промычала пару раз, затем совершила многозначительную паузу и продолжила:
– А оно в дверь тук да тук. И будто не человек стучит, а чего-то не нашенское. Наши-то бахнут в дверь, да и ломятся незнамо как, словно бескультурные какие. Парни мои совсем затряслись, как осинки на пригорке, смотреть аж так жалостливо, что хочь плачь и вой зачинай непрерывный. Тут уж я не стерпела энтого и как зыкну на дверь: «Заходи, вражина, коль неймётся тебе!» А сама за ухват и к порогу. Наизготовке стою, как тот солдат, что по молодости обретался в краях наших, да сгинул на войне-то…
Сафа, вспомнив солдата, как-то обмякла. Руки её, что изображали держание ухвата наизготовке, опустились. Она смиренно сложила их на животе и вздохнула. Остальные, зная её историю с солдатом, как обычно в таких случаях, загрустили тихонько, тоже повздыхали и утихли в ожидании продолжения рассказа. Рассказчица через несколько секунд встрепенулась, легко улыбнулась, морщинки на её лице заиграли, будто сами ни с того ни с сего собрались пуститься в пляс, и собравшиеся услышали продолжение «страшного» рассказа.
– Стою это я у двери, – загадочно произнесла Сафа. – А дверь-то тихонько со скрипом открывается и является оттудова рожа. Бригадирская рожа. Красная да, видать, с утра набравшаяся. Бормочет, мол, нет ли у меня горилки, а то своя вся вышла. А я-то с ухватом стою и тычу в него, в его рожу-то рогатульку – того и гляди зенки проколю. Видать, страх-то мой в силушку защитную вобрался и назад никак…
Компания, открыв рты, удивлённо угугкнула, а некоторые одобрительно хмыкнули:
– А так ему… Нечего по ночам за горилкой…
Сафа изобразила пьяного бригадира: глаза свела к носу, помотала головой, будто не соображая, где находится, и, заикаясь, пропела: «Сафушка, голубушка, мне бы горилочки хоть трошки». Фигура её закачалась, она шагнула в сторону, как будто споткнулась о невидимый предмет, и слушатели разом все ахнули, а Сафа, довольная реакцией подружек, забормотала:
– Чёрт проклятый, напугал парней моих до смерти, а теперь и в хату ломится, как ведьмак полоумный! Ей-богу, хотела я его, бабоньки, ухватом областить, да решимости на начальство не хватило.
Бабы одобрительно зашумели, разом заговорили о бригадире – мол, этого давно бы пора не только ухватом, а и оглоблей поучить, – но шум недолго продолжался. Притихли слушатели, а Сафа продолжила:
– Разглядел, проклятый, что ухват на него выставила, и, хочь нализавшись, а спужался. Зенки-то выставил и хрипит: что, мол, это я затеяла? Гостей ухватом встречаю. – Сафа натужилась и прохрипела: – Аль начальство не узнаёшь?
Бабы, почувствовав знакомую пародийную интонацию бригадира, заулыбались, а когда рассказчица глаза на них выпучила и ещё раз прохрипела голосом незваного гостя, то уж прыснули все разом и смех пошёл, разгулялся по хате. Только Сафа совсем не улыбалась, не единой смешинки на лице у неё не появилось. Она посерьёзнела до мрачности и продолжила хрипатым голосом:
– Ты, крестьянка, должна блюсти порядок, а не то…
В этом месте рассказа она ещё раз пошатнулась, словно подвыпившая горилки, громко икнула и обалдевшими глазами уставилась на присутствующих. Гомерический смех сотрясал хатку несколько минут. А когда бабы, насмеявшись вволю, затихли, Сафа тонким голосом пропела:
– Черти водятся окрест,
Подмигнул мне мелкий бес.
Ночка тёмная была,
Не спалось мне до утра.
Одна из сидящих у оконца завела следующую частушку:
– Тёмной ночью рожь шумит,
Мне о чём-то говорит.
Говорит, что тот милёнок,
Словно ласковый котёнок,
Промурлыкал и затих —
Нет услады мне от них.
Остальные хором продолжили:
– Ты, подружка, не серчай,
Я влюбилась невзначай.
Был хорош мой голубок,
Подкатился мне под бок.
Звонкие голоса неожиданно затихли, и кто-то спросил:
– А горилку-то отдала?
Сафа по-доброму улыбнулась и незлобиво ответила:
– Нехай пьёт, чего уж тут…
После минутного молчания ещё пропели несколько частушек и снова затихли, как это обычно бывает после шума и смеха, когда тема иссякла, а до новой ещё далеко.
– Ох! Бабоньки, – вздохнула Сафа. – Сколько чего у нас было, а счастья нет. Всё пробежало и затихло. Только песни и остались.
– Ага, – согласились с ней, и грубый голос пропел:
– В поле дядька по жнивью
Топчет тропочку мою.
Я ему чой показала
И к амбару убежала.
А он лежал на печи и слушал женские разговоры. Иногда понятные, а часто совсем непонятные, не городские, про гумно, амбары и местные события, которые совсем не были похожи на те, о которых он слышал в городе. Потом дядька объяснял ему, что к чему, но это было потом, а сейчас он тихо лежал и слушал, иногда прихватывая сушёные ягоды, что были расположены на печи в суетках. Ягоды были вкусные и, когда их разжуёшь, напоминали городские яства, но не такие ароматные, как здесь, на печи у тётки.
«Да, город и деревня тогда отличались. Не то что сейчас», – подумал облысевший и спросил:
– А вы, батенька, городской или деревенский?
Фэд задумался. Ему представилось, что если бы он не родился в городе, то судьба бы его сложилась совсем не такая, как сейчас. Сидел бы он на завалинке или на крылечке и обозревал поля с какими-то полезными растениями. Не было бы борьбы за светлое будущее, многого бы не было. И того дознавателя, который пудрил ему мозги, когда он вляпался довольно основательно. Этот следователь не выглядел каким-то ужасным, страшным, как ожидал Фэд. Это был всего лишь худощавый старый человек с ничего не выражающим лицом. Его серые маленькие глазки вроде бы и сверлили арестанта, но в то же время им было весьма скучно заниматься этим молодым человеком. Может быть, совершенно случайно попавшим сюда, может быть, по глупости или вследствие молодого задора и любопытства.
– Ну-с, молодой человек, – обратился к Фэду следователь. – Рассказывайте.
Фэд угрюмо молчал и приготовился к самому жестокому допросу. Следователь поправил пуговицу на мундире, тяжело вздохнул и тихо пропел:
– Товарищ, верь: тебе придётся
В борьбе исчезнуть навсегда.
Не всем нам счастье улыбнётся,
Борцам не выжить никогда,
И если там вдали померкнет
Заря надежды на рассвет,
Ты будешь вроде как бессмертным,
Но продолженья жизни нет.
Фэд опустил голову и продолжал молчать.
– Говорить не будем? – заискивающе спросил следователь и, выдержав небольшую паузу, произнёс: – Вы, молодой человек, думаете, что мне что-то от вас нужно. Ничего мне от вас не нужно. Вы мне вообще неинтересны. Я заранее знаю, что вы скажете. – Следователь взглянул на лист бумаги, лежавший перед ним, и продолжил: – Я вас понимаю. Ох как понимаю! Бывает, так хочется улучшить, сразу улучшить, то есть ликвидировать нечто мешающее. Так хочется, что прямо руки чешутся, тем более что не одному хочется, а группе товарищей. Так бы взял и своими руками ликвидировал. Даже скулы на лице сводит и кулаки сжимаются до белизны на косточках. И думается: вот попался нам кто-то плохой – на месте разделаемся с ним!
Следователь пристально взглянул в глаза Фэду, прищурился, и арестанту показалось, что его могут вот сейчас, прямо на месте оглушить чем-то, ударить сзади. Он нервно дёрнулся и оглянулся. Сзади никого, и только шершавая каменная стена, слегка подсвеченная лампой, стоявшей на столе следователя, серой плоскостью незыблемо нависала за спиной арестованного.
– Не следует бояться, – криво улыбаясь, произнёс следователь. – Здесь у меня вас никто не обидит. Вот видите, мы здесь совсем одни. – Он махнул рукой вправо, влево и, нахмурившись, прочитал:
– Я борец и ты борец,
Нам не нужен образец.
Смотрим мы в глаза друг другу,
Дай мне, друг-товарищ, руку.
Вместе мы пойдём вперёд,
А за нами – весь народ.
«Неужели… – мелькнуло в голове у Фэда. – Неужели он тоже?»
Он на секунду поймал взгляд следователя. Маленькие глазки зорко и злобно наблюдали за арестантом. Фэд резко опустил голову.
«Нет, этот не с нами, – подумал он. – Притворяется. Они все здесь притворяются».
– Вот видите, ничего не произошло. Вы теперь понимаете, о чём я говорю вам? – услышал Фэд голос затянутого в мундир худощавого старика. Старик опустил глаза, около полминуты читал какую-то бумагу, а затем, покачав головой, произнёс: – Вот здесь указано, что вы оказали сопротивление, тем самым усугубили. Зачем усугубили? – спросил он и не мигая уставился на Фэда.
– Они сами… – последовал робкий ответ.
– Вот и славненько! Вот и славненько! – обрадовался следователь. Он даже изобразил дружескую улыбку. Затем вернул себе строгий вид и спросил: – Так, значит, вы не сопротивлялись? То есть пай-мальчиком были?
Фэд кивнул, хотел было немножко расслабиться, он даже положил ногу на ногу, но тут же вновь занял выжидательную, напряжённую позу – ноги вместе, руки на коленях и строгое, почти мрачное лицо.
– Не надо хмуриться, – тихо и немного сочувственно произнёс следователь. – Вам, молодёжи, хмуриться не к лицу. Всё должно быть весело, бодро. – Худощавый старик выпрямил спину, откинулся в кресле и назидательным тоном продолжил: – Вам нас, стариков, не понять. Мы-то вас понимаем. Понимаем, что хочется переделать всё, что сделано до вас. Ведь хочется? – громко спросил он и, не дожидаясь ответа, монотонно, без выражения прочёл длинное стихотворение:
– Борьба противоположностей происходит постоянно.
Нам ли знать, когда и кто победит?
Победа, конечно, всегда желанна,
Но чья? Того, кто нам навредит?
Иль другого, который нам нравится,
Который хорош собой и приятен на взгляд?
Посмотришь на него – и уже кажется,
Что вот он – любимый наш брат.
Время идёт, бежит и торопится,
И нас торопит куда-то вдаль,
И тот, с кем быть нам, казалось, хочется,
Переродился – его уже жаль.
И даже не жаль, а так скучновато
Вспоминать то прошлое, где была борьба.
Историк древний изложил витиевато,
Где была правда, а где – игра.
Вы, молодое поколение, знать ли можете,
Кто в будущем победит?
Знаний книгу вы ленно гложете,
Наше будущее вам не вредит.
Следователь повторил последнюю строчку дважды и замолк.
Сейчас, находясь на веранде с видом на океан, Фэд ещё раз повторил: «Наше будущее вам не вредит». Облысевший открыл глаза, машинально кивнул и добавил:
– Теперь уж ничьё будущее нам не вредит.
Порывы ветра с океана жёстко били по окнам веранды. Сильные волны накатывали на берег, разбивались о камни, и водяные брызги, подхватываемые свежим потоком, уже долетали до собеседников.
– Стихия, – произнёс Вил.
– Да-а… – согласился Фэд. – Может, укроемся? – добавил он.
– Пожалуй, вы правы. Надо бы укрыться, – ответил Вил.
Через несколько минут они оказались в мягких креслах большой гостиной, и свежий ветер их уже не беспокоил.
– Тишина… – многозначительно прошептал облысевший. – Словно и нет беспокойства, словно мы укрылись, спрятались от мятежного бытия, и нам нравится вот так сидеть и тихо рассуждать. – Он закрыл глаза, постарался уловить звучание завывающего ветра за двойной рамой и, не услышав оттуда ни звука, заметил: – Райский уголок для тех, у кого нет будущего.
Фэд нервно повернулся в его сторону и недовольно возразил:
– Зато было бурное прошлое. – Он кашлянул пару раз и добавил: – Без прошлого нет будущего, а наше прошлое, поверьте мне, родит бурное будущее.
– Бурное? – усомнился Вил, но, подумав, продолжил:
– Да-с, голубчик. Наверное, вы правы. Законы таковы, что без бурь не обойтись.
– Согласен, – твёрдо заявил Фэд. – Согласен на сто процентов.
Он резко встал, как-то весь подтянулся, словно солдат на карауле, и тихо запел:
– Весь мир враждебный мы разрушим,
Врагов мы всюду победим.
Товарищ, нашу песню слушай —
Союз наш крепок и един!
– Да-да, – обрадовался облысевший и перебил поющего: – Конечно победим, батенька. Когда-нибудь в будущем, а сейчас…
Он огляделся по сторонам и как будто нашёл в окружающей обстановке поддержку. На лице его изобразилась какая-то решительность, глаза сверкнули, ленивые губы сжались, щёки напряглись, и тихий голос его изрёк:
– А если ты простой рабочий,
Ладони рук твоих грубы,
Ты не робей и что есть мочи
Оковы тяжкие руби.
– Вот именно, – возбуждённо прохрипел Фэд. – Вот именно, – чуть спокойнее повторил он и чётко, без особенных выражений продекламировал:
– На борьбу вставай, народ,
Бой смертельный тебя ждёт.
Все погибнем как один,
Мы теперь как господин —
Править миром нам дано,
Остальное всё – овно.
Верь, товарищ: рай придёт,
Будет всё наоборот:
Бедный счастлив и богат,
А богатый будет гад.
С гадом строгий разговор —
Сразу к стенке на позор.
Сразу чище будет мир,
Мы собьём с них лишний жир.
Нам, трудящимся, всегда
Пусть сияет та звезда,
Что зовёт всех нас на бой.
Ты герой, и я герой,
Вместе мы большая сила,
Всех поднимем мы на вилы,
А быть может, на штыки,
Мы герои – я и ты!
– Бывшие, – прошептал Вил после некоторой паузы, наступившей в гостиной.
Фэд помотал головой, словно не понял соседа, и громко произнёс:
– Мы не бывшие, мы прошлые.
– Э-э, батенька, – произнёс облысевший. – Что бывшие, что прошлые – итог один. Было и прошло.
– Но разве мы умерли, разве нас нет? – несколько возмущённо спросил Фэд и, меряя резкими шагами гостиную, забормотал: – Мы боролись, мы знали, что надо делать. Мы знали, а теперешние… – Он остановился посредине гостиной, осмотрелся и громко, как будто хотел докричаться до тех всех, которые могли бы сказать про него и облысевшего «вы устарели, у вас всё в прошлом», заговорил:
– Нет, господа хорошие, мы ещё есть, мы ещё кое-что можем! Вы нас списали, в хлам истории зачислили. А мы вот здесь есть, и нам не надо тишины – нам требуются бури. Только в них мы…
Фэд поперхнулся и сильно закашлялся. Кашляя, присел в кресло, платком прикрыл рот и около минуты пытался восстановить дыхание.
– Да-с, голубчик, – тихо произнёс Вил. – Может, что-то ещё можем, но напрягаться уже вредно.
Облысевший сочувственно покивал головой и, закрыв глаза, вспомнил тётку, её натруженные руки, морщинистое лицо, простую одежонку и какую-то странную энергичность. Тётка не могла сидеть без дела, и ему, тогда ещё пацану, казалось, что она какая-то двужильная. Поработав в поле с остальными бабами, она успевала ухаживать за скотиной, смотреть за огородом, быстро и как-то незаметно прибираться в доме, наготовить еды для себя и для гостей, а по вечерам посидеть вместе со всеми, послушать деревенскую «сказительницу» да попеть частушки. А назавтра встать ни свет ни заря, подоить корову, дать корму свинье, курам и снова в поле. «Лето зиму кормит», – так говорили деревенские, так выражался бригадир, прибавляя к поговорке жуткую брань, которую в городе не так часто услышишь.
Деревенские бабы частенько ворчали на бригадира, но жалели «одноногого чёрта» – остался единственный мужик в деревеньке после войны. Семью его раскидало по местам разным, жена помёрла, детки – тех, что постарше, война забрала, а младшие в город убёгли. Послевоенная молодёжь почти вся в город «убёгла».
Бригадир руководил бабами, страшно ругался, но к этому все привыкли и почти не замечали острых слов одноногого начальника. Дядька, когда на лето выбирался в деревню, беседовал с бригадиром. Они обсуждали разные события, судили о том, всё ли в государстве в порядке, но о войне никогда не говорили. Ему, мальчишке, было это удивительно, хотя, когда (летом бывали такие случаи) после бани за столом собирались мужчины-гости и бригадир, разговоры случались серьёзные: про былое, довольно древнее, то, которое повлияло на местность и даже сейчас, по прошествии уж более сотни лет, было заметно по остаткам хуторской системы. Мужики после жаркого банного пара, отдохнувшие после помывки, с удовольствием потребляли самогон и рассуждали о том, что раньше было лучше. Бригадир соглашался, что хутора были лучше, чем деревни, а дядька сомневался и часто вздыхал, сетовал на то, что одни бабы работают и что мужичков на деревне совсем не осталось.
– Бабы у нас крепкие, – вторил ему бригадир и добавлял крепкое слово, усиливающее его мысль.
– Да-а, – соглашался гость от соседей. – Всё на стариках держится. Без нас никуда, а молодые – так им всё быстро подавай, нетерпеливые они.
– Нетерпеливые они, – вздохнул облысевший и задумался на несколько минут. Затем открыл глаза и начал тихо читать стихи:
– Кто хочет тишины?
Забвения кто хочет?
Кому наскучили те дни,
Которых дух мятежный просит.
Его усилием одним
Не заглушить – он оживает.
С ним нам не справиться самим,
Он наши мысли угнетает.
И думать о покое нам
Уже не хочется отныне,
Но – чу! Прислушайся к словам —
К словам, известным в нашем мире…
Чтец на секунду прервался, а Фэд моментально оживился и продолжил:
– Покой – отрада для души,
Для тела главная обитель.
Мятежный звук, мерцай в тиши,
В нирване ты совсем не житель,
Где бури, там себя ищи,
Огонь и вихрь тебе учитель.
Но что за звук? Кто там, за кромкой?
Там некто сильный, очень громкий,
Неведомый тебе и мне
Конец вещает тишине
И в кутерьму и в бурю гонит,
Насильно за собой зовёт,
И нервы напряжённо стонут,
И он барьеры быта рвёт.
Фэд закончил читать, перевёл дух и прислушался. За окнами бушевала стихия. Океан, глубоко дыша, огромными волнами накатывался на береговые камни. Горизонт был чист, и казалось, что там, вдали, существует тишина и благодать, там нет больших волн, нет порывистого ветра и совсем не чувствуется тяжёлое дыхание океана.






