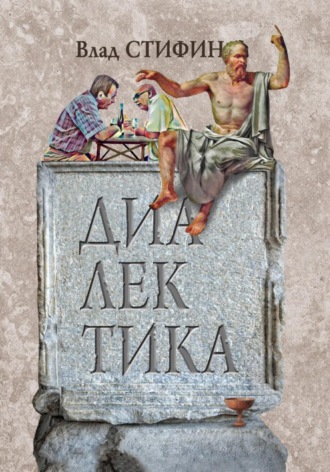
Влад Стифин
Диалектика
Предисловие
– Собственно говоря, как термин диалектика впервые используется Сократом. – Худощавый профессор поправил очки и продолжил свою мысль: – Сократ использует этот термин, то есть диалектику, как метод или, если хотите, способ ведения беседы, как искусство ведения спора. При этом Сократ говорит о том, что спор должен вестись как рождающий истину, то есть не абы как… – Профессор оглядел всю аудиторию, видимо, остался доволен присутствующими слушателями и, слегка тронув бородку, продолжил: – Как частенько у нас, бывает, спорят, не слушая друг друга, а по Сократу – спорящие должны действовать как люди понимающие, что спор должен быть плодотворным, а не разрушительным, желательно без криков и не дай бог оскорблений. Следовательно, задача говорящих – не упражняться в заумной болтовне, а помочь родиться истине. – Профессор сделал небольшую паузу и несколько торжественным голосом произнёс: – Вот задача подлинной диалектики.
«Ага, – подумал молодой слушатель, сидящий на самом верху. – У нас задача сдать эту диалектику. Вот – наша подлинная задача!»
Он, прикрыв ладонью рот, шёпотом обратится к соседу:
– Ты, случайно не знаешь, этот сухарь – зверь или так себе?
Сосед не понял его и тихо спросил:
– Ты про кого говоришь?
– Ну этот, с бородкой – профессор, – прозвучал тихий ответ.
– Этот худой, наверное, строгий. Все худые строгие, – шёпотом ответил сосед.
– Да, тогда влипли мы! Зверь точно завалит! – прошептал первый слушатель.
Профессор строго посмотрел поверх очков и произнёс:
– Кстати, молодые люди, в переводе с древнегреческого «диалектика» дословно означает «раздельно говорить, излагать». Продолжим. – Профессор взглянул на первые ряды и, удостоверившись в том, что его готовы слушать, сказал: – В современном смысле слова диалектика в своём развитии прошла три этапа. Впервые она зародилась в Древней Греции и связана прежде всего с идеями Гераклита. И этот этап носит название стихийной материалистической диалектики. Второй этап развития диалектики связан с именем Гегеля. Гегель, Георг Вильгельм Фридрих – выдающийся немецкий философ, – произнёс профессор и сделал паузу – видимо, для того, чтобы слушатели прониклись некоторым уважением к этому Гегелю.
– Ну вот, – прошептал первый слушатель. – Столько имён – не запомнишь! А ещё, наверное, будут – этих философов много, а мы пред ними крохи несчастные.
– Ага, – согласился с ним второй. – Щас начнётся.
– Гегель приблизил диалектику к научному пониманию, – послышался голос с кафедры. – Именно Гегелю принадлежит открытие законов диалектики, открытие парных категорий диалектики…
Профессор сыпал терминами, останавливался, делая многозначительные паузы, и уже несколько раз кое-что пытался диктовать студентам, часть из которых усердно вели конспекты.
– Чего-то пишут, – прошептал первый. – А ты не пишешь?
– Не пишу, – ответил второй. – Всё равно придётся с кого-нибудь «сдуть».
– А если не дадут? – тихо спросил первый.
– Как это не дадут? – последовал ответ. – А солидарность?
С кафедры послышалось:
– То есть усилиями Гегеля диалектика превратилась в научную систему.
Профессор на несколько секунд остановился, повернул голову в сторону больших окон и, казалось, глядя на осенний академический парк, о чём-то задумался.
– Не нравится ему эта погода, – решил про себя первый студент. «А кому эта погода понравится, слякоть одна и скучища!» – подумал он и прошептал:
– Скучная, как эта диалектика.
А в аудитории продолжали раздаваться глухие слова профессора.
– Диалектика Гегеля носит идеалистический характер. Это диалектика понятий. Диалектика идеалистического развития мира. И, наконец, третий этап развития диалектики связан с именами Маркса и Энгельса. Здесь диалектика приобрела подлинный научный характер. Они, то есть Маркс и Энгельс, поставили диалектику с головы на ноги.
Первый студент повернулся к соседу и тихо заметил:
– Завалит нас фамилиями!
– Ага, – согласился сосед и, склонившись над толстой тетрадью, что-то там записал.
– Конспектируешь? – прошептал первый студент.
Сосед не ответил и продолжил водить ручкой по белому листу.
«Конспектирует», – решил про себя первый и аккуратно крупными буквами вывел на первом листе: «Диалектика».
– Диалектику Гегель противопоставляет метафизике, – донеслось с кафедры. – В понимании Гегеля диалектика – это антиметафизика. – Профессор взглянул на первые ряды слушателей и произнёс: – Что такое метафизика? Само слово «метафизика» что означает?
С первых рядов донеслось не очень уверенное:
– «После физики».
– Да, – обрадованно подтвердил профессор. – Именно «после физики». Некоторые говорят, что этот термин появился у Аристотеля, но это не так…
За окнами потемнело, и пошёл нудный осенний дождь. В аудитории стало зябко, и первый студент шёпотом заметил:
– В Древней Греции таких гадких погод, наверное, не бывает. Там тепло, солнышко – там можно и диалектикой заняться, а здесь…
– Ага, – тихо согласился сосед и продолжил что-то рисовать в своей тетради.
– Гегелевская диалектика, – послышалось в аудитории. – Есть учение о развитии, учение о взаимодействии всего сущего…
Первый студент чуточку помельче, чем первая запись, вывел под словом «Диалектика»: «Учение о развитии».
– Гегель пошёл дальше Канта, – произнёс профессор. – Иммануил Кант – родоначальник классической немецкой философии…
«Ещё один», – уныло подумал первый студент, записал: «Иммануил – родоначальник» и заглянул к соседу в тетрадь. У соседа весь лист был исчиркан каракулями, среди которых в некоторых местах просматривались какие-то фантастические машины и агрегаты.
«Наверное, знает эту диалектику – вот и рисует что попало», – подумал первый студент и тревожно прислушался к аудитории.
– Закон единства и борьбы противоположностей, – громко и как-то торжественно произнёс профессор. Затем он слегка потёр пальцем нос, огладил длинные волосы на затылке и продолжил: – Именно существование противоположностей заставляет мир естественным образом развиваться.
«Ага, – подумал студент. – Он и я суть естественные противоположности. Его противоположность меня смять может, а моя только тихо сопротивляется».
– А вот метафизика отрицает качественные скачки, тогда как закон взаимного перехода количественных и качественных изменений… – Профессор ещё раз повторил процедуру потирания носа и волос и продолжил: – Развитие представляет собой единство количественных и качественных изменений. На определённом этапе количество приводит к новому качеству, а новое качество порождает новые возможности…
– Новые возможности, – шепчет студент и внимательно приглядывается к сидящим ниже его слушателям. «Надо бы с кем-нибудь познакомиться поближе», – про себя решает он и продолжает наблюдать за аудиторией.
– Проще говоря, этот закон говорит нам о том, что ничто не вечно и каждая новая стадия (новый этап) развития так или иначе отрицает предыдущую. Таким образом, закон…
«Сделаю “шпоры”, – размышляет про себя студент. – Или у кого-нибудь раздобуду».
– Таким образом, – повторяет профессор, – закон отрицания отрицания определяет направленность развития, определяет связь нового и старого. Отрицание отрицания, то есть двойное отрицание, представляет собой сохранение некоторых свойств старого в новом…
– Ничего, – шепчет студент, – прорвёмся через отрицание отрицания, что-то ведь должно остаться. Не может не остаться, ведь это – диалектика.
А с кафедры продолжали звучать философские мысли, и студенту показалось, что он уже начинает что-то понимать в диалектике; показалось, что он сидит даже не здесь в большой аудитории, а где-то совсем в другом месте, а может быть, плывёт над облаками, всё дальше и дальше удаляясь от земли. И вот он в пустоте, где далёкие звёзды ещё не приблизились к нему и ему страшно оттого, что он может и не вернуться назад, и в то же время радостно оттого, что он летит всё дальше и дальше в неизведанное.
До него долетают слова профессора: «Господа на галёрке, вам это всё придётся сдавать», и он возвращается туда, где царят всего лишь законы диалектики.
Борьба
– Можно подумать, что все знают, что такое диалектика? А как же – это так просто! Мир меняется, изменяется всё, что может измениться, даже то, что кажется незыблемым. А раз такое дело, то должны быть хоть какие-нибудь законы, по которым это всё творится и делается. Детально знать их необязательно, некоторые так и делают – мало ли законов напридумывали. Что ж получается: если их не знать, то и жить невозможно? Так, что ли? – Сильно облысевший мужчина вопросительно взглянул на собеседника, прищурился, словно ожидал немедленного ответа от своего визави, и, сделав паузу не менее полуминуты, продолжил: – Можно и не знать. Ни к чему это знание. Что оно даёт практически? Да ровным счётом ничего. Вот хотя бы возьмите это. – Он потеребил бородку и, усмехнувшись, продолжил: – Вот возьмите хотя бы это – борьбу противоположностей. На кой она нужна простому человеку, которому подавай простые истины, которому, батенька, надо объяснить коротко и ясно: жизнь полосатая, будет и чёрное, и белое, а то и серо-буро-малиновое, но это уже, пожалуй, лишнее. А борьба противоположностей рядом с ним проистекает, его затрагивает, а он без подсказки не видит её – она ему ни к чему. Даже вредна, я бы сказал.
Облысевший замолк и, кажется, крепко о чём-то задумался. Утреннее солнце только что поднялось над горами. Лёгкий ветерок лениво покачивал прозрачную штору открытой веранды. Солнечные лучи ещё не освещали её – они скользили по тихой поверхности воды, уходящей от песчаной отмели прямо к горизонту, где полоса, отделяющая океан от неба, была чётко видна.
– Редкое зрелище, – проворчал собеседник, пристально вглядываясь в горизонт. – Гладкая вода, как в озере, – добавил он, отпивая мелкими глотками чистую воду из хрустального бокала.
– Вы полагаете, что эдакой гладкости не должно быть? – ответил ему облысевший мужчина, возрастом глубоко за пятьдесят лет.
– А вы что же, против? – произнёс собеседник, оправил редкую бородёнку и представился: – Бывший революционер, а ныне пенсионер по имени Фэд.
– Ах, вот как! – обрадовался облысевший. – Весьма рад встретить коллегу, точнее единомышленника. А то, знаете ли, загнали сюда в «райский уголок». Велели отдыхать и…
Облысевший запнулся, словно обиделся на тех, кто его сюда «загнал». Он энергично покачал головой, громко вздохнул и произнёс:
– Рад познакомиться. Меня можно называть по-простому – Вил, а по поводу имеющейся на сегодня тишины могу сказать, что я не против. Я, конечно, за, но…
Вил резко опустошил свой бокал и, повертев головой в поисках официанта, наполнил его новой порцией воды.
– Я вовсе не против тишины, – продолжил облысевший. – Я не против, но это такая редкость, когда всё тихо. Помнится, что такое перед бурей бывает. Вы замечали, батенька, что перед бурей бывает?
– А что перед бурей бывает? – проворчал Фэд.
– А вы словно не знаете! – ответил Вил. – Не надо притворяться, товарищ, не надо. А то, знаете ли, многие притворяются, когда тихо. Сидят себе в норках и носа не высовывают наружу. Сидят и думают: вот, мол, не вижу я угроз – так их и не будет. Мышиная стратегия – сидеть в норках. – Облысевший задумчиво взглянул на свой полный бокал и продекламировал:
– В норке сиживал мышонок,
Бела света не видал.
Рядом в доме жил котёнок,
Мяса свежего не знал.
Но такое состоянье
Продолжалось не всегда:
О мыше какой-то знанье
Появилось у кота.
Он окрестности изведал,
Обнаружил и мыша,
И тихонько пообедал —
Был он голоден с утра.
– Ага, – буркнул Фэд. – Вы, товарищ, вижу, поэтизировать вздумали. Рифмовочками всю веранду засыпали. Приятно слушать! А мне эдакое на ум не идёт – всё проза голая в голове бродит.
Облысевший, прикрыв ладонью рот, незаметно зевнул, слегка покачал головой и возразил:
– Это, голубчик, не моё. Это, батенька, народное.
Собеседники около минуты молчали. Вил закрыл глаза и, откинувшись в плетёном кресле, наслаждался тихим утром, ласковым солнцем, которое уже облизало всю веранду свежими лучами, ещё пока что не очень жаркими и палящими, которые ожидались от дневного светила в полдень.
– Архихорошо! – прошептал облысевший, не открывая глаз. – Вы, товарищ, согласны?
– Согласен, – нехотя ответил Фэд и монотонно прочитал:
– Тишина не всем приятна,
Радость от неё не жди.
В тишине не всё понятно —
Неизвестность впереди.
Ну, как буря небо скроет,
Поломает дерева́
И народ окрест накроет,
Но не весь, а так, слегка.
Может быть, всего под тыщу —
Сотня здесь, а сотня там.
Кой-кого уже не сыщем —
Радости не будет нам.
И в итоге вывод будет:
Тишина всему виной.
Осторожней будьте, люди,
Не рискуйте вы собой!
Облысевший удивлённо произнёс: «Да-а…» и открыл глаза.
– Скажите, тоже народное? – спросил он. – Тоже не своё?
– Своё, не своё… Какое это имеет значение? – пробурчал Фэд. – Главное, чтобы смысл был, а слова – это чепуха. Много слов – смысл теряется, мало слов – меньше толкований. А то, знаете ли, партайгеноссе, наговорят столько, что мозги плавятся, смысл уходит куда-то вдаль голубую, как в это небо. – Он поднял голову и долго смотрел на небосвод, щурился от солнца и, тяжко вздохнув, продолжил: – Вы, товарищ Вил, должны понимать текущий момент. Сейчас тишь, а будет буря, шторм или ещё что-то волнительное. Без этого ведь никак не обойтись. Вот и получается… – Фэд потеребил редкую бородку и, криво усмехнувшись, закончил свой монолог следующей фразой: – Меньшинство бурлит, а большинство в норках сидит.
– Согласен, абсолютно согласен, голубчик, – произнёс Вил. – Но нервничать нам нечего. Вихрь налетит – по номерам разбежимся. Разбежимся, но тонус терять не будем. Вот, послушайте:
– Ночь меняет день прошедший,
Утро вслед за ней идёт.
Это ход, известно, вечный,
Никогда – наоборот.
Если знаешь – ночь наступит,
Днём готовишься, не спишь,
Энергичность не уступит
Расслабленью крепких мышц.
Будь готов ты к переменам!
Ногу в стремени держи,
Конь надёжный не изменит,
Когда буря впереди.
– Хорошо сказано, геноссе, – заключил Фэд.
Он повторил последнюю строку: «Когда буря впереди», и его худое лицо словно просветлело, глаза загорелись. Он, сидя в кресле, как-то взбодрился, выпрямился, как будто готовился к прыжку, но через пару секунд воодушевление его пропало и он почти безразлично спросил:
– А как узнать, когда она будет? Как вычислить этот момент, когда затишье практически не меняется и только еле заметная рябь пробежит по воде, чуть поколышет траву и на минуту затихнет? Затихнет, – в раздумье повторил он и замолчал.
Утренний ветерок совсем ослаб, наступила тишина. Шторы безжизненно повисли. Океан, казалось, затаил дыхание в ожидании свежего ветра.
– Все чего-то ждут, но только не волнений. Кому они нужны, эти волнения? Разве что молодёжи неразумной, – размышляя, произнёс Фэд и, повернувшись в сторону большой воды, прочёл:
– Дуновенье ветерка розу красную колышет,
Шёпот ласковый любви здесь в беседке еле слышен.
Им, внимающим словам, незаметны измененья
И тревога здесь и там не приносит им волненье.
Нет для них предупрежденья, нет намёка на итог,
Всё потом, все измененья принесёт упрямый рок.
– Ну, это вы слишком строги, – произнёс Вил. – В изменениях не только молодость участвует. Не только. Поверьте мне, батенька. – Облысевший на минуту задумался, хотел было встать, поёрзал в кресле, но, устроившись поудобнее, передумал и, как-то легко вздохнув, продолжил: – Старшее поколение тоже ответственно за перемены. – Он опустил ладони на колени, стараясь быть незамеченным, потёр их и, слегка улыбнувшись, произнёс: – Вот вы, голубчик, я вижу, человек опытный. Я бы даже сказал «тёртый калач», однако же готовы принять перемены или желаете…
Облысевший сделал небольшую паузу и, пристально взглянув на собеседника, спросил:
– Или желаете их избежать?
Фэд покачал головой, нахмурился на облысевшего, как-то сморщившись, словно ему предложили откушать нечто, может быть, и съедобное, но ему совсем нежелательное и, тихо кашлянув, ответил:
– Вы, партайгеноссе, уж чересчур прозорливы. Думаете, если некто в возрасте, то уж и перемены ему не нужны? То есть если пожил человек, то меняться ему уж не хочется и чтоб окружение оставалось таким, к которому он привык? Так, что ли, по-вашему? – Фэд уставился на облысевшего и с напряжением, которое было заметно по его сжатым ладоням, ждал ответа.
– Да-с, батенька, – улыбнувшись, начал отвечать Вил. – Да-с, голубчик, чую, что нервничаете вы. А нервничать в вашем возрасте…
Облысевший на несколько секунд задумался, а затем продолжил:
– Да и в моём тоже не стоит. Зачем тратиться на эдакие пустяки? Без перемен не обойтись. Сама жизнь переменчива. Куда уж нам её поправлять! Думается мне, что вы – энергичный человек – пытаетесь её, эту жизнь, поправлять. А поправлять-то необходимо диалектически. Я имею в виду то обстоятельство, что если среда не готова к переменам, то хоть кол на голове теши – ничего не добьёшься. Один пшик выйдет. Пожалуй, стоит вспомнить первый закон, сиречь борьбу противоположностей: света и тьмы, добра и зла, и ваши перемены и стабильность, то есть тишину и бурю.
Облысевший приложил ладонь ко лбу, затем отвёл руку в сторону, ладонью вверх, как будто ждал, что кто-то сверху подбросит ему записку с ценной мыслью. Но сверху ничего не упало, ничего не прилетело, и оратор произнёс:
– Что-то же должно родиться от этого противостояния? Не может же ничего не родиться. Никто не хочет хаоса, а он…
Облысевший склонил голову, что-то невнятное пробурчал себе под нос, затем резко взмахнул рукой и почти крикнул:
– Чёрт бы побрал эту обслугу! Ну где они все?
Из глубины выскочил тонкий человечек, улыбаясь быстро, быстро забормотал на незнакомом языке, а облысевший ткнул пальцем в пустую бутылку и рявкнул: «Воды!» Тонкий человек в мгновение исчез, и через несколько секунд на столе уже стояла, заиндевевшая от холода, бутылка свежей воды. Вил удовлетворённо кивнул головой и, собравшись с мыслями, прочитал следующее:
– Перекрёстки, повороты —
Изгибается судьба.
Каждый день одни заботы,
Чтоб затишье – никогда.
Можешь помечтать немножко,
Штиль застать хотелось бы,
Затаишься у окошка,
Ну а там метелицы.
А кому-то это – счастье:
Снег, огонь, дождя заряд,
Подавай ему ненастье,
Гадость всякую подряд!
В этой бурной суматохе
Ищет смыслы, может, он.
Их немного, может, крохи,
Но от них пойдёт огонь,
Подпалит умы немногих
И сумятицу внесёт,
На борьбу пойдёт убогий,
Все устои разнесёт,
Скажет: вихрь революций
Обновит людской поток,
Жизнь когда-то станет лучше,
Хоть чуть-чуть, на ноготок.
Облысевший почти шёпотом закончил чтение и, тяжко вздохнув, произнёс:
– Вообще-то, я не прав. Не так всё происходит диалектически. Эта борьба не так существует, то есть хочу сказать, что такая простая трактовка этого дела, пожалуй, доведёт нас до примитивизма. – Он заметил удивлённый взгляд Фэда и быстро отреагировал: – Да, вот именно: обвинят в искажении. Скажут, даже заклеймят, пригвоздят к позорному столбу. Завопят, что, мол, недоучки и бестолочи. Не понимаем законов, которые, так сказать, столпы обнаружили и доказали их объективность. А мы рассуждаем – мол, добро победит зло. А как же оно победит, если зло объективно существует, я бы даже сказал, что будет существовать? Им, добру и злу, друг без друга не жить.
Фэд грозно нахмурился, кашлянул пару раз и возразил:
– Геноссе, вы зря так. Так нельзя. Так мы со злом останемся навечно. Добро со всей решимостью, невзирая на слюни и сопли слабаков, должно давить эту гадость, давить безжалостно твёрдой рукой, давить до конца, до самого, самого конца.
– И что же, голубчик, вы считаете, что победите? – с иронической улыбочкой спросил Вил.
– Да, – уверенно ответил Фэд и, немного подумав, добавил: – Конечно, если всем миром навалимся, то есть передовым его отрядом.
– Вот именно, батенька, передовым, а то, знаете ли, если всех брать, то шатающиеся, неуверенные и прочие болтающие о благе, о добре всё дело загубят. Они, как говаривали раньше, ренегатами станут и всякими оппортунистами. А это, знаете ли, голубчик, сплошным пораженчеством попахивает. А сколько примазавшихся к главному делу обнаружится и сочувствующих! С ними нам, конечно, чуток можно прошагать, но недолго, не весь путь. Иначе заболотят ясное дело, мысли размягчат, а там, глядишь, правильное добро переродится в чёрт-те что. – Облысевший запнулся, взглянул на собеседника и, убедившись, что тот его внимательно слушает, привстал и громко произнёс: – Товарищи, вперёд к победе, к великому будущему всех стран и народов. Всех угнетённых и… – Он остановился, огляделся по сторонам и, заметив, что рядом находится только один человек, тихонько закончил фразу следующими словами: – Всех, кому это настоящее не нравится. – Затем уселся в кресло и куда-то в сторону прошептал: – Мало нас осталось. Огорчительно мало.
Свежий ветерок потянул от воды. Чувствовалось, что скоро он окрепнет и упругие струи прохладного воздуха оближут весь берег, поднимутся в горы и весь океан придёт в волнение. Длинные, медленные волны накатятся на песок, и ритмичный гул заполнит весь берег, веранду и весь этот райский уголок с его немногочисленными обитателями, случайно появившимися здесь и случайно, в конце концов, исчезнувшими, как обычно здесь бывало до них и, наверное, будет долго-долго после.
Фэд молча повернулся лицом к ветру и затаился, вероятно, наслаждаясь прохладными струями воздуха, которые пока что ещё довольно ласково касались его угрюмого лица, обтекали его чуть острый нос и слегка теребили редкие волосы бородёнки. Он о чём-то думал – может быть, о борьбе добра и зла, а может, об этой большой, громадной воде, которой до их беседы с облысевшим мало было дела. Океану вообще мало было дела до этого райского уголка. Он мог давно бы разрушить большой волной это место со всеми строениями и прочим барахлом, но хитрые люди соорудили высокую террасу, до которой большие волны докатывались очень редко, и океану, пожалуй, было лень тратиться на ликвидацию неестественного сооружения, и он до поры до времени только грозно, в самую сильную бурю, накатывал волну до самой веранды.
Сейчас волна набегала на песок и едва добиралась до чёрных камней, лежащих у подножья бетонного барьера. Собеседники пристально вглядывались в горизонт, как будто ожидали появления там чего-то новенького, хоть какого-нибудь корабля, а лучше парусника, но горизонт был, как всегда, пуст. Обслуга объяснила им, что здесь нет морских трасс, а случайные суда забредают сюда довольно редко. Место здесь тихое и весьма приятное для отдыха солидных людей. Погоды обычно здесь стоят отменные, и все, кто бы ни был, здесь довольны местной обстановкой.
Фэд вспоминал своё детство. Много чего там было, и было что вспомнить, но сейчас ему показалось: как мало осталось в памяти приятных дней и событий! Помнился яркий солнечный день – праздник. Праздник, но не для всех, точнее не государственный, а религиозный. Многие его, как говорится, отмечали, но как-то не принято было это афишировать. Считалось, что этого делать не стоит, – мало ли что может выйти. Может карьера не сложиться, или вообще запишут в злостные мракобесы, тогда и выбраться оттуда, из злостных, трудно будет. А мальчик худенький, самый младший в семье, одетый во всё чистое, стоял и любовался красивым днём, приветливыми лицами соседей, а главное – прекрасной погодой, наступившей внезапно после слякотной и зябкой весны. Ему это так нравилось, что хотелось сделать что-нибудь хорошее, да так, чтобы все узнали, что он хороший мальчик, а не тот, который плохо учится и почти по всем предметам имеет слабые знания. Он не любил учиться, ему нравилось ходить в церковь – там ему было нескучно и ему казалось, что он может стать служителем в церкви. А если служить Богу, то зачем ему эти такие нудные уроки?
Он стоял, смотрел на свежую зелень, только что раскрасившую бывшие совсем недавно голыми ветки деревьев и кустов, и размышлял:
«Надо, чтобы все верили, – не должно быть неверящих. Тогда будет много добра и почти не будет зла. Но до этого ещё далеко».
Эта, казалось, простая мысль ему понравилась. Ему сразу захотелось обратить кого-нибудь в свою веру. Он огляделся по сторонам и, заметив группку мальчишек, его сверстников, решительно двинулся к ним. Пацаны были серьёзно заняты игрой в бабки. Игра уже длилась относительно долго, и в самый решительный момент он, подойдя вплотную к играющим, громко заявил:
– Всем надо верить в Бога. Ходить в церковь и молиться. Вы верите?
Играющие недружелюбно посмотрели на него и, отвернувшись, занялись своим делом.
– Ага! – громко произнёс он. – Не желаете разговаривать – Он вас накажет!
Ответа от игроков не последовало, и только после третьего требования верить в Бога самый крепкий из мальчишек разогнулся и грубо толкнул агитатора. Потом, когда он не проникся, чем может закончиться его агитация, его побили, и дома пришлось оправдываться, почему он испачкал светлую рубашку и кафтанчик. Родители его были не очень набожными людьми и совсем не понимали старания своего мальчика бывать чаще в церкви, чем на уроках, но в большой семье забот было много и мальчик был предоставлен сам себе. Ему часто доставалось от сверстников за его желание сделать всех религиозными. Некоторые его сторонились, другие воспринимали его как назойливую муху, с которой можно существовать, но недолго, не всегда. Такое состояние мальчика продолжалось недолго – уже лет в пятнадцать он, случайно оказавшись среди повзрослевших ребят, воинственно настроенных против всего религиозного и считающих, что религия закрепощает человека, сразу же без раздумий изменился. Изменился настолько кардинально, что через пару лет оказался на заметке у некоторых органов, следящих за сохранением общепринятых норм и традиций. Теперь он точно знал, за что и как надо бороться, чтобы освободить угнетённые массы от оков религиозности и прочей государственной насильственной чепухи.
А сейчас он, уже почти старик, сидел в уютном кресле и смотрел, как слегка раскачивается океан. Он помнил тот день, когда праздничное настроение так захватило его, что ему хотелось петь церковные гимны, хотелось поделиться с кем-то своей радостью от бытия, от чувства сопричастности с чем-то большим, которое вот-вот захватит всё вокруг в свой громадный круг и унесёт в вышину, где всем должно быть хорошо и покойно. И, конечно, радостно оттого, что они все вместе и все понимают друг друга, даже ничего не говоря, а лишь просто смотрят в глаза и только по искреннему, доброму взгляду сразу становится ясно: здесь твой друг, единомышленник, здесь тебя не обидят, а главное, будут слушать и понимать.
– Да-а… – саркастически выдохнул он, вспомнив, как долговязый толкнул его, а затем и побил.
Он взглянул на облысевшего. Тот прищурившись смотрел на горизонт, и Фэду показалось, что облысевший с чуть приоткрытыми глазами просто дремлет в кресле, просто утомился от разговора о диалектике.
«Слабак, – подумал Фэд. – Рассуждает революционно, а как до дела – так опять одна болтовня».
Облысевший неожиданно пошевелил рукой, словно хотел показать что-то там, на горизонте, и громко произнёс:
– Огорчительно мало. Вы согласны со мной, голубчик?
Фэд удивлённо перевёл взгляд на вопрошавшего и, ничего толком не придумав, ответил вопросом на вопрос:
– Мало для чего? О чём вы, партайгеноссе?
– О деле, батенька, о деле. Безделица – так вот она. Сидим, наслаждаемся, а дело, понимаете ли, требует движения, а движение это – борьба.
Вил повернулся лицом к собеседнику и, ехидно улыбнувшись, спросил:
– Вот вы, кажется, наслаждаетесь нынешним бытиём. Вам оно, похоже, нравится. Я, простите, наблюдал. Заметил, как мечталось вам, будто и не здесь вы были, а где-то в заоблачной выси. Мечтаете о прошлом. Нынешнее вам пригодилось всего лишь для мечты. Никакой борьбы не осталось, кроме как поесть, попить и на воду посмотреть. Я понимаю: действовать не желается. Зачем? Вдруг не победишь, проиграешь, стыдно будет, а то и здоровье потеряешь. Зачем? К чему эта борьба?
Облысевший устало махнул рукой, показывая всем своим видом недовольство наличествующей обстановкой, и, отпив глоток воды, произнёс:
– Незаметно единство борьбы противоположностей. Нетути этого, хоть весь обсмотрись.
Фэд недоумённо покачал головой и сердито ответил:
– Вы, товарищ, не по адресу эту тираду запустили. Я борец, то есть был борцом. Боролся даже сам с собой! И со мной тоже…
– Вот, то-то и оно… – перебил его Вил. – А нынче что, уж и не борец?
Фэд нахмурился и, потеребив правое ухо, ответил:
– Нынче на отдыхе.
Он хотел было рассказать о своих подвигах, но, почувствовав, что облысевший может его и не понять, коротко продолжил:
– Много всего было, а теперь осмыслить надобно.
– Осмысление – это хорошо, – согласился Вил и затих. Ему тоже было что осмыслить. Он тоже вспомнил, как первый раз появился у тётки.
Длинный поезд, пыхнув бело-серым дымом, ранним утром остановился у небольшой станции. Состав дёрнулся и со скрипом застыл на месте. Проводница энергично сдвинула защёлку, отбросила к стенке тамбура железную пластину и освободила спускающиеся из вагона ступеньки. Он с двоюродным братом осторожно сошли на песчаную дорожку. Сняли сверху из тамбура два чемоданчика и, не дожидаясь отправления поезда, отошли в сторону в поисках встречающей их тётки. Поезд негромко гуднул, будто не хотел так рано будить станционных и ещё тех, кто спал в маленьком посёлке возле станции, и, лязгнув буферами, медленно тронулся дальше. Тётка – ещё не старая, но уже выглядевшая совсем немолодой женщиной – бросилась к ним от стоявшей невдалеке телеги с лошадью и по очереди крепко обняла каждого с искренним целованием в обе щеки. От тётки пахло чем-то совсем не городским, совсем незнакомым и, на первый взгляд, неприятным. Её серая телогрейка уже повидала многое на своём, может быть, не очень долгом пути. Тёмная юбка, которую редко встретишь на городских улицах, торчащая из-под телогрейки, и потёртые резиновые сапоги говорили о многом двум городским жителям, которые только что сошли с поезда. Летнее влажное утро встретило их неожиданной тишиной, которая редко встречается среди каменных городских строений. Им показалось, что здесь совсем нет людей, нет той суматохи, что окружала их с раннего детства. Пустынная станция, грустная лошадь, запряжённая в телегу, и одиноко торчащий у кирпичной стенки одноэтажного вокзала железнодорожный деятель навевали некоторое умиление от спокойного, неторопливого существования какой-то пока что неизвестной жизни. Жизни почти без перемен, такой, какой она была и десять, и двадцать, и более лет тому назад.






