
Виталий Сундаков
Выиграть жизнь. Сказки из сундука
О Т.Д. ОХНУЛ

Здесь женщины меня берут за руки: «Сэээр…»
Здесь не нужны ни карабин, ни брюки
(ноу проблем!).
Здесь круглый год цветы благоухают (Ах!).
А фрукты (в самом деле!) «ам» и тают.
Здесь ночь тепла, вода лазурна,
Но стоп – мне почему-то дурно!
Хочу опять туда, где солнце жарит.
Не ветерок, а ветер бьет и валит.
Где поедаешь то, что лишь добыл,
Чтя формулу «Я буду, а не был».
Где доверяешь спину лишь костру.
Где спишь, как новобранец на посту.
Где сердце вырывается наружу.
Меняю тень на зной, а зной – на стужу.
Меняю этот день на день вчерашний.
Вчерашний день меняю на грядущий.
На жидкий суп меняю стол цветущий.
И как Адам: «Прощайте, рая кущи».
Решено. Отправляюсь за билетом.
Корр.:
– Вам, очевидно, завидуют многие люди. Хорошенькую он, мол, себе работу нашел, кататься по миру, поди плохо?
В. С:
– Мой хороший знакомый, архитектор, астролог, художник – Плужников Владимир Иванович, как-то, просматривая отснятый в экспедициях рабочий видеоматериал, где поллица у меня покрыто коркой болячек, где нет ни одного сантиметра тела свободного от укусов насекомых, а лимфоузлы увеличены до размера сливы, где я выковыриваю из-под кожи личинки насекомых и зашиваю на себе глубокую рану в, мягко говоря, антисанитарных условиях, искренне воскликнул: «Виталий, как хорошо, что все это снято на пленку! Это отбивает детскую зависть к твоим путешествиям».
Экстремальные экспедиции – это тяжелейший труд. Как, впрочем, и труд каскадеров, спасателей, пожарных, бойцов спецподразделений, словом, людей, чья полная мужественной романтики работа насквозь пропитана несоизмеримым с моим случаем риском и отвагой.
А те красивые кадры, которые становятся достоянием широкой публики: анаконда, которую я душу в речной протоке, извивающийся у меня в руках пойманный крокодил и т. п. – это просто экзотика. Но есть вещи, ну уж никак не привлекательные внешне, но гораздо более опасные: например, три миллиона людей на планете ежегодно умирают от малярии. Я уже четырежды ею болел, почти после каждой продолжительной тропической экспедиции. Я давно сбился со счета, начав однажды считать свои травмы и переломы. Дважды я был «гостем» реаниматологов, и уже даже полежал под ножом у известных нейрохирургов.
И потом, я не был ни только на Канарах или Сейшелах, но даже в Анталии. Я не видел Швейцарии и Сингапура, не отдыхал в морском круизе, не покупал авиабилетов первого класса, и совсем не потому что мне этого не хочется.
Из дневника А. Пигафетта (спутника Магеллана):
«Три месяца и двадцать дней мы были совершенно лишены свежей пищи. Мы питались сухарями, но то уже были не сухари, а сухарная пыль, смешанная с червями. Она сильно воняла крысиной мочой. Мы пили желтую воду, которая гнила уже много дней. Мы ели также воловью кожу, покрывавшую грот грей, чтобы ванты не перетирались. Мы замачивали ее в морской воде в продолжение четырех-пяти дней, после чего клали на несколько минут на горячие уголья и съедали ее. Мы часто питались и древесными опилками. Крысы продавались по полдуката за штуку, но и за такую цену их невозможно было достать.
Я не люблю
[по мотивам Владимира Высоцкого]

Я не могу, я не люблю, я не умею и не сумею, потому что не хочу нагнуться к слабому, чтоб потрепать за щеку, а встав на цыпочки, сказать, что я лечу.
И потерпеть, когда терпеть противно, и помолчать, когда молчать нельзя, советовать, когда никто не просит, и не прийти, когда зовут друзья. И бормотать, и лепетать, и в грудь помпезно ударять, и лебезить, и хлопотать, и «подкрадаться». И подтирать, и подпирать, и подавать, и подгонять, и подкупать, и подменять, и поддаваться.
Меня всю жизнь от этих «под» бросает в дрожь, кидает в пот и заставляет, что ни год, считать потери. От них беда и суета, и затхлый запах изо рта. Плодят их «живчики» и сонные тетери.
На пьянке петь – не подпевать. С друзьями быть – не отбывать. За дело бить – не подбивать и ухмыляться. На свете жить – не поживать. А в стае выть – не подвывать. От жизни брать – не подбирать и умиляться.
Я не люблю упрямых и надменных, обидчивых, трусливых и скупых. Не понимаю слово «непременно», и там, где точки вместо запятых.
Я не могу для дела пить, стенать, ушами шевелить и взятки брать или давать, что равнозначно.
Дым в небо кольцами пускать, копить, копаться, распускать, подозревать и ревновать, и распинаться.
Я не люблю себя, когда болею, когда из вежливости слушать не умею, когда вздыхаю чаще, чем дышу. А главное, что маме не пишу.
Когда я дело до конца не довожу и от услуги отказаться не спешу. Достойных слов, когда в ответ не нахожу. Но главное, что маме не пишу.
Зато умею я прощать, зато умею я молчать, зато умею отвечать глаза не пряча. Зато умею я любить, стремясь самим собою быть. Не знаю только это дурь или удача?
1983 г.
Подводный поиск ведёт «Садко»
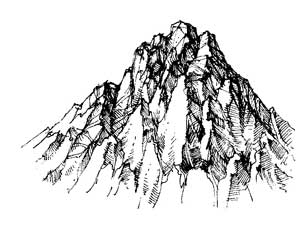
Флагман Дунайской флотилии монитор «Ударный» вступил в бой в первые дни гитлеровского нападения и отважно сражался до своего последнего боя 20 сентября 1941 года.
Наш баркас устало перекатывается по черноморским волнам. Третьи сутки длится поиск затонувшего судна. С утра и до захода солнца тралился участок за участком. Ежечасно выбираются растянутые между баркасом и ялом якоря и, очищенные от водорослей, вновь опускаются в море. Уставшие и огорченные возвращаемся мы в наш палаточный лагерь, над которым развивается вымпел с названием экспедиции «Ударный-82».
Из военной хроники:
«8 августа 1941 года. Южный Буг. Монитор «Ударный» и три бронекатера вели огонь по скоплению немецких войск и техники у Вознесенска. Артиллерия монитора взорвала эшелон с боеприпасами и разрушила понтонный и железнодорожный мосты».
8 августа 1982 года. День поиска. На борту нашего судна помимо членов экспедиции находится согласившийся нам помочь рыбак из села Прогнои.
Сидя на баке, с волнением поглядываем на заходящее солнце и с нетерпением – на готовые к работе акваланги и водолазное снаряжение. Утомительно долгой кажется каждая минута. До рези в глазах всматриваемся в воду, наивно надеясь увидеть темное пятно над погибшим кораблем. Но море зеркально отражает лучи заходящего солнца, и, кроме ярких бликов и плавающих на поверхности медуз, ничего.
Медленно движется судно по очередному радиусу, мелко дрожит закрепленный с кормы, круто уходящий под воду трал. И вдруг, долгожданный толчок. Зацеп. Стоп машинам! Наступившую тишину нарушил громкий возглас: «Есть!»
Из экспедиционного журнала:
«8.08.1982 в 20.10 вышли на монитор «Ударный»
Из военной хроники:
20 сентября 1941 года. Экипаж «Ударного» получил приказ выбить немцев из села Ивановки с тем, чтобы дать возможность советским стрелковым частям отойти к Тендровской косе. «Ударный» успешно вел огонь по бронетехнике противника. Несколько танков командоры «Ударного» подожгли, остальные вынуждены были уйти из Ивановки. Во время боя над заливом появились вражеские пикирующие бомбардировщики и остервенело набросились на судно. Зенитчики корабля одну за другой отбивали воздушные атаки.
Шесть часов длился бой команды «Ударного» со сменявшими друг друга «стервятниками». Один «юнкере», перечеркивая черной полосой дыма чужое для него серое небо, рухнул в море. Второй врезался в берег. Третий упал рядом с горящим кораблем.
Моряки «Ударного», одновременно борясь за живучесть корабля, продолжали неравный бой. Одна из бомб угодила в корму, разрушив орудие, вторая упала рядом. От прямого попадания бомбы в правом борту корабля образовалась пробоина. Судно накренилось и через несколько минут ушло под воду.
Из дневника Виталия Сундакова:
«Не без объяснимого волнения защелкиваю бросовый ремень акваланга и навешиваю снаряжение. Последнее мгновение перед погружением. Напарник в знак готовности поднимает руку. Готов и я. Готов к погружению, готов к соприкосновению с подвигом.
Впервые после многочасового шума работающего двигателя, нас обволакивает оглушающая тишина, ритмично нарушаемая лишь вырывающимся из легочного автомата воздухом. У самого грунта обжигает холодный слой воды. Проплываем над отдельно лежащей на боку ходовой рубкой, сквозь рваные пробоины которой виден искореженный взрывом и временем штурвал. Через несколько метров различаю размытые контуры рыже-черного нагромождения металла, с каждым метром принимающего определенные формы. Подплываем к кораблю с правого борта, и он вырисовывается бурой громадой неожиданно и величественно.
Выходим на поверхность и устанавливаем оранжевые буи на стальных тросах, чтобы впредь выходить на точку поиска точно и быстро.
В лагере нас встречают вопросом: «Нашли?» Я молча подаю ребятам гильзу от снаряда с выбитыми на ее торцевой части цифрами, среди которых цифра «40», обозначавшая год выпуска. Это ответ на вопрос.
Работа продолжается. Уходят под воду ветераны клуба «Садко»: Владимир Туровский, Валентина Мельникова, Владимир Шкуратовский. Сказывается опыт, и на борту яла появляются первые реликвии. Проходят дни, но все также вновь и вновь погружаются, сменяя друг друга и возвращаясь на поверхность с экспонатами, «двойки» аквалангистов. Снимаются замеры судна. Самый юный член клуба Костя Михайленко прямо под водой наносит их карандашом на пластик. Идут в первый раз на «Ударный» молодые «Садковцы»: Олег Тищенко, Вася Воронецкий, Пашка Мишарин, – и не безрезультатно. Олег выносит на поверхность пулеметный ствол, второй, поднятый в этой экспедиции. Но экспонаты для музеев Севастополя и Очакова, Николаева и Одессы не главное из того, что находят эти парни на глубине. Самое главное не выставишь на музейный стеллаж, не объяснишь дотошному журналисту, ни выскажешь даже самому себе. Это другой уровень погружения и иная глубина, из которой уже не подняться на «мутный уровень поверхности».
Не было случая, чтобы после погружения кто-нибудь из «Садковцев» улыбнулся или сказал: «Как здорово!» или «Как красиво!», – как это бывает после первых знакомств с подводным миром. И, глядя на ребят, веришь и знаешь, что погружение в глубинку к погибшему кораблю для них – лучший гражданский урок из всех, так называемых, «уроков мужества». Урок, который невозможно не усвоить или забыть со временем.
Теперь я знаю…
«Чем тише, тем…» – твердил ты всем,
услужлив и послушен.
Ты не был нужен сразу всем и никому
не нужен.
Тебя встречали без цветов, без грусти
провожали.
Иначе, чем – «А, это ты». – тебя
не величали.
И от стыда ты не сгорал, от страха не был
бледен. Богат ты не был никогда,
но не был ты и беден.
Тебя в жару не била дрожь, пурга
не обжигала.
Тебя девчонка не ждала и даже не бросала.
Ни в ПТУ, ни в МГУ тебя не обучали.
И ни на пост, и ни на «стрём» тебя
не назначали.
Тебя не портили ножом и по глазам не били.
Не проклинали за любовь и не боготворили.
Коня в галоп не посылал ты по земле
весенней.
И акваланг не выдавал тебе глоток
последний.
Ты пота с кровью не мешал и с жизнью
не прощался.
Не просыпался стариком и в детях
не рождался.
И спирт из кружки ты не пил, стуча
о край зубами.
Одежд казенных не носил, во снах летая
к маме.
Шторм не протягивал к тебе холодные
ладони,
Когда корабль замирал в торжественном
поклоне.
И ты друзьям всю ночь не пел, смел
не был в одиночку.
Ты не тонул и не горел, не написал ни
строчки.
Ведь ты не жил, а поживал, не ждал,
а дожидался.
И ты не дрался за любовь, а только
поддавался.
Я все сказал и замолчал, а он спросил ехидно:
– А для чего же ТЫ так жил?
В чем смысл, мне не видно?
Теперь я знаю, это всё мне послано судьбой.
Чтоб был достоин я её, богини неземной.
Из всех сокровищ в мире мне нужна одна она.
– Стоп, – он сказал, – ты опоздал:
она моя жена.
Путешествие в прошлое
В юности путешествия служат пополнению образования, в зрелых годах – пополнению опыта. Не странно ли, что в морских плаваниях, где нечего видеть кроме неба и воды, люди ведут журнал, а в путешествиях сухопутных, где столь многое можно наблюдать, они большей частью пренебрегают этим обычаем, словно случайность – более достойный предмет для пера, нежели наблюдения. Итак, пусть наш путешественник ведет журнал.
Ф. Бэкон
Из дневника Виталия Сундакова:
«Я – первый иноземец, который ступил на эту землю, который смотрит на эти искусно раскрашенные внимательные лица, слышит эти возгласы удивления и ликования, наблюдает стремительно меняющуюся, как погоду в их доме-джунглях, реакцию индейцев на любое новое действие пришельца, вызывающие у них недоверие и любопытство, ужас, восторги и разочарование.
Реальность и фантазия в моем сознании, как два воина, оставшиеся в живых среди многочисленных врагов, плечом к плечу отчаянно борются за право на существование. Безысходность факта словно приумножает их силы, а слабая надежда на вторую жизнь, если они выйдут из этой схватки победителями, заставляет их не защищаться, а нападать.
Эти люди не знают, что они живут на одном из материков, который назван кем-то не из их племени, и почему-то Южной Америкой. Что их земля принадлежит Венесуэле, республике, название которой нелегко выговорить на их языке. А у этой страны, а значит и у них (!), есть президент, государственный флаг, гимн, официальный язык, Конституция, палата депутатов, сенат…
Однажды я подумал: еще в недалеком прошлом в зависимости от того, на каком языке говорил путешественник, открывший ту или иную территорию, впоследствии говорили открытые им для мира целые народы, страны и даже континенты.
И вот теперь первым из чужаков ЭТИ исконные жители сельвы увидели русского. Незнакомые им доселе предметы, вещи и понятия: соль, сахар, рис, железо, стекло, пластик, механику и электронику – словом, многое из того, что они видят или слышат впервые, они, повторяя за мной, называют русскими словами. Да что там электронику – даже расческу, мыло, бумагу. Считать до десяти без помощи пальцев, писать свои имена, плавать, бороться, играть в городки и лапту и даже свистеть, вложив в рот пальцы, людей этого маленького племени учит русский. Безумная мысль, хихикая, заползала мне в мозг: пора водрузить над этим индейским шабоно российский стяг и сделать в дневнике короткую скромную запись: «Во славу России, 29 мая 1994 года, я, Виталий Сундаков, открыл Америку.» А, впрочем, почему Америку? Над названием подумаю после обеда».
Найти и понять

Ничего не взяв с собой оставляю за спиной
Мир бумаги, слов и крови – «храм»
наживы и неволи,
Искус власти, груз традиций, яд наветов,
дым амбиций,
Пир корысти, лжи и мести, скуки,
зависти и лести,
Плен вещичек и вещей – мир людишек
и людей.
Признайтесь, кто из нас в детстве не мечтал стать отважным путешественником, чтобы, однажды ступив на неизведанные земли, рассказать затем соотечественникам об открытых нами таинственных племенах, живущих в непроходимых джунглях, и о своих удивительных, полных романтики и риска приключениях. Родись я много раньше, фантазировал я, будучи десятилетним мальчишкой, непременно стал бы одним из членов экспедиции отважной команды Кука или Гонзальво, Лаперуза или Гама, Колумба, Магеллана или Беринга.
С фонариком, заменявшим мне машину времени, отгородившись с головой от домочадцев тяжелым одеялом и стараясь не шуршать потрепанными страницами любимых книг, я вместе с литературными героями Жюля Верна и Фенимора Купера, Джека Лондона и Стивенсона совершал подвиги и спасал прекрасных дам, мчался по прериям и продирался сквозь джунгли, преодолевал знойные пустыни и обжигающие стужей бескрайние просторы Севера. Я погружался и на морское дно, где в тиши глубин покоятся корпуса некогда величественных и грозных кораблей, трюмы которых знали мадрасские пряности, ланкийские изумруды, алмазы Великих Моголов, серебро новосветских рудников и стоны невольников.
Гораздо позже учащение пульса, например, при перелистывании страниц зарубежных географических журналов или при просмотре кадров экспедиций легендарного Жака-Ива Кусто, убедило меня в мечте стать профессиональным путешественником и исследователем. Заразительный ветер странствий вдохнул в меня решимость расписать свою жизнь на главы научно-приключенческого романа и газетные строчки в рубриках «Приключения» и «Путешествия».
Но даже в то время мне еще трудно было поверить, что уже спустя десяток лет всему этому будет тесно и в моей жизни. Подводные экспедиции по поиску боевых кораблей, погибших в годы войны, полные приключений путешествия по Камчатке и Дальнему Востоку, жизнь в седле и в матросском кубрике, в казахской юрте и чукотской яранге, сюрпризы аномальных зон и руины древних цивилизаций, – лишь утончали мой вкус к приключениям. Мои проекты, возбуждая фантазию, вновь и вновь реально зашвыривали меня то в таинственное прошлое, то в загадочное будущее. Всякий раз, отправляясь за очередным ответом в путешествие во времени, я возвращался из экспедиции с ворохом новых вопросов, и стыд невежества усаживал меня за старинные фолианты и современные тексты научных исследований по истории, теософии, уфологии, этнографии.
Самое интересное – новые встречи, самое дорогое – старые друзья. Все люди, которых я встречал: добрые и коварные, ничтожно-великие и величественно-безвестные, исполняющие в постановке моей жизни роли друзей, врагов и прохожих; люди, удивительные уже в своем различии, живущие по разным законам и обходящиеся без них, носящие разные одежды и не нуждающиеся в них вовсе, с разным разрезом глаз и цветом кожи, моралью и мировоззрением, – осознанно или нечаянно были моими мудрыми учителями. Горячие пустыни и дремучие джунгли, величественные просторы океанов и бескрайние степи, звенящая тундра, холодное коварство гор и липкое безмолвие пещер вселяли веру в свои возможности и становились на пути к новым знаниям взыскательными экзаменаторами.
Восточные маршруты и северные экспедиции, авантюрное проникновение в Западную Европу и официальное приглашение в Северную Америку, разорвали горизонты ощущения пространства нашего мира мною, убедив в его безграничности и вечности. В то же время «эмпирические» открытия парадоксально огорчили меня разрушительной стремительностью течения жизни и ограниченностью незахламленных и незамутненных оазисов самобытной культуры народов, населяющих маленькую планету Земля. Потрясающим открытием для меня оказался факт иного видения планетарной истории и культуры. Все доселе известное мне о других народах и странах оказалось совершенно иным, не имеющим ничего общего с тем, о чем рассказывали нам многие люди, тексты и карты, претендующие на исключительную компетентность и авторитет.
Найти, попытаться максимально точно понять и сделать всеобщим достоянием отшлифованные временем и испытанные суровой средой уникальные технологии и приемы врачевания, народные ремёсла, оккультные отправления, организации промысла и быта. Изучение условий формирования жизненного уклада и культуры стало главной целью моих экспедиций. Но где все это можно обнаружить в девственном состоянии? Лишь там, куда не проникло разрушительное влияние нашей «инвалидной» цивилизации.
Язычество – вот едва ли не единственный пласт безо лжи, паутины и псевдонаучных домыслов, сохраняющий без искажений колыбельный, обобщенный эмпирический опыт человечества. Язычество, где каждое движение ритуала глубоко символично. Где каждый стежок одежды, форма оружия и малейшая деталь снаряжения буквально пропитаны, продиктованы исключительной целесообразностью и утилитарностью. Где неукоснительное следование традиции – не интеллектуально-мистические «навороты», не влияние капризов моды и уж тем более не национальный патриотизм носителей культуры, а жёсткое, единственное условие выживания вида и его космогонии.
Где сохранилось в той или иной форме язычество? Лишь там, где суровые климатогеографические условия заставляют людей жить в гармонии с природой и неукоснительно следовать законам, выверенным в веках жизнями их предков. И законы эти принимаются не большинством голосов отдельных особей, а подчинены приказам бессменного, неподкупного, триединого верховного диктатора, имя которого: «очевидность, целесообразность, реальность».
Теоретическое изучение жизни славянских племен и практическое – северных народов, давало богатый материал. Но как восполнить зияющие пробелы знания о жизни экваториальных племен или, например, тех же американских индейцев?
Поездка в Канаду развеяла наивные иллюзии по поводу возможности увидеть традиционную жизнь североамериканских индейцев: ирокезы в джинсах, Ниагарский водопад в кольце асфальта и сувенирных магазинов, пятна нефтепродуктов на поверхности Великих озёр.
Нет, только там, куда не попасть, имея лишь желание и деньги, можно надеяться найти искомое. Там, где роль неподкупных пограничников возложена Всевышним на стужу и зной, неприступные скалы и непроходимые джунгли. Там, где живут viri a diis recentes – «люди, только что вышедшие из рук богов». Одним из таких мест на южно-американском континенте оставалась Амазония, а главное живущие там, в глубине джунглей, в естественной изоляции от цивилизованного мира, отдельные племена индейцев яномами.







