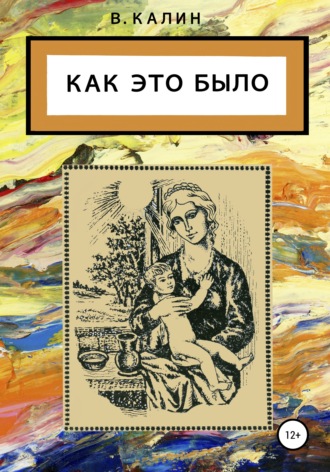
Виталий Калин
Как это было
Но были у нас ещё два союзника, о которых можно упомянуть с чувством признательности. Это Иран, с которым у нас во время войны были надежные дружеские отношения. Всю войну в этой стране находились наши зенитные и воинские части, защищающие Баку с юга от вражеских налетов, мы бесперебойно получали от них продовольствие и горючее, так необходимое стране и армии.
И ещё нашим верным союзником была Монголия, поставлявшая нам меха, полушубки, техническое сырьё, продовольствие и, пожалуй, единственная страна, которая предоставила Красной Армии воинские части, участвующие в боевых действиях на наших фронтах.
На нашей стороне воевало много иностранных военных, таких, как фельдмаршал Паулюс со своими некоторыми штабными офицерами, польская Армия Людова, сформированная с участием Польской рабочей партии, которая поддерживала идеи коммунизма, эскадрилья «Нормандия-Неман», испанские республиканцы, немецкие и итальянские антифашисты и многие другие враги Гитлера. Все эти воинские части, по сути – добровольцы, формировались под нашим руководством, экипировались и находились на нашем довольствии.
Помощь же от Монголии осуществлялась на государственном уровне, и это хороший пример дружеских отношений и истинное благородство: помнят монгольские боевые друзья маршала Жукова и совместный разгром японских самураев на Халхин-Голе. Да и японцы хорошо запомнили этот урок и, как их Гитлер ни призывал, так и не решились вступить в войну против СССР.
Все эти договоры, пакты, меморандумы, перемещения армий, военные действия породили такую смуту во многих европейских странах, что человеческое общество, как потревоженный пчелиный улей, закрутилось, заметалось в поисках утерянного благополучия и спокойствия.
Если в нашей стране в 1941 году огромные массы людей стремились и двигались на восток, то сейчас, в 1944 году началось обратное передвижение людей к своим утерянным домам, в поисках своих близких, родных. И я, жалкая, несмышленая пылинка в этом круговороте, наблюдал проходившие передо мной судьбы разных людей, некоторые из них на всю жизнь оставили в моей душе воспоминания об этой поездке.
Немного отвлекся я на этот небольшой экскурс в историю зарождения и распространения Второй мировой войны, которая для нашей страны стала Великой Отечественной. Пора нам вернуться к Павлу – помнится, мы оставили его воюющим в Польше. Та необычная война в Польше, о которой нам рассказывал Павел, продолжалась. Линия фронта, разделяющая советскую и германскую армии, перестала существовать, и разведвзвод, в котором служил Павел, оказался не задействован в тех событиях, которые происходили вокруг. В Польше в это время было две польские армии: Армия Людова, созданная с нашей помощью, и Армия Крайова – детище польского правительства, находившегося в Лондоне. Мягко говоря, особой симпатии они друг к другу не испытывали, часто возникали споры и конфликты. Наше командование контактировало с представителями этих обеих армий, которые своими противоречиями вносили много неразберихи в происходящее. В это же время стало формироваться Войско Польское, которое, вбирая в себя части Крайовой и Людовой армий, как бы сглаживало противоречия между ними.
Кроме того, было много потрепанных бандеровских частей, которые под ударами Красной Армии, убирались с Украины, прижимаясь и прячась за германскими войсками. Эти «херои» прославились грабежом, мародерством и большой жестокостью к мирным жителям. Существовали еще какие-то полупартизанские отряды, созданные жителями сел и местечек для защиты от грабителей.
Вот такая бурлящая масса разных интересов и потребностей оказалась на территории, фактически в безвластии, без привычных форм правления и по сути без хозяина.
Потом мы узнали, что немцы стягивали все свои войска, всю дееспособную военную технику под Вроцлав, этот важнейший узловой пункт на пути продвижения Красной Армии, преследующей врага. Фашистская пропаганда грозила нам у Вроцлава устроить «Второй Сталинград», здесь, вероятно, какая-то ошибка в переводе их замысла – ведь Сталинград им устроили мы, а не они нам. Но как бы то ни было, бои под Вроцлавом были очень жестокие, город держался больше месяца, но Красную Армию было уже не остановить.
Павел об этом тогда ничего не знал. Его и некоторых его товарищей перевели в подразделение «Смерш» и отправили в тыл служить на некой условной границе между освобожденными от оккупации областями и остальной Россией. По этой границе должны были создать несколько фильтрационных пунктов или лагерей.
Когда я познакомился с Павлом поближе, во время просмотра фотографий в нашем дворе, я не представлял, что такое фильтрационные лагеря. Мы тогда уже знали о каких-то немецких лагерях и знали, что в них находились военнопленные, и, кроме советских, там были евреи, французы, голландцы, бельгийцы – одним словом, это были люди, воевавшие с фашистами. И в нашем детском представлении, это были «наши», и если они убегают из лагерей от врага, то это хорошо – и зачем их ловить.
В таком неведении я пребывал примерно до 10-11 лет, но в дальнейшем, общаясь с Павлом, слушая беседы взрослых о войне и послевоенных событиях, картина постепенно прояснялась. Во время войны в течение нескольких лет значительная часть нашей страны была оккупирована Германией. Украина, Белоруссия, Северный Кавказ, Ростовская область находилась под властью врага. Население, находившееся там, разделилось в своих убеждениях.
Часть народа сопротивлялась захватчикам; рискуя жизнью, люди участвовали в партизанском движении, организации терактов и саботажа.
Другая же часть пошла на службу к фашистам с удовольствием, причем, делали это, на мой взгляд, повинуясь неким темным инстинктам, дремлющим до поры, до времени в глубине их сознания.
Это о них упоминает Бодлер:
Что нас толкает в путь?
Тех – ненависть к отчизне…
Еще иных – в тени…
А вероотступник священник Печорин, этот диссидент ХIX века, прямо захлебывался от восторга, признаваясь:
Как сладостно отчизну ненавидеть
И с радостью желать её уничтоженья.
Это отношение к своей стране, может быть, взращенное ненавистью к правителям, недовольством и неустроенностью своего быта, каким-то желчным взглядом на все происходящее, формирует людей без любви, без вдохновения, смысл существования которых – отрицание большинства здравых истин, накопленных человечеством за свою историю. Это, так сказать, подоплека идейных предателей, а дальше примешиваются материальные, житейские интересы, т.е. цена предательства. Эти убежденные ненавистники своей отчизны, оказавшиеся на службе у фашистов, не мыслили своего существования вне этого общества и той деятельности, которой они занимались.
Поэтому, когда немецкая армия покидала нашу землю, они старались уйти вместе с ней. Но экономные, рациональные немцы брали с собой только отъявленных и испытанных своих приспешников. Остальные, обиженные и брошенные, как отработанный шлак, были вынуждены сами заботиться о своей дальнейшей судьбе: затеряться в массе беженцев, «перекрашиваться», искать нового хозяина.
Задача Павла и подразделения Смерш была найти этих людей – пособников фашистов, выявить их из большой массы подневольных людей, которые обслуживали оккупационный режим. Это специалисты, без которых не может существовать современное общество: шоферы, писари, коммунальные службы, мелкие клерки, медицина, продовольствие, развлечения и службы пропаганды фашистской идеологии.
Павлу приходилось изучать архивы и документы, захваченные у немцев, допрашивать свидетелей. Еще ему приходилось много ездить вдоль этой символической границы, и т.к. шоссейные дороги были сильно повреждены, все передвижения осуществлялись по железной дороге.
Когда Павел рассказывал о своей службе, связанной с железной дорогой, это было мне близко и понятно. Поэтому я с особым интересом внимал рассказам Павла об этом периоде его жизни. Главное, что я узнал, было то, что в принципе все население оккупированных районов, желающее выехать за их пределы, должно было пройти некий контроль, осуществляемый в фильтрационных пунктах. Потом они превратились в фильтрационные лагеря.
С помощью этого контроля было выявлено множество предателей, пособников фашистов, а люди, которые могли доказать свою непричастность к деяниям оккупантов, долго в этих лагерях на задерживались и отпускались на свободу, но где-то в архивах госбезопасности было зафиксировано, что человек находился в такое-то время на территории, захваченной врагом, и это являлось неким пятном в твоей биографии, о котором следовало упоминать в анкете при поступлении на работу, учебу, поездке за границу. Такая практика существовала примерно до конца 70-х годов, потом о ней как-то стали забывать.
Среди авторитетных уголовников и большинства сидельцев тюрем эти лагеря назывались «сортировка-веялка» и не считались серьёзным наказанием: работать не заставляли, ну просто прошел человек проверку и всё – значит, наш человек, если не прошел, значит – враг.
Сколько просуществовали эти лагеря, я не знаю, с Павлом мы беседовали где-то в начале 50-х гг., затем жизнь становилась все интересней и изобильней – на смену военным ограничениям приходило некое материальное и продуктовое благополучие, народу снова хотелось радостей и удовольствий.
В первую половину 50-х годов Армению и Азербайджан стали активно заселять репатрианты из Сирии, Ирана, Ирака, Турции, было много слухов о том, что скоро в состав Советского Союза войдет Иранский Азербайджан. Переговоры Сталина с шахом Ирана велись об этом еще в 1943 г. на Тегеранской конференции. Но с ухудшением отношений с Америкой они как-то затихли и больше не возобновлялись.
В это время Баку стал для жизни довольно комфортным городом. Кроме беженцев из оккупированных районов СССР, население города увеличили и репатрианты из вышеперечисленных стран: армяне, курды, сирийцы, евреи из разных восточных диаспор. Они довольно быстро освоили русский язык (в Баку тогда все говорили по-русски) и активно занялись разными промыслами и ремеслами. Среди них было много портных, сапожников, врачей, музыкантов, певцов. За ними струился поток контрабандного сырья – шерсть, ткани, кожа через Карабах по горным тропам и морем по Каспию из Ирана.
Город преображался как-то на глазах, наступало время стиляг, все оделись в буклевые и твидовые пиджаки разного цвета с брюками, штаны из дорогих материалов, таких, как шевиот, бостон, чесуча, габардин, кашемир (кто сейчас слышал такие названия?). А кожаную обувь ручной работы можно было заказать со скрипом, можно – бесшумные, а белье с рубашками и плащами нам присылал братский Китай.
И вот для наступающих стиляг, преображенной после войны нарядной, красивой публики, истосковавшейся по удовольствиям мирной жизни, зазвучал джаз. В некоторых современных фильмах проскальзывала такая версия, что джаз был чуть ли не под запретом. В Баку этого не было.
В городе звучали довоенные пластинки с мелодиями «Брызги шампанского», «Рио-Рита», «Кукарача», а на танцевальных вечерах исполняли музыку уже не дружественной Америки «Сент-Луи блюз», Эллингтона, Хейли, танго и фокстроты вроде «Котенок на клавишах», рок-н-рол пока только подкрадывался. Эта музыка звучала из окон и на танцплощадках. Было много хороших ансамблей, и мы знали и ценили живое звучание саксофона, кларнета, контрабаса, трубы под сурдинку.
И самое главное – какой же джаз без ударника. На открытых эстрадах у моря, в парках, на школьных вечерах играли хорошие приглашенные ансамбли. И если в этих коллективах был ударник-виртуоз Ленька Лубенский, считай, слушателям сильно повезло. Какой там Ринго Стар и прочие виртуозы! Когда играл Лубенский, его барабаны, кроме зажигательной дроби, издавали совершенно разные звуки, от квакания и мяукания до какого-то завораживающего шепота и шороха. А когда он начинал своё знаменитое соло, в зале наступала мертвая тишина: один ударник, иногда перекликаясь с каким-нибудь инструментом, мог выразить своей дробью всю гамму чувств и переживаний человека.
Это все для услаждения слуха, но было ещё и зрелище: надо было видеть, как лысоватый, с чуть припухлым лицом, человек жонглирует палочками, иногда высоко подбрасывая их, стучит по ободу барабана, шуршит ими, извлекая новые звуки и – коронный номер – легонько постукивает по лысине контрабасиста. Казалось, что лысина при этом издавала гулкий, глубокий стонущий звук струны контрабаса.
В городе Лубенский был очень популярным и известным человеком, про которого ходило много сплетен и легенд. Одни завистники говорили, что у его барабанов имеются какие-то потайные струны с бурятских инструментов, другие – что все эти звуки он издает сам, не открывая рта.
Говорили, что во время войны он жил в Одессе, играл в каком-то кафе для гитлеровцев, а после войны отсидел несколько лет, и сейчас его не берут в какой-нибудь известный ансамбль, потому что он был в оккупации. А в начале 60-х годов, когда я вернулся в Баку из армии, я был на концерте Лундстрема или Утесова. И, ознакомившись с составом одного из этих оркестров, был приятно удивлен, обнаружив в ударниках Леонида Лубенского. Он стал еще более лысоват и играл как-то скучновато, без азарта, прежнего блеска, никаких прежних фокусов не вытворял; я даже подумал, а тот ли это Лубенский.
Послевоенные 50-е годы, о которых я рассказываю, были наполнены каким-то ощущением дружелюбия и любви в общении друг с другом. Это проявлялось и в доме, по отношению к соседям, больным, детям, инвалидам, и на улице, в общественном транспорте. Если кто-то неудачно падал, ломалась машина, велосипед, кого-то несправедливо обижали, сразу собирались группы из проходящих людей, которые всячески старались помочь пострадавшему, принимали горячее обсуждение в решении возникших трудностей.
Может быть, это просто южный темперамент, но скорее всего, люди, пережившие войну, острее воспринимали чужую беду, и по возможности, спешили на помощь. После нескольких послевоенных лет: тяжелых, голодных, очередями за хлебом, с уголовниками, нищими, всеми этими отголосками прошедшей войны, в нашей стране наступало некое умиротворенное спокойное состояние.
Но вокруг, на планете Земля, продолжали бушевать страсти: революции, локальные войны, незаконченный передел мира, страшная атомная угроза и прочие явные и тайные интриги человечество попыталось завершить заключением Потсдамского соглашения о послевоенном устройстве мира.
Но смута после этого не закончилась, похоже, многие остались со своими неудовлетворенными интересами и амбициями – впереди была Корейская война, в Америке начался сезон «охоты на ведьм», а война, из которой мы вышли победителями, стала превращаться в состояние, названное потом журналистами «холодной войной», да и с бандеровцами мы разбирались до середины 50-х годов и это была не смута, а настоящая война.
Но, похоже, уничтожили их не полностью, бывая в 70-е годы во Львове, Трускавце, я встречал людей, которые с ненавистью говорили мне: «Шмайсер закопан у нас у огорода, в надежной смазке, придет время, мы вам еще покажем!». Примерно с таким же отношением я сталкивался в армии.
Я часто задумывался, откуда такая ненависть к близкому по языку и менталитету русскому народу у этих «западенцев».
Может быть, эта обида у них на Петра I, который, после битвы при Полтаве, за измену этих бандеровцев вешал вдоль дорог, и на несколько верст близ Полтавы тянулись виселицы, где болтались эти изменники. Правда, тогда они назывались «мазепами». Может быть, эта обида была у них на «москалей», которые собрав деньги (пожертвования), освободили Тараса Шевченко из неволи: дали ему возможность учиться в Академии художеств, или была обида на Гоголя – этого новороссийского украинца, пишущего свои литературные произведения на русском.
Все эти подробности мы узнавали потом, а пока просто счастье: детство, переходящее в юность, плещущая через край радость бытия, плотский и духовный интерес ко всему окружающему миру. У большинства тогдашних людей была гордость за свою страну, победившую мировое зло, любовь и уважение к руководству страны, которая проявляла заботу о простом человеке.
Все эти мигранты и репатрианты, заселявшие Баку в послевоенные годы, с большим интересом и уважением знакомились с обычаями, порядками в городе, были очень довольны бесплатной медициной, платой за электричество, коммуналку, дешевые продукты. И все эти приехавшие из жарких стран были просто в восторге от качества воды, поставляемой в город самотеком по каналу из горного озера Шоллар в предгорьях Кавказа. Говорили, что этот водопровод построил еще Альфред Нобель, который очень интересуясь нефтью, ее добычей, благоустраивал город. Вода эта была чистая, прозрачная, холодная, какая-то вкусная и сладкая, особенно в жару ощущаешь, какая это радость – отведать такой воды.
За нашей улицей начинался район, называемый Арменикенд, это были 10-15 улиц одноэтажных домов с небольшими двориками, заселенный в основном армянами, к которым приезжало много родственников с Ближнего Востока, Ирана, Турции.
В этих двориках вместе с собаками паслись индюшки, а кое-где и овечки. Когда я в Чухур-Юрте познакомился с сельской жизнью, меня очень заинтересовало, где же на голом асфальте пасутся бедные овечки, но знакомые ребята, живущие там, объяснили мне, что эту живность покупают в ближайших селениях к праздникам, свадьбе, дню рождения, т.е. живут они там не долго.
В этих дворах часто звучала музыка, исполняемая на неких духовых и струнных неизвестных мне инструментах. Заходя в гости, к своим армянским однокашникам, я познакомился с этой восточной музыкой и ее исполнителями поближе.
Музыкантов обычно было трое: кларнетист, который иногда менял свой инструмент на зурну, флейтист тоже с несколькими разновидностями похожими на флейту, и барабанщик с барабаном несколько вытянутой цилиндрической формы с верёвками или шнурками по бокам, где кожа, натянутая с двух сторон под ударами ладоней музыканта, издавала разное звучание по тону. Часто они играли просто так, с остановками, обсуждениями, вроде репетиции, но в праздники эта музыка звучала целыми сутками.
Идя в школу, мимо празднующего дома, мы слышали эти мелодии и ритмы, возвращаясь из школы, нас опять провожала эта музыка, прерываемая бешеным ритмом барабана.
Я любил наблюдать за игрой этих музыкантов, обычно они играли с очень сосредоточенными и серьезными лицами, уйдя в себя, отрешенно глядя в пространство, так, как будто вокруг них никого нет. Священнодейство какое-то! Иногда один из них менял свой инструмент на другой, появлялись у них в руках и струнные инструменты. Активным был только барабанщик, он все время кивал и вертел головой, закатывал глаза, иногда он что-то бормотал или пел, время от времени вскакивал, начинал кружиться под свои ритмы, мог пару раз крутнуть и подкинуть свой барабан, поймать его и продолжая наносить удары ладонями, как-бы пожонглировать им.
Много лет спустя, бывая на концертах, наблюдая за игрой Лубенского, я подумал, не из этих ли восточных ритмов, сформировалась манера его оригинальной виртуозной игры. Может быть, это было влияние репатриантов, прибывших в Баку из восточных стран: бывая во многих домах и дворах Арменикенда, я слышал там не только армянскую, но и незнакомую мне речь.
А в нашем доме на первом этаже тоже появились новоселы. Откуда они – никто не знал, но то, что это были не иностранцы, абсолютно точно. Они сносно разговаривали на русском, а тот язык, на котором они общались друг с другом, был мне не знаком, среди соседей бытовали такие версии, что это некая маленькая народность Дагестана, другие говорили, что это горские евреи с севера Азербайджана.
Они соорудили во дворе много пристроек к маленьким комнаткам, где жили дворник и привратник, охранявший наш дом до войны.
В течение года они строились, заняв половину нашего маленького дворика, а потом стали шить шикарные буклевые кепки, да еще с последним писком тогдашней моды, каучуковым козырьком. Достоинство этих кепок состояло в том, что измятая валявшаяся долго где-то свернутая и потом одетая на голову, она восстанавливала свою первоначальную форму. Весь наш дом, в добавку к буклевым пиджакам, узким брюкам и кожаной обуви на толстенной подошве, щеголял в этих модных кепи.
Кроме того, эти новые соседи принесли в наш дом и свою музыку, которая часто звучала в нашем дворе.
Наш дом, как какая-то трехстворчатая раковина или локатор, обращённый открытой стороной к морю, впитывал все звуки большого города и усиливал их: гудки паровозов с вокзалов, звонки трамваев, а в ранние утренние часы тишины даже негромкий разговор где-то за полкилометра от нас слышен был довольно внятно. И вероятно, эти акустические особенности нашего дома необычайно усиливали звучание музыки, придавая ей временами некую гулкость, и я бы сказал помпезность – это примерно, как эхо в горах, или, когда под сводами храма звучит хор, или орган.
Слушая на четвёртом этаже эту музыку, я никогда не видел исполнителей, но сразу же заметил, что это какая-то другая музыка, отличавшаяся от той, которую я слышал в Арменикендских двориках. Кроме того, в ней мне иногда слышалось что-то неуловимо знакомое, как если бы я раньше уже где-то слышал эти тягучие, заунывные мелодии.
Почему я вдруг обратил внимание на то, что чужие мелодии, услышанные мной в возрасте 13-14 лет, показались мне знакомыми, и, заняв в мозгу какую-то крупицу моей памяти, остались там надолго? Я не напрягался, не старался что-то запомнить, просто эти звуки поселились в моей голове, похоже, независимо от моей воли. Тут я вспомнил своё открытие, которое я сделал во втором классе о том, что память – сама себе хозяйка, не подчиняющаяся мозгу, и от неё можно ожидать чего угодно. Больше я не задавал по поводу застрявшей в голове музыки никаких вопросов, но всё-таки Высший Разум некоторое время спустя, вновь напомнил мне о ней.
Вот как это было…
После летних каникул я возвратился домой из Чухур-Юрта за несколько дней до начала занятий в школе. Меня удивило некое столпотворение вокруг нашего дома: у подъезда стояло несколько машин, какой-то разукрашенный то ли фаэтон, то ли открытая карета, множество разодетых нарядных людей, всюду слышалась музыка, разговоры, хлопанье в ладоши, а со двора доносились приглушённые барабанные ритмы и звучание кларнета.
В этот день у наших соседей с первого этажа праздновалась свадьба.
В несколько ходок, пробираясь среди гостей, я доставил три большие корзины с фруктами, которые прислал дядя Жора, на четвертый этаж. Среди этих фруктов, была корзина со спелым, свежим инжиром. Завтра ко мне должны были прийти друзья-однокашники, двое из которых гостили этим летом несколько дней вместе со мной в Чухур-Юрте, и дядя Жора послал этот инжир с лучшего дерева как напоминание об их пребывании там и в благодарность за помощь, оказанную ими в уходе за нашим садом.
Я расскажу еще немного поподробней об инжире, потому что большинство жителей российской средней полосы не знают, что такое инжир. Это очень нежный капризный фрукт, не терпящий транспортировки. Оценить его вкусовые достоинства можно только сорвав его с дерева спелым. Полежав сутки, он делается еще слаще и вкуснее. А еще какое-то время спустя он делается очень мягким и мокрым. Упав на пол, он превращается в жидкую лепешку. Он бывает светло-жёлтого цвета и разных темных оттенков. В городе на рынках его продавали много, но выбрать его надо тоже умеючи; если покупать слишком спелый, можно не донести до дома – он превратится в жидкую, мокрую массу, а если выбирать зеленый, он может таким и остаться, т.к. собран недоспелым. Вот такая капризная эта фруктина …
А тот инжир, громадных размеров с каким-то фиолетовым, светло-коричневым оттенком, который продается в наших современных магазинах, ничего общего не имеет с инжиром. Скорее всего – это генномодифицированное изделие, сдобренное химическими составами, чтобы не портилось.
Я был горд, что доставил свой фруктовый груз в хорошем состоянии, и мы с мамой перебрали его, устроили и оставили до завтра. Я очень устал за этот день: сборы, погрузка, тяжелый путь по твердым каменистым дорогам, поэтому добравшись до постели, я сразу же окунулся в сладкий сон.
Те 120-130 км, которые мы проделали за 6 часов, были очень тяжелые и опасные – постоянная тряска, тело бросает в разные стороны, надо цепляться руками и ногами за все, что находится рядом. Большинство людей после такой поездки жаловались, что у них на следующий день болят все мышцы и суставы, как от тяжелой работы. На некоторых горных участках приходилось долго ждать, когда проедет встречная машина, т.к. по этой тропе (назвать ее дорогой язык не поворачивается) могла проехать только одна машина.
А для меня во сне звучала свадебная музыка, и я ехал на трясущейся машине, вцепившись в поручень передо мной и думал – почему в горах играет музыка? Машина ныряла вниз на спусках, на подъемах натужно ревел мотор, из-под колес сыпались камни, а мне глядя сверху на серпантин, который мы преодолевали, казалось, что мы не едем, а парим над этими горными ущельями. Когда мы стали преодолевать очень опасный поворот, я понял, что уже не сплю, а лежу дома в своей постели, и музыку, слышимую мной во сне, издает наш дом.
Было 4 часа утра. Свадебное веселье продолжалось… Некоторые стекла открытых окон гудели в унисон со звуками кларнета и флейты и это гудение, перекликаясь с ритмами барабана, создавала иллюзию, что я все еду и еду куда-то. Так, просыпаясь и снова окунаясь в беспокойный и тревожный сон, я провел ночь.
Я сквозь сон попытался злиться на музыкантов, которые нарушили мой покой, но полусонная дрёма не отпускала меня, и музыка, удаляясь всё дальше и дальше, стала постепенно затихать. А вот уже и усталость берёт своё – сладкий сон продолжился.
Проснувшись утром после моего приезда из Чухур-Юрта, впереди у меня был очень насыщенный и интересный день. Наладив велосипед, мы совершили с друзьями поездку вокруг города. Потом, собравшись у меня, мы обсуждали разные городские и школьные новости: через год, в 1954 г. должна состояться Всесоюзная спартакиада школьников, я – кандидат в сборную команду по баскетболу, Даньшин установил рекорд Союза среди школьников по прыжкам в длину, Мишу Григоряна оставляли на второй год, но т.к. он готовился к этой спартакиаде, его без переэкзаменовок перевели в следующий класс (кстати, потом он стал чемпионом в каком-то легчайшем весе), с этого учебного года мы будем учиться вместе с девочками и т.д. и т.п. разные интересные и приятные новости.
С работы пришла мама: мы поужинали, но никак не могли наговориться, а поздно вечером к нам заглянул Павел. Я уже упоминал, что Павел после Польши служил в составе подразделения Смерш, на линии раздела освобожденных районов нашей страны с территорией не захваченной врагом.
Недолго он прослужил в Белоруссии и на Украине, потом его перевели на кавказское направление. Эта условная граница обычно располагалась вдоль железнодорожных веток, идущих с севера страны в южные районы. Проведя в раннем возрасте какое-то время в детском доме в Каджори, Павел мог изъясняться на грузинском, армянском языках, а когда после войны его перевели в Баку, он довольно сносно овладел и азербайджанским.
Кроме того, он хорошо знал обычаи и традиции кавказских народов. Мы часто обращались к нему с просьбами объяснить то или иное событие в нашей стране, будь это очередная амнистия или оценка проявления неких национальных особенностей и традиций.
Вот и сейчас, эта, усиленная акустикой нашего дома, звучавшая вторые сутки музыка, надоела всем, – законов о соблюдении тишины тогда не было, и многие соседи интересовались: как сделать так, чтобы ночью мы могли отдохнуть.
Павел объяснил, что у большинства кавказских народов свадьба – это почти сакральное событие и тот ритуал, который присутствует на ней, должны соблюдать все присутствующие. Любое нарушение этого ритуала воспринимается как оскорбление. Сюда же относится и просьба убавить громкость музыки.
Когда же я сказал Павлу, что одна мелодия, которая изредка повторялась, кажется мне знакомой, он рассказал, что это вроде заздравной песни, славящей молодых, гостей и все живое, существующее на Земле. Ее играют обычно в начале торжества или, когда хотят выразить уважение и признательность к вновь пришедшим гостям. Она с небольшими изменениями есть у многих кавказских народов. Еще он нам сообщил, что в Дагестане живет несколько десятков народностей и у каждого своего языка и свои обычаи. Ничего себе, – подумал я: на свадьбах я не бывал, на других застольях с этой музыкой тоже: может быть, почувствовав некую особенность этой мелодии, я внушил себе, что она мне знакома? Мы с друзьями поинтересовались у Павла, откуда у него столько познаний обо всех этих обычаях и обрядах кавказцев. Павел для нас был сотрудник НКВД – фронтовик, разведчик. И вдруг он знает столько всяких этнографических подробностей.
Беседа наша растянулась надолго: Павел рассказал нам, что за полтора года службы в Смерше, он побывал почти во всех южных городах, во многих горных аулах, где часто находили склады с боеприпасами оставленные фашистами, обнаружили взлётно-посадочную полосу, на которую во время боев за Кавказ приземлялись и взлетали немецкие самолеты. После сокрушительного поражения под Сталинградом, фашисты оголтело рвались к Баку. Гитлер пытался перекрыть снабжение Красной Армии горючим, которое поступало на фронт в основном с бакинского направления, поэтому битва за Кавказ стала одной из самых жестоких и кровопролитных в истории Великой Отечественной войны. В разведгруппах, в которых участвовал Павел, было несколько анонимных профессионалов, в совершенстве владеющих не только навыками разведчика, но и многими наречиями кавказских народов и знанием их обычаев и традиций. Население с уважением относилось к людям, знающим их язык, и во многом помогало им в их работе. Благодаря информации, полученной от местных жителей, разоблачили многих предателей, завербованных немцами. На Кавказе народ гостеприимный, все на виду, никто ничего не прячет, а все события: такие – как свадьбы, рождения, юбилеи, различные национальные праздники, широко отмечаются всем миром, и Павел тоже бывал на этих торжествах. Кроме того, он десятки раз проехал по всем железным дорогам, идущим в кавказском направлении, часто передвигался на мотоцикле, дрезине и других средствах передвижения, которые были в их подразделении. Рассказывая нам об этом, Павел часто упоминал, названия станций, поселков, горных селений, расстояние между которыми он знал с точностью до километра.


