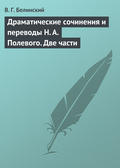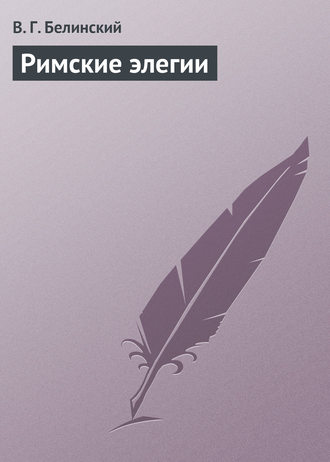
В. Г. Белинский
Римские элегии
В Лаисе нравится улыбка на устах.
Ее пленительны для сердца разговоры;
Но мне милей ее потупленные взоры
И слезы горести внезапной на очах.
Я в сумерки, вчера, одушевленный страстью,
У ног ее любви все клятвы повторял,
И с поцелуем к сладострастью
На ложе роскоши тихонько увлекал…
Я таял, и Лаиса млела…
Но вдруг уныла, побледнела, —
И слезы градом из очей!
Смущенный, я прижал ее к груди моей;
Что сделалось, скажи, что сделалось с тобою? —
Спокойся, ничего, бессмертными клянусь;
Я мыслию была встревожена одною:
Вы все обманчивы, и я – тебя страшусь…
Сколько роскоши и вакханального упоения в этом апотеозе сладострастия:
Тебе ль оплакивать утрату юных дней?
Ты в красоте не изменилась
И для любви моей
От времени еще прелестнее явилась.
Твой друг не дорожит неопытной красой,
Незрелой в таинствах любовного искусства.
Без жизни взор ее стыдливый и немой,
И робкий поцелуй без чувства.
Но ты, владычица любви,
Ты страсть вдохнешь и в мертвый камень;
И в осень дней твоих не погасает пламень,
Текущий с жизнию в крови.
Какая пластическая образность, умеряющая внутреннее клокотание страсти и просветляющая его до идеального чувства, в этой последней антологической элегии Батюшкова перевода:
Изнемогает жизнь в груди моей остылой;
Конец борению; увы, всему конец!
Киприда и Эрот, мучители сердец! —
Услышьте голос мой последний и унылой.
Я вяну и еще мучения терплю;
Полмертвый, но сгораю.
Я вяну: но еще так пламенно люблю
И без надежды умираю!
Так, жертву обхватив кругом,
На алтаре огонь бледнеет, умирает
И, вспыхнув ярче пред концом,
На пепле погасает!{38}
Пушкин, которого поэтический гений носил в себе все элементы жизни, которому доступны и родственны были все сферы духа, все моменты всемирно-исторического развития человечества, который был столько же поэт классический, сколько поэт романтический и поэт новейшего времени, – Пушкин с особенною любовию обращал свое внимание на обаятельный мир древнего искусства. Его неистощимая и многосторонняя художническая деятельность обогатила нашу литературу множеством превосходнейших произведений в антологическом роде, в которых дивная гармония его стиха сочеталась с самым роскошным пластицизмом образов: это мраморные изваяния, которые дышат музыкой… Мы не имеем нужды в больших выписках для доказательства нашей мысли: все стихотворения Пушкина известны наизусть каждому сколько-нибудь образованному человеку на всем пространстве великой Руси. Потому приведем в пример только три небольшие пьесы – и то не в оправдание нашего взгляда на их художественное достоинство, а для того, чтоб яснее и очевиднее показать, что такое антологическая поэзия и как высказывается эллинский дух в «божественной эллинской речи»{39} – как назвал ее сам Пушкин.
Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду,
На утренней заре я видел Нереиду.
Сокрытый меж дерев, едва я смел дохнуть:
Над ясной влагою полубогиня грудь
Младую, белую, как лебедь воздымала
И пену из власов струею выжимала{40}.
* * *
Чистый лоснится пол; стеклянные чаши блистают;
Все уж увенчаны гости; иной обоняет, зажмурясь,
Ладана сладостный дым; другой открывает амфору,
Запах веселый вина разливая далече; сосуды
Светлой, студеной воды, золотистые хлебы, янтарный
Мед и сыр молодой: все готово; весь убран цветами
Жертвенник. Хоры поют. Но в начале трапезы, о други,
Должно творить возлиянья, вещать благовещие речи,
Должно бессмертных молить, да сподобят нас чистой душою
Правду блюсти: ведь оно же и легче. Теперь мы приступим:
Каждый в меру свою напивайся. Беда не велика
В ночь, возвращаясь домой, на раба опираться; но слава
Гостю, который за чашей беседует мудро и тихо!{41}
* * *
Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила;
К ней на плечо преклонясь, юноша вдруг задремал.
Дева тотчас умолкла, сон его легкий лелея,
И улыбалась ему, тихие слезы лия.
Эти три пьесы могут служить высочайшим идеалом антологической поэзии. Вот перечень других: «Дориде», «Редеет облаков летучая гряда», «Дорида», «Муза», «Дионея», «Дева», «Приметы», «Земля и море», «Красавица перед зеркалом», «Ночь», «Ты вяпешь и молчишь», «Сафо», «Буря», «Ответ Ф. Т.», «Соловей», «Кобылица молодая», «Город пышный, город бедный», «Птичка», «К портрету Жуковского», «Лиле», «Именины», «Веселый пир», «Не пленяйся бранной славой», «Поедем, я готов», «Рифма», «Труд», «Каков я прежде был», «Сетование»{42}, «Художнику», «Три ключа», «LVII ода Анакреона», «Бог веселый винограда», «Мальчику», «Из Анакреона», «Добрый совет», «Счастлив, кто избран своенравно»{43}, «Подражание арабскому», «Лейла»{44}, «Последние цветы», «Лук звенит, стрела трепещет» и пр. Многим, может быть, покажется странно, что мы относим к числу антологических не только такие стихотворения, которых содержание принадлежит скорее новейшему миру, нежели древнему, но даже и подражание арабской пьесе, тогда как аравийская поэзия не имеет пичего общего с греческою. На это мы ответим, что сущность антологических стихотворений состоит не столько в содержании, сколько в форме и манере. Простота и единство мысли, способной выразиться в небольшом объеме, простодушие и возвышенность в тоне, пластичность и грация формы – вот отличительные признаки антологического стихотворения. Тут обыкновенно, в краткой речи, молниеносном и неожиданном обороте, в простых и немногосложных образах, схватывается одно из тех ощущений сердца, одна из тех картин жизни, для которых нет слова на вседневном языке человеческом и которые находят свое выражение только на языке богов в поэзии, в опровержение ложного мнения людей добрых, почтенных, но ничего не разумеющих в деле искусства, которые утверждают, в простоте ума и сердца, что слово недостаточно для мысли, как будто слово не есть явление мысли… Вот, например, антологическое стихотворение одного неизвестного, но даровитого поэта, в котором выражено обаяние сна, или, лучше сказать, усыпления, после прогулки фантастическим вечером мая: прочтите его, – и вы сами поймете лучше всяких объяснений, что поэзия есть выражение невыражаемого, разоблачение таинственного – ясный и определительный язык чувства немотствующего и теряющегося в своей неопределенности!
Когда ложится тень прозрачными клубами
На нивы спелые, покрытые скирдами,
На синие леса, на влажный злак лугов,
Когда над озером белеет столп паров,
И, в редком тростнике медлительно качаясь,
Сном чутким лебедь спит, на влаге отражаясь,
Иду я под родной, соломенный мой кров,
Раскинутый в тени акаций и дубов,
И там, с улыбкой на устах своих приветных,
В венце из ярких звезд и маков темноцветных,
И с грудью белою под черной кисеей,
Богиня мирная, являясь предо мной,
Сияньем палевым главу мне обливает
И очи тихою рукою закрывает,
И, кудри подобрав, главой склонясь ко мне,
Лобзает мне уста и очи в тишине{45}.
Что это такое? – Вздох музыки, палевый луч луны, играющий на поверхности спящего пруда, поэтическая апотеоза простого действия природы в фантастическом образе легкой феи, успокоительной царицы сна? – Что бы ни было – вы его понимаете, оно вам знакомо, вы не раз испытали его, это что-то, которому поэт дал и образ и имя… Это – ощущение, всем знакомое и всем общее в жизни. А вот и картина: вспомните Пушкина «Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила». Глубок смысл этой прелестной картины: она – одно из обычных явлений молодой любви, она выражает общий характер любящего женского сердца, которое изливается в упреках и ненависти от полноты оскорбленной любви, и – все от той же любви – сторожа покой милого ему оскорбителя, изливается тихими слезами, готовыми уступить место и тихой радости и бурным восторгам…