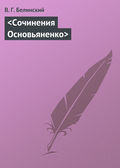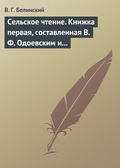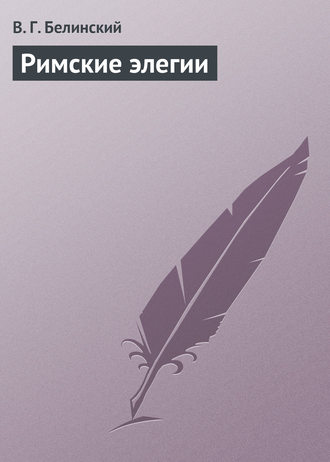
В. Г. Белинский
Римские элегии
Подобно антологическим стихотворениям древних, каждая элегия Гете схватывает какое-нибудь мимолетное ощущение, идею, случай и замыкает их в образ, полный грации, пленяющий неожиданным, остроумным и в то же время простодушным оборотом мысли. Вот два примера:
Друг, когда говоришь, что в детстве ты людям не нравилась,
Или что мать не любила тебя, что тихо, одна
Ты вырастала и поздно сама развилася, – охотно
Верю тебе; приятно, сладко подумать, что ты
Малым ребенком еще от других отличалась. Подруга!
Участь твоя, что цветок виноградный: чужды ему
Нежные формы и яркие краски; но грозды созрели —
Боги и люди мгновенно ими венчают себя{27}.
В III-ей элегии вот как оправдывает он поспешность, с которою предалась ему его милая;
Друг, не кайся ты в том, что мне предалася так скоро;
Верь мне, не дерзко, не низко думаю я о тебе:
Стрелы Эрота бывают различного свойства: иные
Действуют медленным ядом; тяжко и долго от них
Ноют сердечные язвы; другие – в мгновение ока,
Быстро парящею силой кровь обращают в огонь:
Некогда, в век героизма, когда еще боги любили,
Взгляду следило желанье, желанью восторги – и, друг!
Думаешь, долго богиня любви размышляла, случайно
В роще увидев Анхиза! И только замедли луна
В ночь разбудить поцелуем Юпитера дивного сына,
Верь мне, мгновенно б Аврора в объятья его приняла.
Геро, взглянув на Леандра, смутилась, и страстный любовник
В ночь, по волнам Геллеспонта, уже на свидание плыл.
Сильвия Рея едва показалась на береге Тибра,
Тотчас воинственный бог страстью ее оковал;
Грудью одною вспоила волчица великого Рима
Родоначальников славных, Марсовых двух сыновей!
«Римские элегии» Гете явно есть то, что у нас в прошлом веке называлось легкою поэзиею, а теперь получило название антологической поэзии. Название это произошло от сборника мелких произведений греческой поэзии, или эпиграмм. Вот как характеризует Батюшков древнюю эпиграмму:
Мы называем эпиграммою краткие стихи сатирического содержания, кончающиеся острым словом, укоризною или шуткою. Древние давали сему слову другое значение. У них каждая небольшая пиеса, размером элегическим писанная (то есть гекзаметром и пентаметром), называлась эпиграммою. Ей все служит предметом: она то поучает, то шутит и почти всегда дышит любовию. Часто она не что иное, как мгновенная мысль или быстрое чувство, рожденное красотами природы или памятниками художества. Иногда греческая эпиграмма полна и совершенна; иногда небрежна и не кончена – как звук, вдали исчезающий. Она почти никогда не заключается разительною, острою мыслию, и чем древнее, тем проще. Этот род поэзии украшал и пиры и гробницы. – Напоминая о ничтожности мимоидущей жизни, эпиграмма твердила: «Смертный, лови миг улетающий!», резвилась с Лаисою и, улыбаясь кротко и незлобно, слегка уязвляла невежество и глупость. Истинный Протей, она принимает все виды; и когда мы к ее пленительной живости прибавим неизъяснимую прелесть совершеннейшего языка в мире, языка, обработанного превосходнейшими писателями; тогда только можем иметь понятие ясное и точное, с каким восхищением, с какою радостию любитель древности перечитывает греческую антологию[6]{28}.
Очевидно, что под антологическими стихотворениями древних должно разуметь то, что мы называем мелкими лирическими пьесами. Поэзия древних во всех родах – и в лирике и в драме, отличается эпическим характером; гимны Гезиода, оды Пиндара похожи на эпические поэмы даже по своему объему: почти все они очень велики для лирических пьес. Следовательно, эпиграммы древних соответствуют тому, что мы называем песнию, элегиею, сонетом, канцоною, стансами, надписями, эпитафиями и т. п. Оды Анакреона и Сафо – тоже эпиграммы. Отличительный характер эпиграммы – краткость, единство ощущения или мысли, спокойствие, наивность выражения, пластицизм и мраморная рельефность формы. Вот три образца таких эпиграмм, художественно переведенных пластическим Батюшковым:
IV
Явор к прохожему
Смотрите, виноград кругом меня как вьется!
Как любит мой полуистлевший пень!
Я некогда давал ему отрадну тень;
Завял: но виноград со мной не расстается.
Зевеса умоли,
Прохожий, если ты для дружества способен,
Чтоб друг твой моему был некогда подобен
И пепел твой любил, оставшись на земли.
III
Свершилось: Никагор и пламенный Эрот
За чашей Вакховой Аглаю победили…
О радость! здесь они сей пояс разрешили,
Стыдливости девической оплот.
Вы видите: кругом рассеяны небрежно
Одежды пышные надменной красоты;
Покровы легкие из дымки белоснежной,
И обувь стройная, и свежие цветы:
Здесь все развалины роскошного убора,
Свидетели любви и счастья Никагора!
VII
Сокроем навсегда от зависти людей
Восторги пылкие и страсти упоенья;
Как сладок поцелуй в безмолвии ночей,
Как сладко тайное любови наслажденье!{29}
Новейшие поэты европейских литератур давно уже обратили свое внимание на греческую антологию и то переводили из нее, то писали сами в ее духе, – в обоих случаях соперничествуя с классическим гением древности. Этим они внесли новый элемент в поэзию своего языка – элемент пластический, и им возвысили ее: ибо идеал новейшей поэзии – классический пластицизм формы при романтической эфирности, летучести и богатстве философского содержания. Гете, поэт пластический по натуре своей, еще более усвоил себе эту пластическую форму через знакомство с древними. Пламенный, энергический Шиллер, поэт по преимуществу романтический, любил отдыхать и забываться душою в светлом мире греческой жизни. Он так поэтически оплакал падение прекрасных богов Греции;{30} он так поэтически воспел в «Четырех веках» золотой век Сатурна! Много вынес он из древнего мира светлых и дивных явлений. Правда, он в греческое содержание внес какой-то оттенок новейшего миросозерцания; но это еще более возвышает цену его произведений в древнем роде. Мы уже упоминали о «Торжестве победителей» и «Жалобах Цереры», так прекрасно переданных по-русски нашим Жуковским; но есть у него много пьес и в чисто антологическом роде.
По сродству с классическим гением древности, итальянские поэты должны часто напоминать древних вообще, а следовательно, и их антологическую поэзию. Вот в этом роде пьеса Тасса, вольно переведенная Батюшковым:
Девица юная подобна розе нежной,
Взлелеянной весной под сению надежной:
Ни стадо алчное, ни взоры пастухов
Не знают тайного сокровища лугов;
Но ветер сладостный, но рощи благовонны,
Земля и небеса прекрасной благосклонны{31}.
Хотя гений французского языка и французской литературы, отличающихся характером какого-то прозаизма, и диаметрально противоположен гению языка и поэзии греческой, – однако ж и у французов есть поэт, которого муза родственна музе древних и которого многие пьесы напоминают древние антологические стихотворения. Мы говорим об Андрее Шенье, которого наш Пушкин так много любил, что и переводил из него, и подражал ему, и даже создал поэтическую апофеозу всей его славной жизни и славной смерти. Вот две пьесы Андрея Шенье, из которых первая переведена Пушкиным, а вторая Козловым: