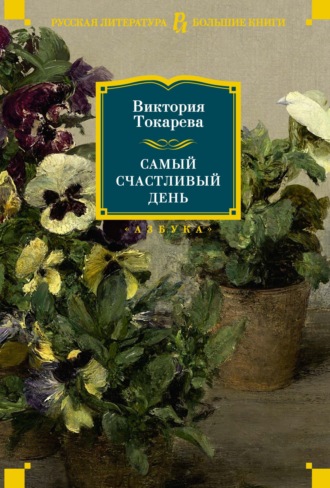
Виктория Токарева
Самый счастливый день
Нина ждала, что я отвечу, но я молчал.
– И вообще ты врешь, будто переводишь по вечерам, – грустно сказала она. – Где твои переводы? Хоть бы раз показал…
– Нет никаких переводов. Я по вечерам к Леньке хожу, а иногда в ресторан.
– Я серьезно говорю. – Нина подошла ко мне. – Ты куда-то уходишь, я… ну, в общем, правда, покажи мне свои переводы.
– Да нет никаких переводов, – сказал я серьезно. – Я к Леньке хожу, а тебя не беру, ты мне и так за пять лет надоела. Там другие девушки есть.
Нина засмеялась, села возле меня, и я почувствовал вдруг, что соскучился. Мне даже невероятным показалось, что когда-то я обнимал ее. Нина быстро оглянулась на дверь. Я прижал ее к себе, услышал дыхание на своей шее, подумал – правда.
– Дурак, вот ты кто.
Эту фразу Нина не планировала, и это была ее первая умная фраза. День еще не кончился, и если мне повезет, то я услышу вторую.
В шесть часов пришел отец, и все сели за стол. В последнее время каждый раз, когда я прихожу, меня усаживают обедать.
Разливая суп, Нинина мама переводила глаза с меня на Нину, с Нины – на меня. Ей хотелось понять по нашим лицам, помирились мы или нет.
– Разольешь, – предупредил отец. Он сидел за столом в пижамных штанах, хотя жена каждый раз говорила ему, что это не «комильфо».
Нинина мама так ничего и не поняла по нашим лицам. Пребывать в неизвестности она больше не могла, поэтому спросила:
– Ну как?
Нина покраснела.
– Мама!
– Ну как суп, я спрашиваю. Валя, как вам суп?
Суп был нельзя сказать чтобы вкусный, но лучше, чем те, которые я ем в школе.
– Ничего, – сказал я.
Нинина мама посмотрела на меня с удивлением, потому что только последний хам может есть и хаять то, что ему дают. Бывают такие положения, в которых говорить правду неприличнее, чем врать. Но сегодня надо мной висела радуга.
– Очень вкусный, мамочка, – быстро сказала Нина.
Это была ее следующая умная фраза. Если так пойдет дело, то сегодня Нина побьет рекорд.
– Валя, вы читали в «Правде», как орлы напали на самолет? – спросил отец.
Вряд ли он спросил это из соображений такта. Просто знал, что следующий вопрос о супе жена предложит ему, за двадцать пять лет совместной жизни он выучил на память все ее вопросы и ответы.
– Читал, – сказал я.
– Что, что такое? – заинтересовалась Нина.
– Летел пассажирский самолет где-то в горах, кажется. А навстречу ему три орла. Один орел разогнался – и прямо на самолет.
– Идиот! – сказала Нинина мама.
– Ну, ну… – Нина нетерпеливо заерзала на стуле.
– Ну и упал камнем с проломленной грудью, а те два улетели, – закончил отец.
– Надо думать, – заметила Нинина мама, которая тоже улетела бы, будь она на месте тех двух орлов. – Только последний дурак бросится грудью на самолет.
– Это хорошо или плохо? – Нина посмотрела на меня.
– Для орла плохо, – сказал я.
– Ничего ты не понимаешь… – Нина стала глядеть куда-то сквозь стену, как Павлов сквозь меня, а я задумался: действительно, хорошо это или плохо? Мог бы я броситься грудью на самолет или улетел, как те два орла?..
– Представляешь, – медленно проговорила Нина, – наверное, он решил, что это птица.
Она глядела сквозь стену; в руках забытый кусочек хлеба, лицо растроганное и вдохновенное, глаза светло-зеленые, чистые, будто промытые. Если бы знать, что она может поехать за сайгаками, я согласился бы просидеть в этой комнате всю жизнь и никуда не ездить. Согласился бы каждый день общаться с ее мамой, каждый день встречать в школе Сандю – только бы знать, что Нина может поехать.
Все думали о своем и молчали, кроме Нининой мамы. Она, очевидно, думала о том, сделаю я сегодня предложение или нет, а вслух рассказывала про соседа, который ушел от жены к другой женщине, несмотря на ребенка, язву желудка и маленькую зарплату.
Фамилия этого человека начиналась с буквы «А», звонить ему надо было один раз, поэтому в лицо я его не видел. А жену видел и на месте соседа тоже не посмотрел бы на язву желудка и на маленькую зарплату.
– Прожить десять лет… как вам это нравится?! – возмущалась Нинина мама.
– Мне нравится, – сказал я. – На месте вашего соседа я бы раньше ушел.
Нина засмеялась.
– А как же, по-вашему, ребенок? – поинтересовалась мама.
Отец улыбнулся в тарелку.
– Уходят от жены, а не от ребенка.
Нина снова засмеялась, хотя я ничего смешного не сказал.
– Но ведь существуют… – Нинина мама стала искать подходящие слова. Мне показалось, я даже услышал, как заскрипели ее мозги.
– Нормы, – подсказал отец.
– Нормы, – откликнулась Нинина мама и испуганно посмотрела на меня.
Я должен был бы сказать, что, конечно, существуют нормы и долг порядочной женщины строго их соблюсти. Но я сказал:
– Какие там нормы, если их друг от друга тошнит?
Отец хотел что-то сказать, но тут он подавился и закашлялся.
Жена хотела заметить ему, что это не «комильфо», но только махнула рукой и быстро проговорила:
– Дядя Боря звал в воскресенье на обед. Пойдем?
Значит, меня собираются представить будущим родственникам.
– А сегодня вас дядя не звал? – спросил я.
– При чем тут сегодня? – не понял отец.
– Ни при чем. Просто я жду, может, вы уйдете…
Нина бросила вилку и захохотала, а Нинина мама сказала:
– Вечно эти молодые выдрючиваются.
«Выдрючиваться» в переводе на русский язык обозначает «оригинальничать, стараться произвести впечатление».
Странно, сегодня я целый день только и старался быть таким, какой есть, а меня никто не принял всерьез. Контролерша подумала, что я ее разыгрываю, Вера Петровна – что кокетничаю, старик решил, что я обижаюсь, Нина уверена, что я острю, а Нинина мама – что «выдрючиваюсь».
Только дети поняли меня верно.
Родители ушли. Мы остались с Ниной вдвоем.
Нина, наверное, думала, что сейчас же, как только закроется дверь, я брошусь ее обнимать, и даже приготовила на этот случай достойный отпор вроде: «Ты ведешь себя так, будто я горничная». Но дверь закрылась, а я сидел на диване и молчал. И не бросался.
Это обидело Нину. Поджав губы, она стала убирать со стола, демонстративно гремя тарелками.
Я вспомнил, что у меня в портфеле лежат для нее цветы, достал их, молча протянул.
Нина так растерялась, что у нее чуть не выпала из рук тарелка. Она взяла цветы двумя руками, смотрела на них долго и серьезно, хотя там смотреть было не на что. Потом подошла, села рядом, прижалась лицом к моему плечу. Я чувствовал щекой ее мягкие теплые волосы, и мне казалось, что мог бы просидеть так всю свою жизнь.
Нина подняла голову, обняла меня, спросила таким тоном, будто читала стихи:
– Пойдем в воскресенье к дяде Боре?
За пять лет я так и не научился понимать ход ее мыслей.
– Денег не будет – пойдем.
– Какой ты милый сегодня! Необычный.
– Не вру, вот и необычный.
Зазвонил телефон. Нинины руки лежали на моей шее, и я не хотел вставать, Нина – тоже. Мы сидели и ждали, когда телефон замолчит.
Но ждать оказалось хуже. Я снял трубку.
– Простите, у вас случайно Вали нет? – робко спросили с того конца провода. Я узнал голос Леньки Чекалина.
– Случайно есть, – сказал я.
– Скотина ты – вот кто! – донесся до меня моментально окрепший баритон. Ленька тоже узнал меня. Я вспомнил, что обещал быть у него вечером.
– Здравствуй, Леня, – поздоровался я.
– Чего-чего? – Моему другу показалось, что он ослышался, потому что такие слова, как «здравствуй», «до свидания», «пожалуйста», он позабыл еще в школе.
– Здравствуй, – повторил я.
– Ты с ума сошел? – искренне поинтересовался Леня.
– Нет, просто я вежливый, – объяснил я.
– Он, оказывается, вежливый, – сказал Ленька, но не мне, а кому-то в сторону, так как голос его отодвинулся. – Подожди, у меня трубку рвут… – это было сказано мне.
В трубке щелкнуло, потом я услышал дыхание, и высокий женский голос позвал:
– Валя!
Меня звали с другого конца Москвы, а я молчал. Врать не хотелось, а говорить правду – тем более.
Сказать правду – значило потерять Нину, которая сидит за моей спиной и о которой я привык беспокоиться. Я положил трубку.
– Кто это? – выдохнула Нина. У нее были такие глаза, как будто она чуть не попала под грузовик.
– Женщина, – сказал я.
Нина встала, начала выносить на кухню посуду.
Она входила и выходила, а я сидел на диване и курил. Настроение было плохое, я не понимал почему: я прожил день так, как хотел, никого не боялся и говорил то, что думал. На меня, правда, все смотрели с удивлением, но были со мной добры.
Я обнаружил сегодня, что людей добрых гораздо больше, чем злых, и как было бы удобно, если бы все вдруг решили говорить друг другу правду, даже в мелочах. Потому что, если врать в мелочах, по инерции соврешь и в главном.
Преимущества сегодняшнего дня были для меня очевидны, однако я понимал, что, если завтра захочу повторить сегодняшний день, – контролерша оштрафует меня, Вера Петровна выгонит с работы, старик – из очереди, Нина – из дому.
Оказывается, говорить правду можно только в том случае, если живешь по правде. А иначе – или ври, или клади трубку.
В комнату вошла Нина, стала собирать со стола чашки.
– Ты о чем думаешь? – поинтересовалась она.
– Я думаю, что жить без вранья лучше, чем врать.
Нина пожала плечами:
– Это и дураку ясно.
Оказывается, дураку ясно, а мне нет. Мне вообще многое не ясно из того, что очевидно Санде, Нининой маме. Но где-то я недобрал того, что очевидно Леньке.
Ленька закончил институт вместе со мной и тоже нужен был в Москве двум женщинам. Однако он поехал в свою степь, а я нет. Я только хотел.
Пройдет несколько лет, и я превращусь в человека, «который хотел». И Нина уже не скажет, что я тонкая натура, а скажет, что я неудачник.
– Ты что собираешься завтра делать?
– Ломать всю свою жизнь.
Нина было засмеялась, но вдруг покраснела, опустила голову, быстро понесла из комнаты чашки. Наверное, подумала, что завтра я собираюсь сделать ей предложение.
Уж как пал туман…
– Челку поправь! – приказала Ирка.
– Как? – виновато поинтересовалась Наташа.
– Как, как, господи! – расстроилась Ирка, вытерла руки о фартучек и задвигалась вокруг Наташи. Двигалась она легко, прикосновения у нее были легкие, и пахло от нее французскими духами.
Ирка обладала тем типом внешности, о котором говорят: «Ничего особенного, но что-то есть». У Ирки было все: она работала в Москонцерте, в нее были влюблены все чтецы и певцы, ездила за границу – то за одну, то за другую. Собиралась замуж – у нее были наготове три или четыре жениха.
Наташа обладала тем типом внешности, о котором говорят: «Вроде все хорошо, но чего-то не хватает». То, что все хорошо, считала Наташина мама и еще несколько доброжелательных людей, остальная часть человечества придерживалась мнения, что чего-то не хватает. Со временем доброжелательные люди примкнули к остальной части человечества, верной осталась только мама. Она говорила: «У тебя, Наташа, замечательные волосы, к тебе просто надо привыкнуть».
– Сиди прямо! – приказала Ирка.
Она вышла из кухни, потом вернулась с французскими духами. Ирка не жалела для Наташи ни духов, ни одного из своих женихов, но это никогда ничем не кончалось. Певцы пели песни советских композиторов, чтецы читали: «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..» Фокусники показывали фокусы со спичками.
Не веря больше в эстрадный жанр, Ирка раздобыла где-то настоящего мужчину, который плавал в Баб-эль-Мандебском проливе и ходил с ружьем на медведя.
– Щас я тебя пофурыкаю, – предупредила Ирка.
– Не надо…
– Понимала бы! – Ирка заскакала вокруг Наташи, опрыскивая ее из пульверизатора.
– Не надо. – Наташе жаль было духов, которые назывались «Chat noir», что в переводе означает: «Черная кошка». – Все равно ничего не получится.
– Неизвестно, – возразила Ирка. – Он строит ГЭС, не помню какую, в труднейших условиях. Строитель лучшей жизни. Про таких Пахмутова песни пишет, а он к нам живой придет.
– Может, не придет? – с надеждой спросила Наташа.
В это время позвонили в дверь.
Наташа вздрогнула и посмотрела на Ирку, Ирка – на Наташу, выражение лиц у обеих на мгновение стало бессмысленным. Потом Ирка метнулась в прихожую, и оттуда послышались голоса.
Наташа сидела на низкой табуретке посреди кухни и не знала, что делать.
Она окончила консерваторию, умела петь с листа и писать с голоса, могла услышать любой самый низкий звук в любом аккорде. А здесь, на Иркиной кухне, она чувствовала, что это никому не надо и она не в состоянии поменять все то, что она может, на то, чего не может.
Наконец отворилась дверь и вошел настоящий мужчина, строитель лучшей жизни.
Наташа успела заметить, что рубашка у него белая и некрахмальная, лежит мягко… Волосы русые, растут просто, а лицо неподвижно, будто замерзло, и на нем замерзло обиженное выражение.
– Знакомьтесь, – сказала Ирка.
– Толя, – строитель протянул руку.
– Наташа, – она пожала его жесткие пальцы и посмотрела на Ирку.
– Садитесь, – непринужденно руководила Ирка.
Толя сел и прочно замолчал. Иногда он поднимал глаза на стену, а со стены переводил на потолок.
– Скажите, – начала Ирка, – вы действительно плавали в Баб-эль-Мандебском проливе?
– Ну, плавал, – не сразу ответил Толя.
– А как, как, как? – обрадовалась Ирка.
Толя очень долго молчал, потом сказал:
– В скафандре.
– А зачем? – тихо удивилась Наташа.
– А надо было… – недовольно сказал Толя.
– И на медведя ходили? – Ирка не давала беседе обмелеть.
– Ну, ходил…
– А как вы ходили?
Ирке надо было подтвердить, что в ее доме настоящий мужчина.
– С ружьем, – сказал Толя.
– Страшно было? – тихо поинтересовалась Наташа.
– Не помню. Я давно ходил.
Ирка тем временем подала кофе.
– Я коньяк принес, – сказал строитель, – на лестнице поставил.
– Почему на лестнице? – Ирка подняла брови.
– Не знаю, – сказал строитель, и Наташа поняла, что он постеснялся.
Ирка вышла на лестничную площадку и увидела возле своей двери бутылку.
– Могли стащить, – объяснила она, вернувшись.
– Ага… – беспечно сказал строитель.
– А вы есть хотите? – тихо спросила Наташа.
– Ужас! – сказал Толя, и всем стало весело.
Когда половина бутылки была выпита, Толя первый раз посмотрел на Наташу и сказал:
– Вчера попал в одну компанию, там такая девочка была… И парень с ней в кожаных штанах. Вам бы он не понравился.
– Почему? – спросила Наташа.
– Потому что вы серьезная.
«Как раз понравился бы», – подумала Наташа, но ничего не сказала.
– Ну, ну… – Ирка обрадовалась, что Толя заговорил.
– Он пижонить начал, говорит: в каждом человеке девяносто процентов этого… Ну, сами понимаете.
– Чего? – не поняла Ирка.
– Дерьма. А я ему говорю: «Ты не распространяй свое содержание на других».
Толя замолчал. Наташа поняла, что он обижен и переживает.
– Не обращайте внимания, – сказала она.
– Да вообще-то, конечно, – согласился Толя.
– Вы где живете?
– Нигде.
– Как это «нигде»?
– Очень просто. Плаваю – и все.
– А дом-то у вас есть?
– Был, а теперь нет. Давайте выпьем.
Все подняли рюмки.
– Жена сказала: «Надоел ты мне». Я и ушел.
– Жалко было? – спросила Ирка.
– Чего?
– Жену.
– Жалко. – Толя прищурился. – До слез жалко. Однажды ночью просыпаюсь и плачу. Слезы текут, ничего поделать не могу. Думаю: господи, да я ли это…
Все замолчали, думая о своей жизни, и только Ирка не умела думать о себе.
– Неужели никак нельзя было? – Она посмотрела на Толю.
– Наверное, нельзя. Я без жены еще как-то проживу. А без своей работы – нет.
– Понятно, – сказала Наташа. Ей это было понятно.
Ирка включила приемник. Заиграл симфонический оркестр.
У Толи глаза были голубые, а волосы русые. За его спиной висела занавеска, а за занавеской лежал город – далеко, во все стороны. А после города кончались дороги и начинались поля и деревни, потом другие города.
Наташа вдруг кожей ощутила это все: расстояние и бесконечность.
– Так-то ничего бы, – сказал Толя, – плохо только, писем нет. Когда на корабль письма приходят, как будто веревка от земли протягивается. Не утонешь, ни фига с тобой не сделается. А когда писем нет…
– Хотите, я вам напишу? – предложила Наташа.
Толя промолчал. Ему не нужны были Наташины письма. Вот если бы написала жена или в крайнем случае девочка – приятельница парня в кожаных штанах.
Толя многое умел: ходить на медведя, опуститься на дно в скафандре. Он умел интересно жить, но не умел интересно рассказать об этом. И не в силах был поменять то, что он может, на то, чего не может.
– Ничего, – сказала Ирка, – все будет хорошо.
Ей хотелось, чтобы у всех было все хорошо.
Соседская девочка собиралась в детский сад. Она вытаскивала на середину комнаты все свои игрушки и разговаривала с ними. Слов было не разобрать, но звук голоса и интонации доносились четко. Дом был блочный, слышимость хорошая.
Наташа лежала с открытыми глазами, слушала девочку и думала о себе. О том, как три года назад Игорь сделал предложение, она согласилась в ту же секунду, потому что Игорь был не халтурщик – они много бы переделали в жизни хороших дел. А на другой день он позвонил, извинился и сказал, что передумал.
– Не сердишься? – спросил он.
– Да ну, что ты… – сказала Наташа. – Конечно, нет…
Говорят: война… А бывает, что и в нормальной жизни, среди гостей и веселья, все может кончиться одним телефонным звонком.
– Сни-ми-и! – кричала сверху девочка. Ей что-то надевали, а она протестовала.
В комнату из кухни вошла Наташина мама. Она работала медсестрой в больнице, любила тяжелобольных и презирала тех, кто болел несерьезно. Она любила людей, которым была необходима.
Мать послушала, как кричит сверху девочка, и сказала:
– Господи, всю нервную систему ребенку расшатали… – Если бы у нее была своя внучка, она ни за что не шатала бы ее систему, а жила только ее интересами.
– Мам, – сказала Наташа, – хочешь, я ребенка рожу?
– От кого?
– От меня.
– Идиотка! – сказала мать.
– Ну что ты ругаешься, я же только спрашиваю.
Зазвонил будильник, отпирая новый день.
Училище размещалось в старом особняке. Раньше в этом особняке жил обедневший дворянин. Комнаты были тесные, лестница косая. Наташа любила эти комнаты и лестницу, коричневую дверь с тугой и ржавой пружиной, тесноту и пестроту звуков.
В самой большой комнате, которую дворянин прежде называл «залой», а теперь все звали «залом», занимался хор.
Здесь все как обычно: та же декорация, сорок стульев, рояль. Те же персонажи – сорок студентов, концертмейстер Петя. Концертмейстер – профессия не видная. Например, по радио объявляют: «Исполняет Лемешев, аккомпанирует Берта Козель». Лемешева знают все, а Берту Козель не знает никто, хотя объявляют их вместе.
В консерватории Петя учился тремя курсами старше, его звали «членистоногий». Было впечатление, что у Пети на каждой руке по два локтя и на каждой ноге по два колена и что он весь может сложиться, как складной метр. Сразу после звонка отворяется дверь и появляется следующее действующее лицо – декан Клавдия Ивановна, за глаза – «та штучка». Она окончила университет, к музыке никакого отношения не имеет, не может отличить басового ключа от скрипичного. Осуществляет общее руководство.
Принцип ее руководства состоит в том, что раз или два раза в год она выгоняет какого-нибудь отстающего и неуспевающего. Раз или два раза в год под косой лестницей бьется обалдевшая от рыданий жертва, а вокруг тесным кольцом в скорбном и напряженном молчании стоят друзья-однокурсники, и каждый предчувствует на этом месте себя.
Сейчас «та штучка» вошла и села возле дверей на свободный стул. Студенты и студентки выпрямили позвоночники, как солдаты на смотру.
Наташа не обернулась. Пусть декан беспокоится, и царственно откидывает голову, и изобретает принципы. А она – дирижер. Ей нужны только руки, чтобы было чем махать, и хор, чтобы было кому махать. И хорошая песня – больше ничего. А посторонние в зале не мешают. К посторонним, равно как и к публике, дирижер стоит спиной.
– «Эх, уж как пал туман», – сказала Наташа и движением руки подняла хор.
Она внимательно смотрит на первые сопрано, потом на вторые. Идет от одного лица к другому. Это называется – собрать внимание. Но Наташа ничьего внимания не собирает. Слушает сосредоточенно: ждет, когда задрожит в груди поющая точка. Потом эта точка вспыхивает и заливает все, что есть за ребрами, – сердце и легкие. И когда сердце сокращается, то вместе с кровью посылает по телу вдохновение. Наташа до самых кончиков пальцев наполняется им, и становится безразличным все, что не имеет отношения к песне.
Наташа качнула в воздухе кистью, давая дыхание. Петя поставил первый аккорд. Сопрано послушали и вдохнули, широко и светло запели:
Эх, уж как пал туман на поле чистое-э…
Она потянула звук, выкинув вперед руку, будто держа что-то тяжелое в развернутой ладони. Потом обернулась к альтам.
…Да позакрыл туман дороги дальние… —
влились альты. Они влились точно и роскошно, именно так они должны были вступить. Наташа каждой клеточкой чувствовала многоголосие. Ничего не надо было поправлять.
Она опустила руки, не вмешиваясь, не управляя, давая возможность послушать самих себя. Все пели и смотрели на Наташу. Лицо ее было приподнято и прекрасно, и это выражение ложилось на лица всех, кто пел.
…Эх, я куда-куда-а пойду,
Где дорожку я широкую-у найду-у, где…
В следующую фразу должны вступить басы и вступить на «фа». Это «фа» было в другой тональности и шло неподготовленным. Если басы не попадут – песня поломается.
Наташа оглядывается на Петю, на мгновение видит и как-то очень остро запоминает его резкое, стремительное выражение лица и сильные глаза.
Петя чуть громче, чем надо, дает октаву в басах, чтобы басы послушали «фа» и почувствовали его в себе.
Наташа сбросила звук. Хор замер и перестал дышать. Она делала все, что хотела, и хор выполнял все, что она приказывала: могли бы задохнуться и умереть. Она держала сорок разных людей на кончиках вздрагивающих пальцев, и в этот момент становилась понятна ее власть над людьми.
В последнюю четверть секунды качнула локтями, давая дыхание, и все вздохнули полной грудью. Басы точно встали на «фа», отдали его в общий аккорд – самый низкий, самый неслышный, но самый определяющий тон.
…Где доро-ожку най-ду-у…
В конце все собираются в унисон, подтягивают, выравнивают последний звук до тех пор, пока не создается впечатление, будто он рожден одним только человеком. Наташа подняла два пальца, как для благословения, и слушает, и впечатление, будто забыла – зачем стоит. Потом медленным жестом подвигает палец к губам. Звук тает, тает… сейчас совсем рассеется, осядет на потолок и на подоконник. Но Наташины пальцы ждут, и губы ждут, и глаза – попробуй ослушаться. И все подаются вперед и держат, держат звук до тех пор, пока это не становится невозможным. Тогда Наташа едва заметным движением зачеркивает что-то в воздухе и опускает руку.
Песня кончилась. Проходит некоторое время, прежде чем всем становится это ясно.
Урок окончился, и все разошлись. Петя засовывал в портфель ноты. Ноты не умещались.
Наташа подошла к окну и распахнула его настежь. На улице снег поблескивал, как нафталин. Он лежал на крышах совсем белый и был по тону светлее, чем небо.
Хорошо было стоять и немножко мерзнуть и возвращаться откуда-то издалека. Смотреть на снег, черные на белом фигурки людей, ощущать бесконечность.
Далеко-далеко висит звезда, а под ней висит Земля, а на Земле бывший особняк обедневшего дворянина. А на втором этаже, в трех метрах над людьми, стоит Наташа.
Песня получилась, значит, полгода прошли недаром и сегодняшний день не пропал. А впереди следующая песня, которая будет лучше этой, а за ней другая. И это – ее! Здесь она ни от кого не зависит. Никто не может ни вмешаться, ни помешать.
«Проживу! – подумала Наташа. – Ничего, проживу!»
По улице быстро прошли два подростка. Они шли, одинаково сунув руки в карманы.
А Петя за спиной все никак не мог уложить ноты, наступал на портфель коленкой.
Наташа подошла, отобрала портфель и разложила: партитуры вдоль, а сборники – поперек. Потом легко закрыла портфель и протянула Пете. Петя озадаченно посмотрел на портфель, потом на Наташу. Он смотрел долго и вдруг удивился:
– Слушай, а у тебя потрясающие волосы. Ты это знаешь?
– Конечно, – сказала Наташа. – Ко мне просто надо привыкнуть…







