
Виктор Каган
Понимая себя: взгляд психотерапевта
Но тут каждый может перейти к своей собственной, персональной человеческой и профессиональной истории… Потому что кем бы мы ни были и ни работали, мы живем с людьми и ищем свое место среди них и в жизни.
От автора
(вместо предисловия к 1-му изданию)
«Я – психиатр», – говорю я, и… мой внутренний голос отзывается: «Да ты сумасшедший! Ну, сейчас начнется!» Он знает, что говорит. Это он когда-то научил меня, оказываясь среди новых людей, называть себя школьным учителем и, спокойно потягивая свою чашку чая или рюмку вина, слушать, как ругают школу, учителей. Ведь стоит сознаться в своей профессии – и вечер пропал! Один сочувственно улыбнется: мол, психиатры и сами – того-с, не без таракана в голове. Другой непременно попросит определить, здоров ли он, или тут же, не выходя из-за стола, внушить его (ее) сыну (дочери, жене, теще), что… Третий захочет, чтобы я его загипнотизировал, а четвертый его перебьет, чтобы спросить с меня (Господи, почему с меня?!) за все грехи и ошибки психиатрии. И кто-нибудь спросит, верю ли я в телепатию, телекинез, хилеров, психотронную войну, Кашпировского, Чумака… Скажешь «да» или «нет» – совершенно неважно, потому что достанется тебе и от верящих, и от неверящих. Так что внутренний голос прав: «Помолчи… молчание – золото!»
Но – что это? Крыша у меня, что ли, поехала?! Еще один голос! И тоже – внутренний! «Вы что, – говорит, – с дуба рухнули оба? Вы что, и правда не понимаете, что уж коли спрашивают, значит – интересует, мучает, ответа требует? Или вам профессора ваши не говорили, что самая большая тайна для человека – он сам: и тянет она к себе, и пугает? Ведь боятся вас, психиатров. Сами знаете, что боятся. А вы ломаетесь – вечер вам, видите ли, испортят. Хотите, анекдот расскажу – про психиатра? Ну так вот…»
А если серьезно, то почти тридцать лет работы убедили меня в том, что нейтральная полоса между миром душевного здоровья и миром душевных расстройств намного шире самих этих миров. И нет между ними непроницаемой границы. Есть душевнобольные, достигающие таких духовных высот и такого мирского успеха, какие большинству здоровых и не снятся. Есть здоровые, день за днем разрушающие свою душу так, что и болезни не разрушить. И всех нас – пациентов и психиатров, здоровых и не очень здоровых – объединяет одна чудесная штука: подаренная нам, но не дающаяся даром жизнь, в которой мы хотим и имеем право быть принятыми такими, какие мы есть, отвечать за самих себя и за свою жизнь так, как мы понимаем себя и свою жизнь, развиваться и изменяться, не изменяя себе.
Общение со многими моими пациентами дало мне так много и научило столь многому, что я чувствую себя в долгу. Далеко не всегда я мог помочь им и защитить их интересы настолько, насколько хотел, и от этого мой долг еще больше. Я знаю, что он будет расти. Ничего с этим не поделать. То немногое, что я в силах сделать, – это попытаться помочь людям, задумывающимся о себе и душе, не чувствовать себя одинокими или «не такими» и не возводить стену отчуждения между собой и отличающимися от них другими людьми. Нужно ли это всем и каждому? Не знаю. Нужно ли это вам – вы решите сами.
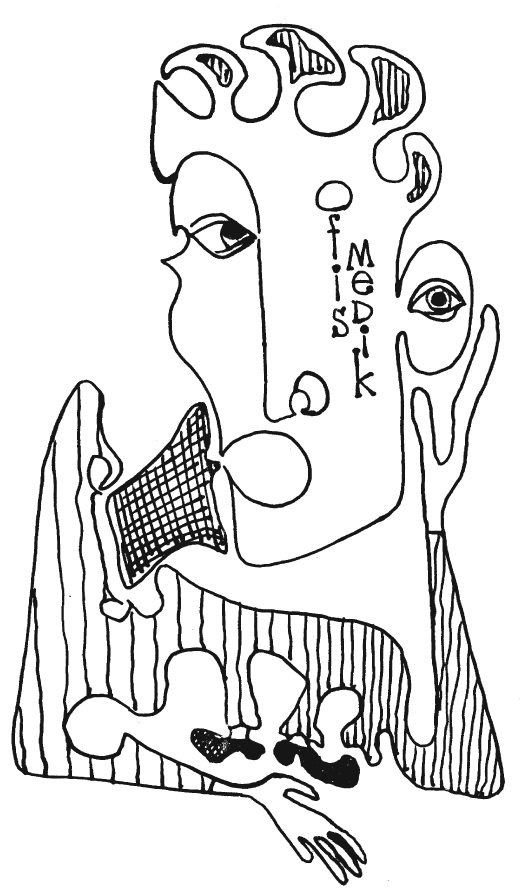
Портрет психиатра

Портрет пациента
История появления этой книги вкратце такова. Весной 1995 года мы разговаривали с Ларисой Афониной в редакции «Часа Пик». В частности, о популярной странице «Человек Чувствующий» – что да как, что не так и как бы и что бы такое еще… И тут она со свойственным только женщинам милым изяществом «завела» меня, сказав, что вот, мол, придумал когда-то такое хорошее название рубрики – «Человек Чувствующий» (признаться, я об этом начисто позабыл – слава Богу, уж сколько лет прошло с открытия «Часа Пик», но напоминание так ласково погладило самолюбие), а сам – в сторону (при этом я почувствовал себя кем-то вроде джентльмена, оставившего барышню наедине с хулиганом). Эта гремучая смесь вознесения и низвержения сработала без осечки, заставляя сразу откликнуться готовностью что-то такое совершить. Что именно – найти оказалось не так трудно. Долгое время до этого мы с коллегами говорили о том, что психиатрии надо бы вступить в открытый диалог с людьми, которые чаще всего ее просто боятся, а тем более – после шумных разоблачений «карательной медицины» советского времени, когда в каждом психиатре стали видеть этакого ужасного монстра, которого хлебом не корми, но дай налепить диагноз и заколоть лекарствами. Так, в газете «Час Пик» появилась колонка «Желтая Лампа» (от знаменитого в 20-х годах клуба «Зеленая Лампа» и старого названия психиатрической больницы – «Желтый Дом»). Она оказалась интересной не только для меня, но – судя по обилию откликов – и для читателей, а затем Леонид Янковский – заведующий психологической редакцией издательства «Комплект» – предложил мне собрать материалы рубрики в книгу, которая сейчас у вас в руках. И мне очень приятно сказать о чувстве благодарности Ларисе Афониной, живо поддержавшей «Желтую Лампу», главному редактору «Часа Пик» Наталье Чаплиной, писавшим мне читателям газеты, без которых «Желтая Лампа» наверняка погасла бы, и Леониду Янковскому, чей взгляд выхватил рубрику из океана газетных материалов и узрел в ней книгу (что-то по сравнению с «Желтой Лампой» в ней опущено, что-то добавлено).
За тридцать лет работы накопилось немало вещей, которые хотелось бы сделать лучше, за которые вполне может быть совестно и которые то вспыхивают в памяти немым укором, то являются в отнюдь не заказываемых сновидениях. К тому же, я действительно пытался быть открытым и не лукавить ни с читателем, ни с самим собой.
Подзаголовок этой книги подчеркивает одну вещь, которая представляется мне важной: взгляд на психиатрические проблемы глазами психотерапевта, попытка обратиться к психиатрии каждодневной жизни, не заключая жизнь по частям в разлинованное поле психиатрических классификаций, а выводя психиатрию с этого поля в жизнь – на улицу, в мастерскую художника, в студенческую аудиторию… По существу, это очерки гуманистической психиатрии.
Некоторые мои коллеги говорили мне, что я пишу вовсе не о психиатрии, что писать надо совсем о другом. Например, разъяснять – как распознавать разные болезни у себя и других, что делать тогда-то и тогда-то и т. д. Возможно, они по-своему правы, но «каждый пишет, как он слышит», да и «Желтая Лампа» продолжает гореть. Вообще же, разделение людей на душевно здоровых и душевно больных так относительно, что ограничить разговор лишь тем, что видит психиатр в стенах психиатрического учреждения, было бы ошибкой. Любовь, ненависть, нежность, страх, чувство одиночества, желание быть принятым и понятым, гражданские позиции и политические взгляды людей или их религиозные верования невозможно свести к ограниченному списку болезней. Страдающий шизофренией человек может давать такие уроки тончайшей и высокой любви, которые далеко не всегда в состоянии усвоить здоровые, – но его любовь не становится от этого симптомом шизофрении. То, что называют психическими нарушениями, не муха в супе жизни, которую, на худой конец, можно выловить и выбросить. Скорее, это специи, без которых жизнь становится безвкусной, как дистиллированная вода, которой, как заметил Леонид Мартынов, при всей ее чистоте не хватает жизни.
Учитель
Молодости свойственно утверждать себя и расширять круг людей вокруг себя. В это время даже если кого-то любишь, еще трудно по-настоящему глубоко осознать, что для тебя значит этот человек. К тому же он рядом, он здесь – не только в своем значении, но и подчас заслоняющих это значение бытовых подробностях и деталях. Он часть твоей жизни – жизни, которую ты не можешь представить без этой части, как не можешь представить себя без своей молодости. И лишь годы и годы спустя, только изрядно повзрослев и уже не находя его рядом, начинаешь остро сожалеть – какую массу вопросов хотел ему задать, но так и не задал, как много хотел ему сказать, но так и не сказал. Начинаешь понимать – как прочно и глубоко он живет в тебе, как многим ты ему обязан. Один из таких людей для меня – мой Учитель – профессор Самуил Семенович Мнухин, с чьим именем связано становление детской психиатрии не только у нас в городе, но и в стране. Он прожил на этом свете 70 лет – с 1902 года по 1972-й и умер 21 октября. Ученик В.М. Бехтерева, он почти до самой смерти – в течение 30 лет – заведовал кафедрой психиатрии Педиатрического медицинского института. Вместе с психиатрами его поколения ушла целая эпоха – не только психиатрическая, но и человеческая. Они становились психиатрами «по любви» – когда столь обычных сегодня психофармакологических препаратов для лечения и в помине не было, не существовало никаких льгот и надбавок к зарплате, и психиатрия была столь же непопулярной, сколь действительно опасной профессией (листая медицинские журналы начала 20-х годов, я как-то наткнулся на объявление примерно такого содержания: психиатрические больницы пропадают без врачей, и если в каждом медицинском институте хотя бы несколько выпускников решатся посвятить себя этому трудному делу, то психиатрия в России выживет). Они не работали в психиатрии – они жили психиатрией. То, что я хочу сказать о своем Учителе, сугубо лично, то есть то, каким я его видел, кем он был и остается для меня. Другие, возможно, сказали бы иначе.
Впервые я увидел его осенью 1965 года, когда он поднялся на кафедру в замызганной аудитории и начал первую лекцию словами: «Задача медицины – бороться за жизнь, задача психиатрии – бороться за человека». Над его изрядно уже полысевшей головой седые волосы в свете сентябрьского луча из окна создавали подобие свечения, о чем позже мой друг сказал: «Слушаю, гляжу и думаю – марсианин!» Он сам, не перепоручая это самому безответному ассистенту, вел студенческий кружок по психиатрии, бывший, без преувеличения, оазисом в студенческой жизни. Здесь можно было говорить обо всем – даже о Фрейде и психоанализе. Готовя для кружка доклад о характерах и поплакавшись как-то, что в советской литературе мне не удалось найти ничего, кроме анекдотических утверждений типа «Патриотизм – это черта характера советского человека», я услышал в ответ: «А вы их и не читайте. Они с личностью – как, извините, импотент с женщиной: и так и сяк, а все никак». Он на заседаниях кружка, длившихся порой по 4–5 часов, расцветал и молодел, закрываясь и суровея только при появлении чересчур уж нахрапистых юнцов и юниц. Теперь, видя некоторых из них уже много лет самостоятельно работающими, часто думаю, как он был тогда прав.
Его клинические разборы собирали не только врачей «Скворешни» (больницы им. Скворцова-Степанова), но и многих виднейших психиатров, студентов из кружка. То же было и на поликлинических консультациях. Как-то, уже работая в больнице, я пришел чуть раньше начала. Профессор явно чувствовал себя неважно. Едва удалось уговорить его измерить давление крови. 240 на 180!!! Стою и не знаю: сказать – не сказать? Скажу – могу напугать. Не скажу – ведь будет работать с таким давлением. Пришлось сказать. В ответ – как ни в чем не бывало: «А-а-а! А я-то думаю – что ж голова так болит? Ну что, скоро начнем? Давно пора». И он детальнейшим образом консультирует трех больных. Похоже было, что работа его в полном смысле слова лечит.
То ли в конце 60-х, то ли в начале 70-х годов проходил в Ленинграде большой семинар, на который съехались врачи Северо-Запада СССР. На многих лекциях они откровенно спали. Но вот лекция Самуила Семеновича о детской эпилепсии – с десяти утра до почти трех часов дня с одним маленьким перерывом: полный зал слушает его как маленький ребенок сказку – раскрыв глаза и уши. После окончания лекции на него наваливаются с вопросами, но он успевает попросить меня поймать такси, потому что в три часа в другом месте начинается его консультация. Ловлю. Он как-то вырывается из круга, и мы едем. По дороге надо остановиться у магазина – он покупает четвертушку черного хлеба и немного сыра (диабет требует подпитки каждые два-три часа). В три пятнадцать мы в поликлинике, где уже ждут родители с детьми и пришедшие поучиться у Мастера врачи и студенты. Время от времени ему приносят чай и очередной, нарезанный из купленного, бутерброд с сыром без масла (помню и других профессоров, к приходу которых в клинику сотрудники «скидывались» им на стол – отнюдь не такой библейской простоты). Консультация заканчивается около семи вечера. Провожаю Учителя до дома – по дороге он продолжает обсуждать больных с увлеченностью, которую сегодня и у молодого врача встретишь не часто. И вот так или почти так – вплоть до последних дней жизни.
Профессором он был и для врачей, и для пациентов отнюдь не потому, что въезжал в общение на коне своих званий, – этого он терпеть не мог. Просто в нем, если вы были не слепы и не предвзяты, нельзя было не видеть Профессора. Его лекции были событиями, собиравшими студентов разных курсов и институтов, потому что ему – блестящему педагогу – до самых последних дней психиатрия была бесконечно интересна. «Орел – он думает, что все орлы», – сказал Олжас Сулейменов. Точно так же С.С. Мнухин как бы полагал, что психиатрия интересна всем. Он мог выйти на кафедру, помолчать и сказать: «Я должен был читать лекцию о шизофрении. Но я не буду ее читать». И после долгой паузы: «Я вам прочту поэму о шизофрении». И читал действительно поэму – не в смысле рифмы, конечно, но в смысле глубочайшего проникновения в суть и дух этой «королевы психиатрии». И не было в этом ни капли ломания – просто он делился тем, что в тот день было для него важно (потом понял, насколько важно, – ведь изучение этого расстройства все больше и больше прибирала к рукам всесильная Москва).
Удивителен он был с больными. Ни разу не видел, чтобы его беседы с ними напоминали допрос вместо расспроса. Это были именно беседы двух людей. С его стороны – тонкие и бережные, наполненные искренним интересом не к «охоте за симптомом», а к собеседнику.
Сдав последний госэкзамен, я повстречал Учителя в институтском саду: «В армию призывают? Я вот тоже после института год в кавалерии прослужил… Смешно… Знаете, если хотите быть приличным психиатром, не забывайте о трех вещах. Среди профессоров столько же дураков, сколько в общей популяции. Психиатрии вас больше научит хорошая литература – Толстой, Достоевский, чем учебники. И помните, что диагноз – это еще далеко не весь человек».
В блокадном Ленинграде он был консультантом военных госпиталей и как-то рассказывал мне об этом, не только о самой работе, но и о пути пешком голодного человека – 3–4 часа туда и столько же обратно – в том числе и сумасшедшими блокадными зимами. На рубеже 40-х и 50-х продолжал принимать у себя на кафедре опального и отовсюду выгнанного академика Л.А. Орбели. Всю жизнь цитировал неврологические работы З. Фрейда. При всем при этом в обычной жизни храбрецом не был и на рожон не лез. Скорее даже склонен был избегать многолюдных собраний, мог долго и тревожно собираться на какую-нибудь конференцию в Москву, а в последний момент остаться дома. Думаю, по этой же причине и книг не оставил – только статьи, но настолько насыщенные, я бы сказал – такого удельного веса, что долго еще вдумчивые психиатры будут находить в них своего рода коды, ключи к многим проблемам.
Что меня привлекало и удивляло в Учителе – это свойственная людям действительно интеллигентным способность знать себе цену и не кичиться ею. Незадолго до окончания им института в разговоре о том, кто кем будет, он сказал: «Профессором психиатрии». Когда, по-моему – в 30-х годах, его приглашали заведовать кафедрой в Харьков, он после недолгих размышлений отказался, решив для себя, что если суждено заведовать кафедрой – то это произойдет и в Ленинграде, а нет – так и ездить незачем. А когда его поздравляли с 70-летием, стоял растерянный, поеживался от «громких» слов и пышных комплиментов, гора папок с адресами росла перед ним и, казалось, вот-вот он вовсе исчезнет за ней – но и она не могла скрыть его смущения. Когда потом я ему процитировал Бориса Пастернака: «Вас чествуют… Чуть-чуть страшит обряд, где Вас, как вещь, на пьедестал поставят, и золото судьбы посеребрят и, может, серебрить в ответ заставят», он попросил повторить и, выслушав, сказал: «Как точно! Сбежал бы – да нельзя». Жил на углу Марата и Разъезжей – для профессора не слишком просторно и тепло, и уж вовсе не богато.
Года за два до смерти Самуил Семенович сделал мне просто царский подарок, интересный и ценный не только сам по себе, но и по тому, как он это сделал. Начав работать по предложенной им теме над диссертацией, я через полгода честно сознался, что душа у меня к этой теме не лежит. Он даже не рассердился – он обиделся страшно. И много месяцев, что называется, в упор меня не видел, вроде мы и незнакомы вовсе. Вдруг при случайной встрече – узнал. Его ожидало такси, и он предложил поехать вместе (?!). Едем. Сижу сзади. Молчание. Внезапно, не поворачиваясь: «Так говорите, не будете делать мою тему?» Сказав себе, что я идиот и делаю очередной идиотский шаг, я почему-то с прежней дубовой честностью ответствовал, что душа, мол, у меня к этой теме не лежит как-то. Опять долгое молчание, после которого так же, не поворачиваясь: «А, черт с вами, берите аутизм!» Должен сказать, что детский аутизм его интересовал особо, и именно с его кафедры вышли первые у нас в стране работы о детском аутизме. Такие темы Учитель никому не поручал – жалко было расстаться, отдать в чужие руки. Я онемел, а потом принялся мямлить какие-то жалкие слова. И тогда он повернулся наконец и очень емко и сжато изложил свои взгляды на это расстройство. Мы с ним тогда, помню, пробродили часа два вокруг его дома. Мне было грустно, потому что я вдруг остро почувствовал, что он готовится к уходу, подводит итоги, распределяет недоделанное…
Много лет уже мы, бывшие его кружковцы, собираемся в день рождения Учителя в марте. Раньше – человек по 20–30, последний раз нас было шестеро. И каждый раз жалеем – как это мы ухитрились не записать его лекции. Обсуждаем, как славно было бы собрать в одну книгу его статьи. Каждый немножко о своем жалеет. Я, например, о том, что не довелось мне знать Учителя так близко и работать с ним так тесно и долго, как довелось более старшим коллегам. Жалеем, обсуждаем, редеем…
Зачем я все это рассказываю? Зачем вот так, публично признаюсь в любви к Учителю? Сегодня с высоты куриного полета свеженахватанных знаний о психологии и сквозь призму за версту пахнущих жареным «разоблачений» психиатрии многим она кажется эдаким монстром, пожирающим бедных граждан от мала до велика. И если так или иначе с психиатрией сталкиваясь, взрослой или детской – неважно, вы вспомните это имя – профессор Мнухин, и спросите себя – кто же для вас был Мнухиным в вашем деле? – то, может быть, и психиатрия, и ваше дело смогут отдать миру больше, чем это удается сегодня, а мы с вами, ощутив эту незримую и неосязаемую, но от этого не меньшую поддержку Учителей, еще поработаем. Несмотря ни на что.
Мир без сумасшедших?
Он был бы ненормальным! Так сказал Станислав Ежи Лец. Но что такое сумасшествие, как мы узнаем, что перед нами – оно? В психологически точном стихотворении Джейн Гудселл есть такие строки:
Я наделена богатым воображением.
Ты немного странновата.
Она совершенно чокнутая.
Я создание впечатлительное.
Ты горячишься по пустякам.
Она лучше бы сходила к психиатру.
Итак, сумасшедший – это тот, кто делает что-то, не укладывающееся в мои представления о разумном и должном, кто кажется мне странным. Правда, я тоже иногда делаю черт знает что и почему. Но ведь у меня на то есть причины! Поведение – как произведение: о чужом мы судим по результату, а о своем – по замыслу, заметил О.Уайльд. Конечно, у психиатрии есть более строгие и менее пристрастные, научные, проверенные опытом мерки. И психиатр – это вовсе не тот, кто обязательно здоров, в отличие от пациента (Виктор Хрисанфович Кандинский сам был болен и в конце концов покончил с собой, но собственный опыт болезненных переживаний позволил ему открыть целую эпоху в психиатрической диагностике), и прошел курс обучения. Психиатр прежде всего тот, кто умеет в своей оценке поведения вырваться из плена расхожих и сугубо личных представлений о том, что странно и что не странно. По своему врачебному и учительскому опыту могу судить, что умение это дается совсем не легко.
А и правда, попробуем представить себе мир без сумасшествия – и мы не найдем в нем произведений Гаршина и Гоголя, Босха и Гойи, Врубеля и Чюрлениса, Фурье… вычеркнем из истории человеческой культуры тысячи имен и открытий. Но многие ли хотели бы поменять свое такое обычное психическое здоровье на гениальное помешательство?! Что-то не встречал я таких. История, культура, наука – все это меркнет перед простым человеческим желанием сохранить свое «я» и страхом лишиться его, потерять власть над собой и своей жизнью: «Не дай мне Бог сойти с ума! Уж лучше посох и сума». Страх этот, чаще всего неосознаваемый, пропитал наш язык: душевно (психически) больной – сумасшедший, помешанный, умалишенный, ненормальный, полоумный, чокнутый, тронутый, сбрендивший, малахольный, безумный, психованный, псих, не в своем уме, с приветом, с прибамбасами, не все дома, винтиков не хватает, чердак не в порядке, крыша поехала… Если мы и говорим так о себе, то затем лишь, чтобы в следующий момент убедиться в том, что все с нами в порядке – ну, мгновенное затмение, с кем не бывает? Слова эти – обычно о других. Они – граница, не переступая которую и видя по ту ее сторону кого-то, мы чувствуем себя в безопасности и хотим держать эту границу на замке. Печальные символы психиатрии – смирительная рубаха, забор, ключ, социальные запреты вдобавок ко всем тем ограничениям, которые устанавливает сама болезнь. Лечебница – место, где лечат. Больница – место, куда приводит физическая или душевная боль. Зачем тогда слова – желтый дом, психушка? А зачем нам слова о том, что кто-то глупый или сумасшедший – сосед, приятель, начальник, президент? Не прячется ли за ними некое самоуспокоение? Ведь подметить, что некто – «дурак» или «сумасшедший», может лишь имеющий ум и не сошедший с него. И часто произносимые эти слова – обычно скрытый знак нашей неуверенности в себе, сомнений, опасений. Да что там отдельные люди? Сумасшедшая страна, сумасшедшая жизнь, сумасшедший мир… и стою посреди этого сумасшествия я – здоровый!
Говоря о границах душевного здоровья и болезни, мой Учитель – профессор С.С. Мнухин обычно вспоминал слова Г.В. Плеханова: «Трудно установить момент, с которого человека следует считать лысым». Даже на самой пограничной черте часто невозможно еще сказать: «С ума схожу? Иль восхожу к высокой степени безумства?» С одной стороны, болезнь, по определению Рудольфа Вирхова (его ошибочно приписывают К. Марксу, процитировавшему это определение в рецензии на работу Вирхова), – это стесненная в своей свободе жизнь. С другой, болезнь может высвобождать таящиеся в человеке и не востребуемые в обычной жизни возможности, открывать доступ в иные пространства переживаний и опыта, становясь своего рода связующей нитью между уже познанным и еще не познанным нами миром, между обыденностью и чудом, между здравым смыслом и головокружительной фантазией. Это вопрос не свободного выбора – никто по своей воле не выбирает быть больным. Это вопрос отношения. Замыкая душевные болезни и душевнобольных в кольцо отвергания, непринятия, дискриминации, порождаемых нашими собственными неосознаваемыми страхами и стремлением к успокаивающему самоутверждению, мы не только посягаем на полноту их жизни, но и обедняем, обесцвечиваем мир, в котором живем, усиливаем собственный страх оказаться в этом кольце одиночества.
Я таков, каков я есть, – я имею право быть таким, каков я есть, и быть принятым другими и миром таким, каков я есть, чтобы иметь возможность изменить себя так, как смогу и захочу. И ты… И он, и она, и они…





