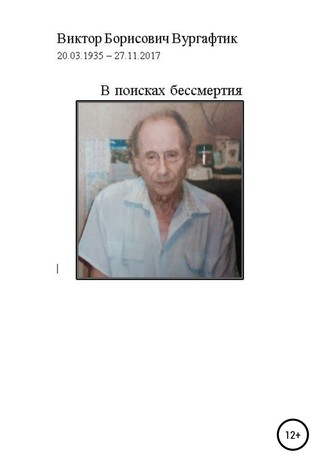
Виктор Борисович Вургафтик
В поисках бессмертия
Чтобы сказать истинное, не нужна наука, достаточно любого высказывания, сросшегося с фактичностью. Например, треск в радиоприёмнике при молнии можно объяснить с использованием «неправильной» теории эфира, по которой молния вызывает в этой упругой среде смещение частиц, оно чуть далее вызывает напряжение, последнее чуть далее смещает частицы и т.п., т.е. от молнии распространяется обычная упругая волна; дойдя до антенны радиоприёмника, она смещает прилегающие к ней частицы эфира, отчего по антенне проходит ток. Простое высказывание, единое с ощущаемой мною фактичностью, истинно. Конечно, им может быть и научная теория. Однако она предназначена не для объяснения происходящего сейчас, а для сохранения прошлого опыта на будущее, т.е. считается концентратом знания, и в этой своей роли не истинна и не находится от истинного на каком-либо расстоянии.
5. Я упоминал уже, что, имея неабсолютный факт, я обращаю внимание только на него, я же, имеющий его, не нахожусь в моём внимании, т.е. не существую. Значит, если есть истинное высказывание, то высказываю его не я. И если имеется абсолютный факт, то не я имею его: если бы в моём внимании находился я, имеющий абсолютный факт, оно включало бы и моё отношение к этому факту, т.е. само «имение», которое может быть только формулировкой – некоторой формулировкой как меня, так и его; но тогда он не был бы абсолютным. Если же есть чистая теория, я необходимо смотрю на неё как на концентрат знания, предназначенный для будущего, т.е. имею в виду и себя, который ею воспользуется, – хотя бы я видел при этом других людей. Вообще, если моё высказывание не соединено с фактичностью, оно соединено со мною высказывающим, так как высказывание есть, собственно, обнаружение – либо того, что́ высказывается, либо того, кто́ высказывает; оно подобно свету фонаря, обнаруживающему освещаемое или самого осветителя, – я не говорю о тех случаях, когда высказывание само фактично, как в логике, лингвистике и пр., т.е. когда фактом является сам свет. Следовательно, высказывание исходит от меня, если и только если оно не истинно. Таким образом, если есть истинное, невозможно, чтобы имел его я, если же есть неистинное, – чтобы именно я не имел его.
Заполняющий меня неабсолютный факт – это два: фактичность и объяснение; поэтому я имею нечто – границу между ними. Заполняющий же меня абсолютный факт – только одно; но если одно безгранично – не переходит в другое, – оно для меня ничто, Итак, абсолютный факт производит опустошение.
Сейчас я не имею теории, которой бы я доверял. Уже поэтому я не имею и опровергающего её факта, он был бы абсолютным и опустошил бы меня. Сейчас отсутствует абсолютный факт, и Иисус Христос не посылает мне Утешителя от Отца, Духа истины, и от Него не рождаюсь я новый. Итак, не рождаюсь я, имеющий не истинное уже, а Саму Истину.
Церковь как творящее слово
Май 1977 – январь 1978
Без веры я не могу видеть ничего определённого. Что́ бы определённое я ни видел, я вижу его каким-то, т.е. именно определённым, но того, какое оно, не было бы без веры. Например, дерево, которое я сейчас вижу, я вижу внешним по отношению к себе, неподвижным и скрытосеменным. Из него ли я беру эти понятия? Но если бы я заранее не знал, что деревья делятся на скрытосеменные и голосеменные, я не увидел бы, что оно скрытосеменное. Это же относится к другим понятиям: я не увидел бы его внешним, если бы заранее не делил всё на внешнее и внутреннее, и неподвижным, если бы не считал, что есть движение и покой. Эти понятия я должен был не просто заранее иметь, но именно считать соответствующими действительности, верить им; так как я не верю в нимф, одушевляющих реки /наяд/, деревья /дриад/, горы /ореад/ и др., я не могу смотреть на это дерево как на тело дриады.
Почему же я верю одним понятиям и не верю другим? Деление деревьев на скрытосеменные и голосеменные возможно лишь при том условном понятии семени, которое принято в науке. Согласно этому понятию, к семени относятся, во-первых, зародыш, из которого развивается будущее дерево, во-вторых, не всегда имеющийся белок – его пища на первое время и, в-третьих, кожура, защищающая зародыш от неблагоприятных условий. Если бы семенем назывался только зародыш, все деревья были бы скрытосеменными, а если бы сюда относили и плод, в котором скрыты семена в их научном понимании, как и случается в обычной речи, все деревья были бы голосеменными. В том и другом случае понятие «скрытосеменное» отсутствовало бы. Таким образом, я верю ему потому, что пользуюсь научным языком, который рано или поздно становится языком общества.
Далее, понятие движения означает, что одно в одном месте и в один момент и другое в другом месте и в другой момент – одно и то же. Но этому можно только верить, так как не исключено, что одно и другое не имеют ничего общего: может быть, в действительности одно совершенно исчезает и на таком малом расстоянии через такое мало время, что их нельзя обнаружить, возникает подобное ему новое, которое тоже исчезает и т.д., пока не возникает другое. Я верю в движение потому, что отвергаю уничтожение и возникновение, т.е. верю понятию сохранения. Понятие же это навязывается нам языком, которым я пользуюсь: говоря об этих подобных друг другу вещах, разделённых малыми расстояниями и промежутками времени, я в принципе не могу дать им всем различные имена, так что по крайней мере некоторые из них неизбежно называю одинаково; но сказать что-либо можно лишь при условии, что смысл данного слова в пределах одного контекста не изменяется – в различных местах оно означает одно и то же; так получается, что я приписываю вещи сохранение. Именно вследствие того, что я принимаю этот язык, я верю понятиям движения и неподвижности.
Другая неотъемлемая черта моего языка – наличие отрицания. В предложении подлежащее обозначает какую-либо вещь, а сказуемое – некоторое её свойство. Если я верю понятию, выраженному сказуемым, но предложение отрицаю, я тем самым говорю, что данное свойство находится вне этой вещи. Но тогда утвердительное предложение помещает свойство внутри неё, так что вера во внешнее и внутреннее тоже коренится в языке, на котором я мыслю.
Следовательно это дерево как нечто определённое я вижу благодаря моему языку. Подобным же образом без него не было бы определённым и всё, видимое мною в этом мире. Очевидно, я сейчас говорю не о том или ином национальном языке, а о законе, внутреннем складе всех взаимодействующих национальных языков, который может быть назван языком человеческого общества. Язык общества – необходимое условие того, чтобы все его члены могли видеть одно и то же.
То, что для всех одинаково благодаря общественному языку, называется объективным. Сюда прежде всего относятся факты, выделяемые наукой, язык которой всё время вливается в общественный. Но, кроме общественного, есть другие языки, и среди них – обрядовая система Православной Церкви, я буду называть её соборным языком – не в том смысле, что это язык церковных соборов, а в том, что он – язык собрания верующих. Факты, видимые благодаря соборном языку, могут называться тоже соборными; по своей природе это духовные факты. Объективный факт, один и тот же для самых разных членов общества, был бы невозможен без общественного языка. Так же соборный факт, один и тот же для самых разных верующих, невозможен без соборного языка – системы обрядов.
Как видно из предыдущего, я верю понятиям общественного языка не столько потому, что, пользуясь им, прямо их называю – например, говорю о движении и покое или внешнем и внутреннем – сколько потому, что высказываю их косвенно внутренним складом языка. Для утверждения веры косвенные высказывания имеют два преимущества: во-первых, ими понятие высказывается сильнее, так как при этом ясно не осознаётся и потому не вызывает противоречия и сомнения; во-вторых, ими оно высказывается шире, так как при этом я говорю о нём не прямым названием, которое встречается в моей речи лишь изредка, а законом, внутренним складом моего языка, присутствующим в ней постоянно. Так же и с понятиями соборного языка: они при пользовании этим языком принимаются верой не столько в силу того, что в нём встречаются их частичные прямые названия, сколько в силу того, что в основном он состоит из их символов, т.е. тех сочетаний слов и действий, производимых в богослужениях и вне их, которыми эти понятия высказываются косвенно. Таким образом, этими символическими сочетаниями обеспечивается необходимое условие ви́дения соборных духовных фактов, ибо оно так же невозможно без соборных понятий, принимаемых верой, как мирское видение – без общественных. Но здесь нужна оговорка: это необходимое условие обеспечивается только в том случае, если действие соборного языка не аннулируется действием общественного, ведь понятия, создаваемые тем и другим, могут находиться в противоречии.
Подобно тому, как специальный язык какой-либо науки даёт возможность видеть не мир, а лишь производимый ею срез мира, т.е. в каждом предмете – лишь то бесконечно малое, что лежит в плоскости её скальпеля, подобно этому специальный язык какой-либо радикальной христианской теологии позволяет увидеть лишь бесконечно мало в каждом соборном факте. Наука не хочет видеть предмета в целом, открываемого живым разговорным языком, она покидает его для того, чтобы точно и подробно определить одно его сечение. Аналогично обстоит дело и с радикальной теологией: существует язык, открывающий духовные предметы, которых она не хочет видеть, сосредотачиваясь исключительно на их частностях. Это соборный язык, сложная система церковных обрядов. Теолог, совершенно не стоящий на почве Церкви, подобен специалисту-учёному, не владеющему живым разговорным языком и оттого совершенно беспомощному, если только он не за письменным столом, не занят специальными наблюдениями и не участвует в конференции.
Действительно, понятия, определяющие любой духовный факт такого теолога, неизбежно противоречат друг другу – образуют антиномию. Уже поэтому они не могут быть приняты теми верующими, которым, как нетеологам, значение противоречия непонятно. Общий духовный факт этих и других верующих – я называю его соборным фактом – определяется не на философском, а на соборном языке, т.е. понятиями, воплощёнными в обряде. Но это определение, в свою очередь, не внятно радикальному теологу. Таким образом, нельзя говорить о тождестве какого-либо его духовного факта некоторому соборному, хотя отсюда не следует их различие: они могут не находиться ни в каком отношении, т.е. быть и не тождественны, и не различны.
Какие же существуют соборные факты, в каких именно фактах радикальный теолог не может увидеть ничего, кроме частностей? Для одних из этих фактов Церковь даёт лишь понятия, заложенные в её языке, другие получают в ней и существование. Меня интересуют здесь вторые. Я приведу некоторые из них, тем самым назвав необходимые для их ви́дения соборные понятия. Первый пример – совместное вкушение Тела и Крови Христовых. Этот духовный факт, совершающийся в таинстве причащения, радикальная теология может рассматривать как внешнее соединение причащающихся для совместного усилия любви, своего рода сигнал, по которому они употребляют усилие, чтобы актуально любить друг друга. Второй пример – духовное очищение через Церковь, то, что совершается в таинствах крещения и покаяния. Здесь радикальной теологии свойственно видеть лишь символическое выражение Церковью того духовного очищения человека, которое Бог совершает вне всякой связи с её действиями. Третий пример – духовное соединение с женой или мужем через Церковь, факт, совершающийся в таинстве брака. Радикальному теологу этот факт может показаться простой регистраций брака с целью преподания заповеди: «что́ Бог сочетал, того человек да не разлучает» /Мат.19:6/, или замещением в супружеских отношениях Бога Церковью, без чего для достаточно духовных людей они могли бы быть неосуществимы.
Радикальная теология не верит в существование соборных фактов, не верит названным и другим соборным понятиям. Радикальный теолог не станет отрицать, что, если вообще можно говорить о соборных фактах, эта вера необходима для их видения. Но можно ли о них говорить, существуют ли, в частности, совместное вкушение Тела и Крови Христовых, духовное очищение через Церковь и др.? Ведь для их существования и, следовательно, видения вера понятиям не достаточна и может оказаться суеверием.
Кроме общественного языка, для видения объективного факта нужно ещё, чтобы он существовал, был. В основе этого бытия тоже лежит слово, но не моё, а Божье, – то Слово, Которым Он сотворил мир и меня самого. Моё я, бытие которого основывается на Слове Божием, т.е. сотворённое Богом, этим Словом и определено, но существует как определённый факт не для меня или какого-либо другого человека, а только для Бога: только Он видит меня как этот факт, существующий и определённый благодаря одному и тому же – Его Слову. Я.С. Друскин называет его ноуменальным я. В данном случае ноуменальное я есть я невинный, или безгрешный.
Совершенно иное я существует для меня: я вообще не вижу своего существования, так как я не тело, не мысли, не чувства и не какие-либо другие мои свойства или способности; таким образом, нельзя даже сказать, что для меня я сам существую, с моей собственной очки зрения у меня нет бытия и имеется только определённость, создаваемая словом «я». Это понятие, которому я верю потому, что говорю на общественном языке, замещает для меня Слово Божие – сущность ноуменального я. Я, не видящий своего бытия и усматривающий в себе только это местоимение, есть грешник.
Но Бог пожелал дать мне я ноуменальное и послал в мир Своего Сына – Своё Слово, Которым Он сотворил это я и мир, Слово, ставшее плотью. Имея Его, я вижу основанное на Нём бытие ноуменального я, совпадающее с его определённостью, и отождествляю себя уже не со словом «я», а с я ноуменальным – нахожу в нём мою личность. Это я, оправданный Богом, праведник.
Итак, я обретаю себя только при условии, что обретаю Христа. От кого это – от меня или от Бога? Только от Бога, ведь Христос сказал: «никто не может придти ко Мне, если не привлечёт его Отец, пославший Меня» /Иоан.6:44/. И вместе с тем только от меня, иначе Он не сказал бы: «Приидите ко Мне, все труждающиеся и обременённые…» /Мат.11:28/. Но тогда «от Бога» тождественно «от меня» – Божья воля тождественна моей воле. Бог приводит меня к Христу таким способом, что я свободно прихожу к Нему, сотворение меня Богом по Своему образу и подобию и, значит, видящим своё бытие не только не исключает моего свободного усилия для того, чтобы стать Его образом и подобием, но даже совпадает с ним.
Теперь я перейду от моего личного бытия к бытию отношения между мною и моим ближним. Во-первых, оно тоже сотворено Богом через Слово, ведь о сотворении людей в главе 1 Книги Бытия говорится так: «И сказал Бог : сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему; и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землёю, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» /26-27/. Бог, один Бог говорит о Себе во множественном числе, т.е. говорит о Троице, о том, что в создании человека участвуют и Отец, и Сын, и Святой Дух. Уже здесь видно, что у Троицы три равно единице. И человек, создаваемый по Её образу и подобию, должен быть множествен и вместе с тем один, Бог так и говорит о нём – то в единственном числе, то во множественном: « сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему; и да владычествуют они…»; а в конце говорится: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их». Но если я и мой ближний сотворены двумя и вместе с тем одним, значит, сотворено и отношение между нами, которое есть любовь, или соборность. Именно в любви двое представляют собою одного.
Таким образом, как и ноуменальное я, наше отношение есть определённый факт, бытие и определённость которого коренятся в одном и том же – Слове Божием. И так же, как в грехе я не вижу я ноуменального, мы, связанные общественной связью, т.е. мы в обществе, не видим того нашего отношения, которое сотворил и видит Бог. Я буду называть его ноуменальным отношением, в данном случае это то же, что мы в Едеме. Составляя часть общества, мы не видим нашего существования, ибо мы – это не совокупность наших тел, чувств или мыслей, не то, что нас связывает и пр.; мы не находим в себе ничего, кроме определения «мы», которое замещает для нас Слово Божие, лежащее в основе нашего ноуменального отношения. Только в этом Слове, ставшем плотью, Иисусе Христе, нам открывается наше ноуменальное отношение, т.е., имея Христа, мы отождествляем себя уже с этим отношением, а не с пустым словом. Это мы в Соборе, или любви.
Итак, во-первых, отношение между мною и моим ближним сотворено Богом, т.е. Троицей – Отцом, Сыном и Святым Духом, и сотворено оно по образу и подобию отношения между Ними, следовательно, видящим себя. Тождественно ли это сотворение нашему свободному усилию любить друг друга, – подобно тому как сотворение меня Богом по Своему образу и подобию тождественно моему свободному усилию стать Ему подобным? Но что значит «наше усилие»? Каким образом усилие может исходить не от меня или моего ближнего в отдельности, а от нас обоих? Очевидно, для этого мы должны быть связаны, т.е. быть в обществе или в Соборе, так как Едем нам недоступен. В чём же мы должны быть – в обществе или в Соборе? Я, совершающий свободное усилие для того, чтобы стать подобным Богу, есть и грешник, и праведник: грешник потому, что иначе усилие было бы не нужно, праведник потому, что совершаю его. Поэтому же, чтобы совершить свободное усилие любить друг друга, мы должны быть и в обществе, и в Соборе, а это значит быть в Церкви. Но если мы действительно в Церкви, т.е. не только внешне, но и по строю наших душ, мы тем самым уже делаем усилие любить друг друга. Церковь в актуальном смысле этого слова есть, собственно, сакраментальное богослужение, таинство, прежде всего Евхаристия, и наше действительное участие в нём представляют собою свободное усилие любви, исходящее не от кого-либо из нас, а от нас обоих. Таким образом, сотворение Богом отношения между нами – то, о чём я говорю «во-первых», – может быть тождественно лишь нашему участию в церковном таинстве. Существует ли это тождество в действительности?
Здесь следует, наконец, сказать, что же во-вторых. В Евангелии от Матфея есть следующие слова Христа: «И Я говорю тебе: ты – Пётр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её; и дам тебе ключи Царства Небесного; и что́ свяжешь на земле, то́ будет связано на небесах; и что́ разрешишь на земле, то́ будет разрешено на небесах» /16:18-19/. И ещё: если твой брат, согрешивший против тебя, не послушает тебя и не послушает свидетелей, «скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам: что́ вы свяжете на земле, то́ будет связано на небе; и что́ разрешите на земле, то́ будет разрешено на небе» /18:17-18/. Согласно же Евангелию от Иоанна, Христос сказал Своим ученикам после Своего воскресения: «Мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул и говорит им: примите Духа Святого: кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» /20:21-23/. Это значит, что уже одно участие моё и моего ближнего в Церкви, т.е. в церковном таинстве, создаёт любовь, соборное отношение между нами: что́ Церковь связывает на земле, то́ связано на небе. И вместе с тем это наше соборное отношение есть создание одного Бога. Но тогда создание Богом отношения между мною и моим ближним, если оно до Церкви не существовало, тождественно нашему участию в ней. В этом случае Бог приводит нас к Христу, в Котором мы открываем наше ноуменальное отношение, путём нашего участия в таинстве, так что участие это не только не является ненужным ввиду сотворения нашей соборности Богом, но есть с этим сотворением одно.
Их тождество прямо следует из слов Христа «где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них» / Мат18:20/, так как «собраны» означает, что они не сами собрались, а собраны кем-то, но собирать во имя Христово – прямое дело Церкви. Поэтому в словах Христа есть и такой смысл: где двое или трое участвуют в Церкви, там Бог творит соборность, т.е. любовь.
Вообще всё, что я написал об отношении между мною и моим ближним, можно повторить об отношении между мною и моими ближними, сколько бы их ни было; в частности, у всех нас может быть одна любовь, одна соборность. И вполне аналогично сказанному о двоих, создание Богом соборного отношения между всеми участниками таинства тождественно их участию в нём, которое в данном случае, очевидно, то же, что его совершение.
Церковные обряды образуют соборный язык. Таинство есть такой обряд – слово этого языка, – которому тождественно создание Богом соборного отношения между его участниками, состоящего в том, что они видят себя собранными во Христе. Иначе говоря, «произнесение» Церковью этого слова есть способ, которым Бог творит реальную духовную связь между ними. Но это значит, что слову Церкви, называемому таинством, дана сила творения – оно подобно творящему Слову Бога. Но актуально Церковь и есть её таинство. Поэтому о ней можно говорить как о творящем слове. С другой стороны, Иисус из Назарета, в актуальном значении этого имени, есть Слово, Которым Бог сотворил мир. Таким образом, можно также говорить о подобии Церкви Иисусу из Назарета.
Общество, Церковь и Собор живут не в одном и том же времени, т.е. не одинаково представляют его себе – ведь время, присутствующее всем своим протяжением сейчас, есть только представление. Общество представляет себе время как бесконечную в обе стороны прямую, одна из точек которой – настоящий момент. Этот момент, один для всех членов общества, и соединяет их в общественное целое, даже если некоторые из них не могут общаться с остальными. Для общественного единства достаточно, чтобы каждый не терял всецело из виду каких-нибудь часов – наручных, башенных, радиоприёмника или по крайней мере солнца и звёзд – и чтобы все они были согласованы между собою: тогда общество, даже рассеянное по большому пространству, едино – каждый так или иначе отвечает на требование, предъявляемое к нему моментом времени.
Собор, «Царствие Божие, пришедшее в силе» /Мат.9:1/, видит лишь настоящее мгновение, сейчас, т.е. вообще не представляет себе времени. Можно сказать, что для Собора нет прямой, а есть лишь точка, но тогда и её нет, так как подлинную точку видеть нельзя. Если общество представляет себе настоящий момент, то потому только, что в действительности это для него не точка, лишённая размеров, а малый отрезок прямой времени. Итак, у Собора от времени ничего не остаётся; видимое им есть вечность. Но вечность, в отличие от времени, лична: это Христос, соединяющий, собирающий «избранных Его» /Мат.24:31/ в Собор.
Наконец, у Церкви представление времени как бы промежуточное между представлением общества и Собора: для неё время – ограниченный с обеих сторон отрезок, начало которого – смерть и воскресение Христа, а конец – Его пришествие во славе, завершающее мир; одна из точек между ними, вернее, малая часть всего отрезка есть настоящее. Членов общества соединяет настоящий момент бесконечного времени. Участников Собора собирает вечность – Христос. Участников же Церкви, т.е. таинства, связывает настоящий момент времени, имеющего начало и конец, потому что этот момент и есть совершаемое сейчас таинство – акт слова, которым творится их взаимная любовь. Но одни участвуют в этом таинстве в большей степени, другие в меньшей, третьи не принимают в нём непосредственного участия и лишь со вниманием присутствуют, а четвёртым возвещает о нём колокольный звон. И от степени этого участия, т. е. актуальной принадлежности к Церкви, зависит длина представляемого времени, равняясь нулю у принадлежащих к ней совершенно и бесконечности – у тех, кто не принадлежит к ней. Совершенный участник Евхаристии видит только точку, в которой – и принесение Христом в жертву Своего Тела и Своей Крови, и Его окончательное пришествие; он – реальный причастник вечери Христа. Для несовершенного участника жертва Христа отодвигается в прошлое, а Его окончательное пришествие – в будущее, и тем более, чем меньше степень его участия. Наконец, тот, кто находится на границе Церкви, т.е. уже в обществе, теряет Христа в бесконечной дали.
Где бы ни был участник Церкви – в храме, дома, на работе, в пути – он видит себя в таинстве, которое и есть для него настоящее мгновение. Но степень его участия в этом таинстве может быть малой, т.е. промежуток времени от Христа до настоящего мгновения – большим. В этом случае он видит, что от вечери Христовой прошло уже много времени; если к тому же в его памяти – его совершенное участие в Евхаристии, т.е. причастность именно этой вечере, то он говорит: уже много времени я не причащался, пора пойти к причастию. Иными словами, участнику Церкви несовершенство его участия может представляться не только как удаление от средоточия таинства, но и как большое время, протекшее от совершенного участия в нём; ничто не мешает это время тоже считать удалением от средоточия.
Итак, для Церкви время конечно, это эсхатологическое, «последнее время» /1Иоан.2:18/. Церковь есть область внутри сферы, в центре которой – Собор, он же – средоточие всех таинств: совершаемых сейчас, представляющихся прошлыми и будущими. Меньшие сферы, имеющие тот же центр, пусть будут сферами Церкви. Время для какой-либо сферы Церкви – конечное и тем большее, чем дальше она от центра, с приближением же к границе Церкви стремится к бесконечности. Это значит, что сама граница не принадлежит Церкви и представляет собою общество. Таким образом, общество – лишь некоторый предел, к которому Церковь – последовательность её сфер – неограниченно приближается, никогда его не достигая; это сфера «внешних» /1Кор.5:12-13/, к которой, однако, Церковь бесконечно близка – прикасается своей проповедью. Без Христа общество было бы не сферическим, а плоским, и никто не имел бы даже понятия о спасении. Он, собирая «избранных Своих от четырёх ветров, от края земли до края неба» /Мар.13:27/, искривляет плоскость в сферу, окружающую Его как своё средоточие, внутри которой – чувствующие Его влечение и – там же, где Он, в самом центре, – спасённые Им. Те и другие принадлежат к Его Церкви, хотя и в разной степени, и Церковь проповедует спасение «внешним». Она проповедует его уже одним своим существованием, одной кривизной, т.е. формальной христианизацией общества, в котором они живут.



